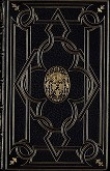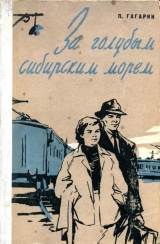
Текст книги "За голубым сибирским морем"
Автор книги: Петр Гагарин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
ГРОЗА
1
Почти все жители села были в поле, убирали хлеб. Улица пустынна. Проковылял, опираясь, на костыль, инвалид войны, новый заведующий сберкассой… Обдавая вонючей копотью дворы, прогрохотал длинный, неуклюжий грузовик (когда кончилась на востоке война, этот трофей колхозу солдаты подарили). И снова тишина. Щиплет короткую, как подстриженную, травку белохвостый, лобастый теленок, да рябенькая курица со своим пискливым семейством хлопотливо промышляет около завалинки. Первый раз за все три года Ружене стало здесь скучно.
Она зашла в библиотеку: книги глянули на нее разноцветными корешками, и Ружене показалось, что ее друзья, словно живые, тянутся к ней, им надоело лежать без движения.
Ружена улыбнулась: «Родные вы мои!» – взяла одну книгу, вторую, третью… В них – Анна Каренина, Аксинья, Наташа Ростова…
Помечтала и стала укладывать книги на место, вслух разговаривая:
– Завтра, завтра, родные, мы опять тронемся в путь, опять к людям, с ними лучше, веселее.
Осмотрев все полки, Ружена села за стол, пододвинула поближе длинный ящик, провела рукой по формулярам, стоящим в плотном строю.
«Вот здесь он сидел, перебирал, перечитывал эти формуляры. Смотрел на пометки, сделанные моей рукой, записывал, спрашивал, улыбался, восхищался и снова писал, писал…»
От этих воспоминаний ей опять грустно стало. Она пошла к себе. Комната ее была в этом же доме.
Села у окна, задумалась. «Вон там мы тогда повстречались. Пожал руку и так посмотрел в глаза! Пошли вон туда – мимо сельсовета, школы, в степь… Если бы он был моим навсегда!..
Потом бы у нас был маленький Павлович или Павловна… Я бы тогда написала домой, в Астрахань: «Милая мамочка, ты теперь бабушка, а я – мама! мама!!!»
Она устыдилась своей мысли, закрыла лицо руками и тихо засмеялась. Долго сидела, положив голову на подоконник, прислушивалась к своему сердцу. Сидела, не шелохнувшись, боялась вспугнуть мечту, которая переносила ее в будущее, в радостную жизнь с любимым человеком.
Она оторвалась от грез, медленно подняла голову и удивилась: в комнате помрачнело. Ружена посмотрела в окно: с севера надвигалась туча. Она, будто, черным крылом, уже прикрыла опускавшееся к горизонту солнце и продолжала расплываться по всему небосводу. Края ее беспокойно клубились, переворачивались. Вот вверху образовалась фигура головы вздыбленного коня, и потускневшее солнце походило сейчас на глаз его. Но недолго смотрел этот глаз на Ружену: разрыв тучи миновал солнце, и оно снова стало заволакиваться мутной пеленой, меркнуть; превратилось в еле видимый полтинник и опять исчезло. Вот лошадиная морда загнулась вниз, растворилась в небе.
А туча спешила к югу, стараясь загородить от света всю эту землю с зелеными лесами, сопками, речушками, стогами сена и скирдами хлеба.
Становилось жутко. Люди закрывали ворота, окна, двери.
А Ружена открыла окно и высунулась: ей хотелось видеть, что же будет дальше, скоро ли упадут первые капли, уж так ли грозна эта туча.
И только она выглянула – огненный нож полоснул тучу сверху вниз и исчез, а она, туча, осталась целой и невредимой, даже ничуть не приостановила своего бурного наступления. Только где-то глубоко под землей прокатился протяжный гул.
«Какая сила!»
Вспугнутый грозой из степи забежал ветер. Он прошумел над крышами, свистнул, запутавшись в телефонных проводах, поднял с дороги столбик пыли и помчался дальше.
Во дворе тявкнула собака; теленок перестал щипать траву и, мыча, затрусил к своему дому; наседка засуетилась, спешно созвала цыплят и нырнула в подворотню.
А грозные стрелы, то там, то тут срывались из поднебесья и вонзались в землю, отчего она гудела, вздрагивала. Все вокруг, казалось, грохотало. Страшно. Но Ружена по-прежнему сидела у раскрытого окна, с жадностью вдыхала сочный, дождем пропитанный воздух, восхищаясь красотой и силой грозовых ударов.
Так бы, может, и просидела она до конца грозы, любуясь ею. Но вдруг не где-то в степи, а над самой улицей со страшным треском и грохотом взорвался огненный шар.
Дом встряхнуло. Ружена откачнулась от окна, ощупала лицо, руки – ей показалось, что взрыв опалил ее.
«Какой ужас! Где-то он сейчас, не в дороге ли? Павел, где ты?»
2
Дмитрий Алексеевич зашел к Николаю Голубенко и пригласил его к редактору:
– Идем, посоветуемся всем треугольником. Надо же решать.
Ряшков прочитал заявление и в душе обрадовался: «Ага, все о других, а сам… Хорош гусь».
– Вот, носитесь с ним, а он…
– А что он? – уставился на редактора Голубенко. – Что он? Одни подозрения да предположения. У женщин глаза велики.
– Да нет, Николай, грешок-то у него есть, – мягко возразил Шмагин.
– Где автор заявления? Позовите, пусть расскажет, – предложил Ряшков.
Пригласили Любу. Немножко смущаясь, она заговорила:
– Не подумайте, что слежу за ним. Просто… девушки из радиовещания мне сказали, что Аня стала грустная, а однажды даже всплакнула. Они встревожились. Позднее выяснилось, что муж встречался с Руженой. Меня это возмутило. Как это можно? Жена беременная, а он за другими ухаживает…
Ряшков посматривал на Любу и довольно попыхивал папиросой. Глаза его улыбались.
Голубенко ерзал на стуле, порываясь перебить Любу, но Шмагин осаживал его:
– Да погоди ты, погоди.
Выслушав Любу, Шмагин сказал, что созывать по этому поводу собрание нет оснований. Достаточно поговорить с Грибановым.
– Это что, опять скидка новичку? – возмутился Ряшков. – Или… просто дружба?
– При чем тут дружба? – разозлился Шмагин.
– А как же? Коммунист шляется где-то по ночам, а парторганизация…
– Но что за преступление, – возмутился Голубенко. – За что обсуждать?
– Ну это уж… как хотите, – отрезала Люба. – Я не могла промолчать, а вы…
– Нет, вы хорошо сделали, – поддержал ее Ряшков. – И нечего Грибанова выгораживать. Он должен понести наказание.
– Мы его не выгораживаем, но персональное дело создавать пока нет оснований. Это факт, – твердо заявил Шмагин и встал.
С тем и разошлись.
3
Грибанов пообедал и снова пошел в редакцию.
Погода менялась. Ветер метался по городу, взвихривал пыль.
Павел натянул поглубже шляпу, поднял воротник.
А ветер свирепел. Вот он налетел на железную крышу, рвал ее, взвизгивая от злости. Она вздулась упругим пологом, но держалась. Тогда ветер кинулся вниз, сорвал с мужчины фуражку и запустил ее колесом по улице.
И не успел еще мужчина прийти в себя, как ветер – вон уже где! – озорно и дерзко швырнул кверху шелковистый девичий подол, дзинькнул форточкой зазевавшейся хозяйки, поднял с дороги тучу пыли, мгновенно скрутил ее в жгут высотой с пятиэтажный дом…
Грибанов стряхнул с костюма пыль, протер запорошенные глаза и только шагнул в дверь своего кабинета, как ему на пороге Николай Голубенко повстречался.
– Вот он! Ищу, ищу… Идем на беседу. На-редактировал там… – Павел покраснел.
4
Домой шли вместе.
Николай обхватил руку Павла выше локтя и держал крепко, словно опасался, что убежит. Шел и сам вполголоса отчитывал Грибанова:
– Ты, Павел, знаешь меня. Люблю тебя, как друга. Но сегодня хотелось тебе морду набить. Посмотришь, на работе – стальной человек! Ты же, море зеленое, в гвардии сражался. В гвардии! А тут… Это же, ну… одни разговоры. А для нас, журналистов, честь, сам знаешь.
Павел слушал друга и молчал. Что было говорить! Он сам давно это понял. Он, конечно, виноват перед Аней… Все ясно, а вот сердце…
«Но нет, Никола, я гвардейской чести не уроню, нет. Качнулся малость, бывает, теперь нет…
Эх, гвардия, конная гвардия!.. Сталинград, Дон, Новошахтинск, Миус, Смоленск, Беларусь – партизанский край.
Как там читали на ходу написанные стихи:
Вставай, Беларусь!
Кровью запятнанная…
Тогда мечтал о мире, о своей семье, боролся, а вот создал семью и… Ах, как это все получилось!.. Трудно…»
– Ну что ты молчишь? – дернул Павла Николай.
– Нет, нет, я слушаю тебя, спасибо.
– А я уж думал – дуешься. Смотри. Ну, давай пять. Иди домой. Да нос не вешай, море зеленое…
Николай исчез в темноте.
5
Ружена закрыла дверь на крючок, разделась и легла на кровать.
Когда гроза буйствовала здесь, над селом, тогда по крыше и по стеклам хлестал крупный, косой дождь, а когда гроза ушла в степь, к сопкам, пошел спокойный, мелкий. Вот уже и село давно уснуло, а дождь потихоньку все шел да шел, монотонно шуршал по листве тополя… Казалось, сама земля шепталась с дождем, боясь выдать свои секреты…
Только одна струйка, сбегая по желобу с крыши, звонко журчала.
Закрыв глаза, Ружена прислушивалась к этой веселой струйке и думала свою думу:
«…Или все-таки встретиться, поговорить? Если любит меня, значит – не любит ее. Разве это жизнь! Может быть, его счастье здесь, а не там!
Вместе бы – на всю долгую-долгую жизнь. С тобой, Павлуша, я хоть на край света.
И жили бы – Павел, я и… маленькая Павловна…»
А гроза где-то уже далеко, за селом, но все еще сердится: то грохочет, то урчит.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЕГО ВЫДВИГАЮТ
1
– Опять о музее? Вот привязался… – Щавелев посмотрел на Ряшкова, блеснув плотными белыми зубами. – Большая статья?
– Полполосы.
– О, видишь! Рад весь гонорар захапать. Н-да…
Щавелев молча стал ходить по кабинету, сцепив пальцы рук на животе, словно поддерживая его. Ходил и рассуждал сам с собой: «Если в этом отделе будет – крови попортит… А что если бы… Но нужно ли об этом говорить прямо?» Остановился, взглянул на редактора.
– А как у вас отдел пропаганды?
– Вы перехватили мою мысль, – Ряшков даже приподнялся в кресле. – Я уж думал Вениамин Юрьевич. Выдвинуть его в отдел пропаганды. Его же сразу туда рекомендовали. Помните? А Крутякова – к вам, лектором.
– Грибанова в отдел пропаганды? А как он там?
– Мы же планируем этому отделу материалы чисто теоретические, календарные. Скажем, третий съезд РСДРП или там, партия большевиков в борьбе за индустриализацию страны… В основном, работа над первоисточниками.
– Ну, смотри… А кого же вместо него?
– В отдел культуры и быта? У меня есть кандидатура. Из пединститута. Человек толковый, тихий. А таких надо выдвигать. Зубастые сами себе дорогу пробьют.
Щавелев сел. Кресло жалобно простонало под ним. Собеседники долго молчали. Хозяин кабинета смотрел в окно, что-то обдумывал. Его прищуренные глаза за квадратиками пенсне блестели. Ряшков понимал этот блеск: рад, одобряет.
– Что ж, так и порешим, – заговорил, наконец, Щавелев. – Отдел пропаганды в редакции укрепить надо. Пиши представление, а я заготовлю проект решения. Думаю, что бюро согласится.
И он крепко пожал редактору руку.
2
Грибанов сдал Армянцеву последние материалы и стал складывать, убирать в стол свои папки. Володя Курбатов надевал плащ, Люба прихорашивалась, вертя головой перед зеркалом величиной с пятак. Переговаривались, шутили: настроение у всех было приподнятое, как всегда у людей, хорошо закончивших рабочий день.
Зазвенел телефон.
– Прошу зайти, – услышал Павел голос редактора.
Ряшков встретил его радушно. Предложил папиросу, хотя давно знал, что Грибанов не курит.
Павел насторожился.
– Вы, Павел Борисович, на новом месте неплохо проявили себя, – начал он. – Редакция и обком, прямо скажу, вами довольны. Отдел культуры и быта вытянули. Это хорошо. – Грибанов слушал и удивлялся: откуда взялась такая доброта и зачем она. А Ряшков продолжал: – Теперь нам надо усилить отдел пропаганды. Кстати, и Крутяков от нас переводится.
– Ну и что же?
– Обком решил вам доверить отдел пропаганды. Вопросам идеологии, сами знаете, сейчас…
– Спасибо за доверие, но я пока из этого отдела уходить не намерен.
– Почему же? Отдел пропаганды текучкой не загружен, сиди целый день, читай, пиши, твори. Это вам как раз. Вот у вас с музеем… Историки читали.
– Забраковали, одобрили? – Павел подался всем корпусом вперед, сжав край стола так, что побелели пальцы.
– Да… нет, но, говорят, почистить надо и… сократить, углубить. В общем, сейчас рукопись в обкоме. Надо поработать еще над ней – хуже не будет.
– Поработать над рукописью можно, но в отдел пропаганды я не пойду.
– Вам же легче.
– Пусть будет легче, но я не пойду.
– То есть как не пойду? Партия…
– Вы партией не козыряйте. Я не школьник. На отдел культуры и быта меня кто поставил, не партия, что ли? Не успел освоиться, а вы уже о каком-то переводе помышляете.
– Это же в интересах дела. Ответственный участок. Не забывайте, что мы здесь партийную газету делаем, а не бочки катаем. ЦК требует укреплять эти участки работы, а вы… Это политическая незрелость.
– Нашу зрелость проверим в парторганизации.
– В какой?
– В нашей. Она скажет.
– Ах, вы вон о чем! В таком случае разговаривайте с обкомом сами. Но надо помнить, что мы – солдаты партии.
– Солдат партии – не пешка, – громко сказал Павел. – Это тоже надо помнить.
– Да вы не кричите, не кричите. Я имею указание и действую. Хотел бы видеть вас на моем месте. Сидит этак важно редактор, ему звонят из обкома: сделайте то-то и то-то, а он так вот высокомерно смотрит и говорит: а я еще подумаю. – Ряшков сделал паузу, взглянул на Грибанова. Тот, нахмурясь, смотрел в пол, молчал. – Может быть, вы не верите мне, тогда идите к заведующему отделом пропаганды и агитации обкома. Он скажет.
– Я в обком пойду, но не к Щавелеву.
– Дело ваше. – Ряшков медленно поднялся со стула, давая понять Грибанову, что разговор закончен.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
КОРЕНЬ ЗЛА
1
Шмагин проверил оттиск своей подборки на первой полосе и от удовольствия потер руки: «Завтра прочитают! Тут уж не только информация о рекордах. Вот зарисовка о шахтерах. Капитально».
Он снял с крючка шляпу, надел ее, шагнул к порогу и снова остановился. Потрогал очки, словно проверяя, тут ли они, задумался: «Вроде неплохая. Авторская. Показаны передовики подземелья. Резервы? Это, пожалуй, надо было углубить. Но всё под один заголовок не впихнешь», – заключил он, стараясь подбодрить себя.
Закрыв свой кабинет, Шмагин заглянул к ответственному секретарю. Армянцев стоял в углу комнаты и читал стенную газету, которую вывешивали теперь не в коридоре, а в секретариате.
– Что, свежинка, Сергей Андреич?
– Да, да, зайди, Митя, почитай, касается.
– Меня?
Шмагин подошел ближе к «Журналисту», стал читать.
«…телеграфными и телефонными сообщениями переполняет газету. Редко бывают статьи перспективные, проблемные, отдел мало дает глубоких критических материалов…
Заведующий отделом, он же секретарь парторганизации…»
– Да… здорово! – Шмагин попытался улыбнуться, но улыбки не вышло.
Снова стал читать.
«Правда» указывает, что газетная оперативность в показе достижений передовиков нужна не только для того, чтобы создавать ореол славы и почета вокруг героев, – это тоже очень важно, – но также и для того, чтобы быстро распространять опыт лучших и вооружать им всех. Наша газета кричит о передовиках, но не раскрывает, не показывает их опыта. Замалчивать новые методы труда передовиков – преступление».
«…Газета по существу поощряет штурмовщину, прижившуюся на некоторых предприятиях еще в годы войны».
Дмитрий Алексеевич дочитал статью, подошел к Армянцеву.
Угостил его папиросой, закурил сам; движения его – неторопливые, виноватые; говорил он медленнее, чем обычно, приглушенным голосом.
– Что ж, верно сказано.
– Я думаю. – Армянцев улыбнулся. – Фактами бьют. Вопрос очень серьезный. Этим страдают все, не только промышленный отдел. Болезнь общередакционная. Вот на собрании обсудим, вскроем корень зла.
– Это верно, верно.
– Сельскохозяйственников наших еще похлеще разделали.
– Где? – несколько оживился Шмагин.
– Да вот, справа.
– О, а я и не заметил.
2
На другой день перед началом работы сотрудники собрались в секретариате у свежего «Журналиста» с большим сатирическим уголком «Тяп-ляп».
Володя Курбатов ходил по коридору, поблескивая лысиной, радовался. Ему, как редактору, было приятно, что этот помер газеты получился остроумный и что все время около него толпится народ.
Вот к газете протискался Голубенко. Пробежал глазами по первым строчкам и улыбнулся.
«Чудеса под пером»
(Почти быль)
Всеми уважаемый зав. сельхозотделом Гусаров усиленно искал материалы на животноводческие темы. Рылся в своем столе и… «Ба, нашел, нашел, кажется», – прошептал он и начал читать:
Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своих удил?
– Так, так, – обрадованно заговорил Кузьма Ильич сам с собой, – что-то о живом тягле, кстати, кстати…
Али я тебя не холю.
Али ешь овса не вволю…
– Гм… Не редакционный автор, а здорово пишет. Толково! – вслух размышлял Гусаров. – Только неясно: чей же это конь. Колхозный? А может быть, дело происходит на конезаводе…
– Ваня, – крикнул он сотруднику своего отдела Везюлину, – вот корреспонденция привлеченного автора, критическая. Наверное, залежалась в отделе писем, осовремень ее, обработай, используем в животноводческой подборке.
Везюлин прочитал стихи, почесал затылок, улыбнулся:
– Н-да… Но ведь это же, кажется…
– Давай, давай, – торопил Гусаров, – чего там кажется. Секретарь ждет в номер.
– Ага, ну тогда… – и он смело взялся за перо.
Голубенко фыркнул, оглянулся: рядом стояла Люба. Стал читать дальше.
– А почему он вдруг заржал? – вслух начал размышлять Ваня Везюлин. – Ржет, наверное, пить хочет?
Перо побежало.
«Что попьешь, мой конь ретивый… И с чего это вдруг колхозный конь шею опустил? Надо подбодрить его, – подумал Ваня. – И вообще шею выбросить. Зачем лишняя деталь будет путаться тут. Напишу хотя бы вот так:
Что попьешь, мой конь ретивый?
Пей, колхозный жеребец!
Борони, махая гривой,
Добывай стране хлебец!
Люба, зажав рот, юркнула в свой кабинет. Голубенко продолжал читать:
Но вдруг Везюлин остановил бег своего пера, подумал: «Хлебец-то, хлебец, а стихи тут к чему? Прозой надо! Яснее скажешь, больше строк выйдет». И он быстро начал строчить:
«На поле заржал конь.
– Что ты ржешь, мой конь ретивый? – спросил его конюх. – Может, хочешь водицы испить? Испей, испей.
Конюх знал, что заботливый уход за конем во время посевной решает судьбу боронования.
Конь попил, но продолжал по-прежнему надрывно ржать. Он, видимо, в условиях данного времени хотел овса, но овса не было. Колхоз нерационально использовал корма, не оставил надлежащего резерва на время ответственного периода весенне-посевной кампании. И вот вам вопиющий факт.
Да, о расхлябанности в колхозном руководстве говорит нам ржание этого колхозного жеребца. Такое ржание в дальнейшем нетерпимо. Куда смотрит правление колхоза?»
Гусаров прочитал заметку, встрепенулся от радости:
– Вот это нам и надо. Неси на машинку.
«Было ли такое?» – законно усомнится читатель.
Дело, товарищ, не в стихах, не в заметке, а в правке, в стиле работы отдела. Пушкин, конечно, не обидится на нас. Это мы просто домыслили. Но селькоры на вас обижаются, товарищи из сельхозотдела. Ведь авторы из колхозов и совхозов зачастую не узнают своих материалов: то они изрезаны, то из них критика вычеркнута, то водой разбавлены – такова литературная правка!
Дорожить рукописью автора, как живой тканью мыслей советского труженика, оберегать его стиль. Больше чуткости. За глубокую критику в газете, за яркий показ всего передового, прогрессивного!»
В кабинетах редакции все еще было шумно: журналисты громко обсуждали свежие материалы стенгазеты, смеялись.
Смеялись и сожалели, что перо фельетониста не коснулось редактора. О нем – ни слова.
Тут Володя остался верен себе – он все еще выгораживал Ряшкова.
3
Собирались на закрытое партийное собрание. Коммунисты входили в кабинет редактора, садились и вполголоса, а то и шепотом перебрасывались отдельными, ничего не значащими фразами. Мысли журналистов были заняты предстоящим разговором о самом главном в их жизни: о борьбе за пятилетку.
Особенно неспокоен был Грибанов. Он знал, что речь будет идти не о нем, но все-таки…
Шмагин тоже волновался: то брал список коммунистов и уж в который раз просматривал его, то рылся в своей папке и снова возвращался к списку, время от времени посматривая на дверь.
Ряшков сидел в глубоком кресле возле своего стола и читал «Правду», делая вид, что собрание его не волнует. Однако в газету он смотрел мало, все больше – на сотрудников да на секретаря парторганизации, который сейчас сидел за столом редактора.
Перед самым началом собрания Ряшков дернулся всем телом, начал ощупывать карманы: «Партбилет… А если Шмагин, как в прошлый раз, скажет: «Проверьте друг у друга партийные билеты…»
Он выскочил в приемную, набрал номер домашнего телефона и, прикрывая трубку ладонью, озираясь, заговорил:
– Алло, алло, Идочка, партбилет, партбилет… У нас собрание. Да, да, в комоде. Что? Некогда? Да ты понимаешь… Ну ладно. Пришлю машину.
Пришел раскрасневшийся, тяжело дыша, сел на свое место и снова зашуршал газетой, ничего не видя в ней.
Последним неторопливо вошел Гусаров.
Шмагин встал, обвел глазами комнату. Впереди, у самого стола, сидели Грибанов, Курбатов, Голубенко, Люба, слева – Крутяков, Сергей Андреевич, справа в мягком кожаном кресле утонул Ряшков. Дальше расселись другие сотрудники редакции.
Когда начали утверждать повестку дня, в двери показалась голова шофера Лисичкина. Ряшков бросился к нему и вытолкнул его в приемную. Через минуту, уже с партбилетом в кармане, Иван Степанович спокойно прошел к своему креслу.
Собрание началось.
…Докладчик говорил все смелее. Его жесты, голос, скупые, но весомые слова держали собрание в напряжении.
Он рассказал о стройках пятилетки в стране и в своем крае, о задачах печати, о необходимости все шире развертывать в газете критику и самокритику, беспощадно бороться с явными и скрытыми саботажниками. Он резко говорил о недостатках в газете, критиковал коммунистов, особенно Ряшкова.
В заключение докладчик сказал:
– Коммунизм надо не только приветствовать, его надо строить. И поэтому мы сейчас перед каждым должны поставить вопрос так: если ты вскрываешь недостатки, борешься с ними, двигаешь дело вперед, – значит ты с нами; если ты замалчиваешь провалы, прячешь их, – значит ты сдерживаешь наше движение вперед. В жизни, товарищи, есть только два пути – третьего не дано.
Это партийное собрание было на редкость шумным. Выступали один за другим.
…Потом поднимается Сергей Андреевич Армянцев. Он еле сдерживает себя. Сильно злится на промышленный отдел, на редактора: живем, лишь фиксируя события, мало ставим перспективных и проблемных вопросов, забыли об экономике, приглаживаем…
Уже повернувшись к своему стулу, обдав Ряшкова взглядом строгого осуждения, Армянцев заявил:
– Одним словом, так работать нельзя. Пора понять…
– Что это, угроза? – ехидно спросил у него редактор с деланной улыбкой.
– Нет, это – требование партий. Оно касается и нас и вас.
Выступают Везюлин, Люба, Крутяков, Гусаров. Они критикуют Шмагина за недостатки в работе, критикуют Курбатова за то, что он не нашел в стенгазете места для Ряшкова, резко говорят о поведении редактора.
Ряшков сидит, низко склонив голову, и то спокойно выводит на бумаге какие-то угольники, квадраты, лабиринты, то усиленно чиркает карандашом, затушевывая их. А мысли бешено, вскачь несутся и несутся. Он, быть может, впервые сегодня так глубоко почувствовал, что сам виноват. Сам! «Думал, все могу, все!.. Защищал этого, льстил ему…»
А голоса звучат все злее. Щеки редактора горят, словно от хлестких ударов.
– О его поведении не раз говорили. Не послушал. Вот сегодня Везюлин сказал: «Наш редактор не пропускает критические материалы, потому что сам критику не любит». А ее любить не надо, вредно. Ее понимать надо. Хочешь другу добра – критикуй его, учи. Я так понимаю. – Эти слова Голубенко произнес особенно громко.
Ряшков поднял голову, взглянул на Голубенко и тут же опустил глаза, снова стал рисовать замысловатые лабиринты.
Докладчику дали заключительное слово.
– Что говорить? Выступления были деловые, принципиальные. О равнодушии здесь говорили правильно. Это в нашем деле – самое страшное зло. За ошибки надо осуждать, но за равнодушие – наказывать. Словом, прения были на уровне. Разве только о Ряшкове несколько слов. – Постоял, подумал, переминаясь с ноги на ногу. – Вот вы, Иван Степанович, часто обкомом потрясаете, за Щавелева прячетесь, а Щавелев и обком – не одно и то же. Вот и сегодня все о вас говорили прямо, в глаза, а вы отмолчались. На что это похоже. Это – своеобразный зажим критики.
– Товарищи! Редактору поручено формировать общественное мнение. Я думаю, сегодня запишем в протоколе, что товарищ Ряшков потерял моральное право быть редактором.
В руке Ряшкова хрустнул карандаш. Отшвырнув кончик графита, редактор сунул карандаш в карман и уставился на Шмагина, всем своим видом как бы говоря: «Ну, что ты еще скажешь?» По его лицу начал разливаться густой румянец.
Шмагин достал платок, провел им по лбу, по щекам, аккуратно свернул его, стараясь делать это с подчеркнутым спокойствием, но мелкая дрожь в руках выдавала его. Потом поправил очки и уже тихо, вполголоса добавил:
– Товарищи! Я в последнее время много думал. Накипело. И раньше видел, нервничал, но долго молчал. Думал, редактор поймет, одумается. И правильно меня поругали за медлительность. Спасибо вам. От души говорю, искренне. Дальше так работать нельзя.
Теперь следовало обсудить и принять решение, но поднялся Ряшков и уверенно пошел к столу.
– Прошу несколько слов, – заявил он.
– Прения закончены, – спокойно сказал председательствовавший Грибанов. – Что же вы раньше молчали? Вас же просили.
– Но я все-таки… руководитель… И как-то уважать надо.
Это возмутило товарищей.
– Здесь вы такой же коммунист.
– Вы и теперь ничего не поняли.
– Хватит, хватит, давай проект решения… – раздавались в комнате голоса.
– Ну, хорошо, пусть будет по-вашему. А о моем моральном праве, товарищ Шмагин, мы поговорим в обкоме.
4
Собрание давно кончилось, все разошлись, а Ряшков все сидел в своем кресле, уставившись в одну точку. Сидел и как будто слушал музыку осеннего ветра, который забрался в вершины тополей и тихонько шуршал листвой, дребезжал расколотым стеклом в окне да чуть слышно гудел, запутавшись в телефонных проводах. Но всего этого не слышал редактор, его мучила назойливая мысль: «Не уйти ли? Лучше уж лектором…»
Действительно, Иван Степанович Ряшков был неплохим лектором. Умел читать вдохновенно, с пафосом, убедительно.
Его всегда хорошо слушали, ему аплодировали…
Когда шоферу надоело ждать, он открыл дверь и подчеркнуто громко сказал:
– Машина готова.
Ряшков вздрогнул.
– А… Лисичкин?
– Поехали, поздно уже.
– Сейчас, сейчас. – Взял трубку, вызвал квартиру. – Как ужин? Ну, хорошо, подогревай. Стопочку приготовь. Что? Да, опять. – Стукнул трубкой о рычаг.
– Поехали на вокзал.
– На вокзал? Это зачем же?
– В ресторан. Перекусим.
Машина, плавно раскачиваясь, понеслась по пустынной улице к вокзалу.
На этот раз Ряшков и за рюмкой не нашел покоя. Вино показалось ему противным, дважды пытался пить и не мог: перед глазами все еще было собрание. Редактор даже удивился, когда его шофер ловко вылил в рот свой стакан и стал с жадностью уничтожать закуску.
Иван Степанович курил одну папиросу за другой; затянувшись, он широко раскрывал рот, и тут же с силой, сердито выдыхал дым из себя.
И уж, видимо, так человек устроен, что в трудные минуты жизни, он начинает анализировать свои поступки, добираясь до главного: где же он совершил первую, самую большую ошибку, откуда он начал свой неверный путь?
…Отец Ивана Степановича – крупный конструктор машиностроения – в те трудные годы создания советской индустрии дни и ночи проводил на заводах, в конструкторских бюро Москвы. Сын редко видел отца, рос с матерью, а та его баловала, ни в чем никогда ему не отказывала, ограждала его от малейшего домашнего труда.
Дни у Вани катились легко, беззаботно. Среднюю школу окончил с горем пополам.
Когда семью постигло несчастье – при испытаниях новой машины погиб отец, – Ваня два года проболтался, потом попытался учиться в институте, не смог, бросил. Работать пойти, а кем, куда?
И он решил покинуть столицу. Вместе с комсомольцами уехал на Восток. Его расчет был прост, но заманчив: где-нибудь в необжитом уголке малолюдного края показать себя, уцепиться за жизнь и… деньги, положение, машина! Плестись по земле тихо и незаметно? Нет. Отец же смог…
Мамин сынок не знал тернистого пути отца, он знал только его оклад, почет, машину. Ему снилось все это.
Первое время работал в сельском райкоме комсомола. Здесь его приняли в партию. Поступил учиться на заочное отделение педагогического института. Через год сумел перевестись на дневное – из «прозаического» села вырвался в областной центр.
И зачеты аккуратно сдавал (тут уж он старался!), и на собраниях часто выступал… Его заметили, оценили. Оставили на кафедре.
Потом – война. Был дважды ранен.
После демобилизации – в родной институт. Преподавал историю, руководил месткомом, а затем его избрали секретарем парторганизации института. О проведенных мероприятиях аккуратно сообщал в горком и в отдел пропаганды и агитации обкома партии.
Почти во всех отчетах его хвалили: В областной газете появилась статья «Партбюро института и вопросы воспитания студенчества». Вслед за ней – вторая: «Знания – в массы», затем – третья…
В городе о нем заговорили. На торжественных заседаниях, на собраниях актива Ряшкова стали избирать в президиумы.
В 1947 году заместителя редактора областной газеты послали в Москву на учебу. Кого на его место?
И Вениамин Юрьевич Щавелев предложил Ряшкова – «растущего партийного работника, знатока теории».
Ряшкову на бюро сказали: редактор опытный, коллектив в редакции хороший, овладевай газетным делом, расти.
Первое время он вел себя скромно, говорил товарищам: «Я не газетчик, я человек науки. Учите меня своему делу».
Начал учиться, работать. Так бы, может, и рос постепенно, но тут скончался редактор, умер прямо в автомобиле от разрыва сердца.
…И Ряшков стал подписывать газету.
Вскоре редакция получила новенькую «Победу».
Ряшков разъезжал по городу, отбывал куда-то в районы, читал лекции, получал за них деньги.
Все меньше оставалось времени для газеты. Однако при случае он не прочь был возвысить свою роль в газете и умалить роль давно сложившегося, способного коллектива.
Ряшкова по-прежнему избирали в президиумы конференций и собраний. Правда, иногда Щавелев вызывал его, чтобы пожурить, но громко о нем не говорил, оберегал: нельзя же своего выдвиженца.
…Ряшков курил одну папиросу за другой. Все чаще откусывал кусочки бумажного мундштука, скатывал из них шарики и бросал. Потом сунул окурок в пепельницу, смял его и решительно встал.
– Ну, хватит. Домой пора.
Когда «Победа» подкатила к дому, он вышел из машины, даже не попрощавшись, и сердито хлопнул дверцей.