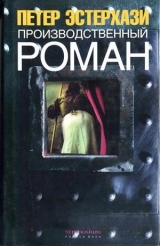
Текст книги "Производственный роман"
Автор книги: Петер Эстерхази
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Мастер вырос, по этому поводу он не радуется, но й не печалится. «Есть не хочешь?» – «Ну, мамуля, если чего-нибудь вкусненького?Чего-нибудь легенького». —«Есть хлеб с вареной колбасой», – сказала мать, опустив глаза. Мастер махнул рукой. «Давай». Да-да: отношения между матерью и сыном могут быть только такими. В этом духе. Мое грандиозное начинание – величие которого не что иное, как отбрасываемый мастером солнечный зайчик, – несколько повернулось вокруг своей оси: пишу о себе: мать мастера подошла ко мне и сказала: «Петер». Она предпочитает звать меня так, а не Йоханом. «Петер, это обязательно?» Я с большим почтением разговаривал с седеющим, чрезвычайно симпатичным существом, которое то и дело оказывало мне помощь в виде хлеба с жиром, да и множества других вещей, за что я должен ее поблагодарить. «Поверьте мне, любезная мадам, ваш сын благодаря этому станет лишь более велик». – «Ну конечно, да, – сказала она невнимательно, – но это… то, что здесь написано… как-то так нелитературно…» Не стану отрицать, мне тяжело было это слышать. Однако кто переносит слова упрека с легкостью? Кто? «Мадам, это не может быть точкой зрения», – ответил я тихо и склонился над ее покрытой бледными венами, тонкой, с прозрачной кожей, увядшей от многочисленных стирок, чудесной рукой и поцеловал ее. Она опустила глаза, ее лицо, которое было уже несколько одутловато от времени, печально лоснилось. Она чуть не плакала, как это часто случалось в последнее время. «Только будь осторожен», – сказала она затем. Я очень ее люблю, ведь она все-таки мать мастера!
Главная мышеловная машина была хитроумна, в силу своей простоты. Горшок и орех!Подпертый грецким орехом горшок на листе картона: только и всего. «А скажи-ка, прекрасная моя мама, сработа-а-ает?» – «Да». Это все же не так просто, я знаю. Потому что грецкие орехи, в силу самопроизвольного движения (?), за ночь сдвигаются, а горшок, бум-м! падает. Отец, как вы понимаете, продолжает спать как сурок, но чуткая мать испуганно-настороженно всхр-вхрапывает. «Что это?! Кто это?! Ну же! Петердьердьмихаймарци! Это ты?!» (Многое из этого случиться не может! Мастер переехал, господин Дьердь с утра до ночи работает, господин Михай в венских краях, а господин Марци ведет спортивный образ жизни. «Вы на это полюбуйтесь, друг мой! Футбол, Кабак, Вена, Литература: кто бы мог сказать что-нибудь другое?»)В оправдание будет сказано, что к тому времени – к концу нашей тирады – добрая женщина -вновь спит. Однако затем утро! Кровожадное прислушивание утром! «Скребется, это точно, скребется!» Палач – господин Дьердь. Исполинскими ручищами он хватает горшечноореховомышинокартонную композицию и затем один соответствующий ее элемент (мышь!) профессиональными движениями топит в воде. Господин Марци, душа более чувствительная, вцепившись в брюки господина Дьердя, плачет, умоляя оставить бедняжкам жизнь. «Не надо, не надо!» Но господин Дьердь высвобождает свою ногу из объятий поблескивающих зубов господина Марци и делает свое дело. А господин Марци с тоской опускается в кресло, чтобы найти утешение в одной или другой из своих любимых книг. (Господин Марци читает две книги: «Железную пяту» господина Джека и желтую книгу господина Дежэ. Больше ничего. Иногда мастера, из приличия.) Как-то раз, например, господин Дьердь заметил, что в штанине повешенных напротив кровати на дверь брюк «шебуршится дикий зверь». Господин Дьердь нащупал свой старый добрый «Смит и Вессон» 38-го калибра, тапок [68]68
Уй-й! Задним числом проверяя, исправляя текст и испытывая стыд при взгляде на него, замечаю, что слово «тапок» встречается уже который раз! Но тогда это мотив!Но тогда это искусство. Вот как! А ведь я не хотел. Наверное, я счастье-писатель: записываю себе, что так, мол, и так… и пожалуйста: снова тапок! Когда я говорю. – искусство, то хвалю не себя, а мир: за то, что в нем тапки располагаются так, что рано или поздно становятся мотивом. Надеюсь, что таким образом не извратил идею.Прим.: про «Смит и Вессон» я пошутил.
[Закрыть]и, подкравшись к двери, ужасающим движением жахнул выцветшим вельветом по коленке и стал давить, выдавливать дух вон. Чуть погодя он уже нес трупик на тапке, как на щите. «Со щитом или на щите», – сказал господин Дьердь, у которого было классическое образование, и от его тополиных шагов гудел дом. «Ой, какая хоесенькая», – вздохнул господин Марци уже во второй раз на своем веку, показывая на мышь. «Дохлая», – просветил его господин Дьердь. «Жалко».
Итак, в то обещавшее быть ясным сухое утро позднего лета мастер, выйдя из ванной, озабоченно остановился перед кухней. Он шаркал куда-то в своих кедах, погруженный в думы, наконец у кухни принял решение. (Выбор был правильным: пока он выйдет за газетой, вода для чая вскипит.) С третьей спички получилось зажечь плитку, и он поставил воду для чая кипятиться. Сходил за газетой. Мастера охватила секундная паника: а бросил ли почтальон («мальчишка-почтальон») им в ящик «Нэпшпорт». «Иногда забывает, хотя все реже». Свежий воздух подействовалосвежающе. «У меня лицо просыпается». Лицо мастера проснулось. Для этого времени года погода стояла прохладная, как настоящим осенним утром (когда светит солнце). В медленно поднимавшемся тумане, как на картинах Ренуара, предчувствиями выплывали и скрывались предметы, люди. Неопределенность уравновешивалась тем, что благодаря туману и прохладе «друг мой, стал виден воздух». Я бы не хотел здесь надолго задерживаться,но, если нам позволят, давайте представим себе его на мгновение в тисках двусмысленностей, перед почтовым ящиком, со сложенными газетами под мышкой, в пижамных брюках с чуть короткими штанинами (которые он на себе немного перевернул, чтобы ширинка – пардон, пардон – находилась не в отведенном ей месте и, таким образом, не возникло никаких ляля с каким-нибудь попавшимся навстречу соседом), одной рукой он стягивает воротник пижамной рубашонки, где не хватает верхней пуговицы, одной рукой, как обычно, роется в чужом ящике в поисках чужой газеты, которую затем невероятно быстро и смущенно пробегает,все более свежеющее, хотя еще довольно полосатое с ночи лицо внимательно следит за видимым и невидимым, пока не начинает лязгать зубами; насколько позволили обстоятельства, потягивается: не движением тела даже, а, скорее, мышцами, волей мышц. Как только из тела улетучилась сонливость – что какое-то время можно рассматривать как бодрость, – выяснилось: мастер устал, (да, устал). Особенно было ощутимо существование икр. Давала о себе знать мышца на стыке ляжки и задницы. Усталость – это было хорошо, боль – нехорошо.
Он немного переборщил с лязганьем зубами, сильно стучал, аж челюсть заклинило. При виде выходящей женщины совестливо вздрогнул («чужая газета!»). «Доброе утро!» – поздоровалась женщина; у калитки она еще раз обернулась, глаза были густо обведены зеленым, со вкусом и все-таки жирновато, мастер поднял руку, для эдакого заигрывающего воздушного поцелуя: пижама от этого разошлась, благоговение рассыпалось в прах, выступила гусиная кожа.
Было воскресенье, день Графа Грея. Мастер насыпал щепотку этогочая в чайник. Из комнаты, из глубины ее, доносились слабые, требовательные звуки жизни. «Цыц!» – крикнул он в том направлении с большим удовольствием. «Любовь моя!» – смягчился он затем. (Насколько эта аккуратность отличается от утренней спешки будней. От того, как он с превеликим трудом поднимается, вырываясь из спящего семейного крута, шаркая, добирается до ванной, щурясь, находит зеркало и в нем – он это умеет! – свое лицо, и долгое время смотрит сквозь стекло, чтобы день как-нибудь начался. «А надо бы делать это так, друг мой, – вырвалось у него как-то семейное воспоминание, —неторопливо прогуливаться раннимутром в туманном, освещенном солнцем огромном саду,можно углубиться в чтение Спинозы издания 1920 года, ко-неч-но, для нас оно было бы пройденным этапом, еще бы, но все еще нравилось, времени идет не больше 1/ 28-го, потому что речь пойдет не о лени, напротив, легкий ветер будет шевелить нам волосы, иногда перелистывая и страницы, сад будет, в сущности, лугом, громадная зеленая иллюстрация, не нужно опасаться столкновения с каким-нибудь предметом, и за одним из поворотов мы окажемся перед садовым столиком, вокруг необъяснимое множество плетенных из камыша стульев; джем, ветчина, тосты, отливающие коричневым булочки и маленький рулет масла! Я думаю, друг мой, день стоит достойно встретить так». Если разделить на две части временную протяженность тупого разглядывания зеркала, то хорошо, если ему, по крайней мере, в самом начале второй половины приходит в голову: вода для чая. Если на три части, тому же суждено произойти, соответственно, в середине второй части [« то естьнесколько позже»]. Последний момент – тот момент, когда еще стоит ставить воду для чая. Затем скольжение мыла, стремительный поток холодной воды и жадная чистка зубов, и приобретение стекающей изо рта смешанной с зубной пастой водой розового цвета в процессе этой деятельности…А чай! Хотя это не белый чай, как – насколько мне известно – китайцы называют кипяток, но ни темноты, ни маслянистости, которые так милы сердцу мастера, нет и в помине. «И все равно неплохо, довольно горячий». А затем, к половине восьмого, он как штык заявляется на свою серьезную работу. Впрочем, мог бы и опоздать. «Петерке, – подмигнул вахтер, – на восемь – десять минут когда угодно. Когда угодно».Вахтер, по его утверждению [я это формулирую так, потому что онсомневается: «Неужели было столько свинопасов?!»], был свинопасом в доме у отца мастера, но поскольку был «парнем расторопным и дельным» и т. д. «Видите, Петерке, не будь ваш дед так добр ко мне, было бы намного лучше, хе-хе, для меня». – «Извини, дядя Лаци». Однако он говорил не всерьез.)
«Сегодня семья будет есть яйца всмятку», – сообщил он миру. (Лихорадочное засекание с секундомером!..) На плетеный деревянный поднос он поместил солонку, в маленькую корзинку – яйца, чашки, чайник, нарезал хлеб – и его туда же, отнес все это в комнату и поставил на кровать. «Вот вам идеальный муж», – склонился с щербатой элегантностью мастер (пижамные брюки же перевернулись обратно.)Женщина обманчиво улыбнулась, а затем с полным благодарности сердцем сказала: «Ложки, подставка, блюдца, джем, вареная колбаса, яблоки». Мол, всего этого недостает. Мастер обиженно кивнул, признал практическую правоту, но дистанции из-за этого не возникло. Мало того!
Он налил Фрау Гитти чая. Еще один нюанс. В жизни есть несколько мелочей, в которых он, скажу так небезупречен – если уж это вообщеможно назвать упреком. Он, посмеиваясь, признает эти милые недостатки своей натуры. Сюда относится разлитие чая; потому что per absurdum, [69]69
Абсурд заключается в том (лат.).
[Закрыть]что им движет вежливость, но на самом деле «маленькая хитрость», ибо первому наливают бледный чай. Ибо в каком бы взаимном переплетении ни жили два человека, все равно остаются области недосягаемого, отчужденность, тайны, увы. Он тоже не рассказал о своем трюке с чаем Фрау Гитти. «Но, но, mon ami!»
Педантично дождавшись, пока тарелки опустеют, пространства для мусора заполнятся – и сам он немного насытится, – мастер, следя за тем, чтобы взбесившаяся статика кровати не повредила ему, опрокинул жену на кровать и поцеловал ей руку. «Дорогая». – «Дорогой». Мадам Гитти была прекрасна, как на картине. Ее смуглая кожа и веснушки так и лучились, над городом поднимались цветные пузырьки воздуха, мастер закрыл глаза, а люди повсюду останавливались и глядели, глядели… «Знаете, друг мой, я вот этими глазами лично видел свою жену!»
После этого мастер длительное время боролся с Луиджи Донго, чей веселый хохот и подражающий сенбернару рык наполняли уютную комнату. Пока мастер осторожно заправлял кровать, ребенок был перепеленован, а кофе сварен. «Ты сахар положила?» – спросил он мягко. «С чего это». – «Это не упрек; это вопрос», – быстро ответил он, но недостаточно быстро для того, чтобы воспрепятствовать добавлению сахара в кофе, правда, он и не хотел этому препятствовать. Распитие кофе незаметно перешло в чтение газет. В небесах уже сиял свет настоящего предполуденного солнца. В комнате посветлело, поблескивали пылинки, на ковре преступно сверкнуло несколько длинных золотых волосков. В воскресном приложении он прочел новеллу. «Хороша, – сказал он молчаливым стенам справедливо, – хороша: почти испоганена». Ибо при желании он умел быть и таким безжалостным и великодушным. Поднял с пола спортивную газету. «Эх, товарищ Яцина, товарищ Яцина», – пробормотал он. Оказавшийся на расстоянии вытянутой руки первоклассный литературный журнал тоже подключился к рондо:выступление тренеров в прессе закончилось предоставлением профуполномоченным новых прав, которые оттеняли новеллу в стиле Круди. «Знаете, друг мой, это было изумительно: целый Божий день я ничего не делал. Просто лежал кверху пузом. Хороший был день для тунеядцев». (Что еще за тунеядцы! Как это несправедливо по отношению к самому себе! Ведь по мере того, как он изволил прогуливаться, поплевывать семечки, почесываться, и, сощурившись, прислушиваться к неинтересным разговорам, можно сказать: к Разговору Вселенной, в нем все откладывается, и он, мягко ступая, подстерегает, подобно хищному тигру!.. Трудная это работа. А сколько слюны уходит на лузгание семечек! Боже мой! «На ранний летний вечер уходит много слюны!» Вот так. Смею поэтому полагать, что если я и смотрю сквозь нечеткий объектив на творческий путь, жизнь, жизненный путь и смерть обожаемого Эстерхази, то с такого расстояния – ах как это расстояние велико! – каковое является гарантией.)
В полдень мастер заскочил в кафедральный собор, чтобы отслужить там благодарственную мессу. Цветные окна иногда отвлекали внимание. Когда он оглянулся, то уже на лестничной площадке ему в нос ударил запах картошки. «Знаете, друг мой, я видел одного редактора, который, когда об одной новелле, скажу точнее: о моей, кто-то заявил: но, старик, ведь это реалистическоепроизведение! – тогда у него, как у боевого жеребца, задрожали ноздри и он с надеждой ответил: «Ты так считаешь, уважаемый Имре?…» К чему же я это рассказал? А. Я тоже так дрожу от запаха картошки». Картошку с луком и растительным маслом мастер полюбил еще в деревенский период. (Нужда заставила.) Его привязанность не имела границ! Уже давным-давно хватало и на мясо, когда он попросил приготовить на праздничный обед в честь дня рождения именно ее. (Обеды в родительском доме, как в деревне, начинались в 12. Это тоже пережиток. Однако новые времена постепенно вытеснили и это. Каждый ест, когда приходит домой.) Можете себе представить возмущение господ Дьердя, Михая и Марци! Но в те времена физическое преимущество было еще на стороне мастера, за подзатыльниками, эдакими тумаками, дело бы не стало. С тех пор, как нам известно, ситуация изменилась! Эхе-хе, сколько раз я видел его униженным, на груди гигантская коленка оставляет опасные вмятины, а рука безжалостно крутит имеющийся в наличии нос. Хорошо еще, что мастер такой хиляк, так что мстить ему, по сути дела, неприлично.
Он навалился на звонок плечом. Как только дверь открылась, он тотчас же заметил: здесь речь уже идет и о копченой колбасе. «Картошка с паприкой?» – поднял он вверх брови. «А что, может, не нравится?» – сказала женщина с явной агрессией. «Ну, что ты». В общем-то, случилось то, что блюдо содержало жидкост-ибольше, чем ожидалось, но и паприки больше; он изволил упомянуть и то и другое – со знаками – и +.
«Смотаюсь на матч Марци», – поднялся он от стола, практически сразу залезая в грязную ветровку. «Возьми с собой яблоко», – сказала мадам Гитти, а сама залезла мастеру под куртку и обняла за талию. «Хорошо мне с тобой», – сказал он смущенно. «Возьми с собой яблоко». И он взял. Казимир Митович неистовствовала на огромном листе бумаги, который еще накануне мастер принес из химчистки. Девушка на выдаче заказов долго искала пальтецо. «Не найти, – сказала она, – а ведь я все глаза проглядела». Когда она потянулась, короткий халат задрался буквально до пупа, так что она оказалась в трусиках синего цвета. Мастер – тогда – прочистил горло и вежливо сказал: «А если вы будете так потягиваться, то я тоже все глаза прогляжу». Тишина оказалась мертвенней, чем мастер ожидал (он никакой не ожидал), а девушка покраснела; пальтецо нашлось, оно по ошибке оказалось среди юбок. «Кто же мог это сделать?» – прошептала девчушка.
«Я спешу», – сказал мастер на бегу и завернул к своему великолепному жеребцу, на которого вскочил. Яблоко на повороте качнулось, как свинцовый шар. Мягкой рысью отправились они в путь в разливающемся свете. «Превосходный день. Хорошо можно пожмуриться». Он удобно откинулся назад, ногами рассеянно перебирал в стременах, доверив выбирать скорость лошади. «Лошади». Его практически занимал только сигнал поворота. Тело вновь заломило от усталости, что теперь было однозначно приятно. Тряску он мог считать и благотворным массажем, и средневековой пыткой.
Господин Марци не смог обеспечить мастеру бесплатный пропуск на стадион, поэтому мастер купил билет; а потом тыквенных семечек. К тыквенным семечкам он попросил и кулек – отгородившись от проблемы «В какой карман насыпать, молодой человек?»: – молодая девушка-цыганка явно была раздосадована, но мастер чувствовал: другого выбора у него нет. На вершине короткого эскалатора – из-за больших черных спин – неожиданно выглянуло поле: зеленая трава, штанги ворот белые, солнце светит, сетка натянута: в порядке; мастер кивнул. Не спеша в обход подошел к бетонной лестнице на той стороне. Сочетание четкости ближней панорамы с замызганным полукругом внешнего кольца радовало глаз. Он пошарил в кармане, в темноте замкнутого пространства, ладонь с небрежной радостью наполнилась безупречным яблоком (о котором впоследствии выяснилось, что есть в нем прогрызенный туннель,горький туннель), затем, запястьем оттеснив яблоко к стенке кармана, нащупал очки и достал их. Большим пальцем обстоятельно протер стекла – сначала по кругу, затем вертикальными параллелями, – которые были на ощупь жирными и исцарапанными. Отпечаток пальца «как пашня на снимках с воздуха». Я в этом не разбираюсь, естественно, знаю только: нет очков неопрятнее, грязнее, запущеннее, плачевнееэтих! Или произнесенными намедни замечательными словами господина Марци: очей!
Мастер взял одну дужку очков в рот и, помахивая ими (движением своего бывшего, теперь уже покойного, учителя физики), не спеша зашагал на ту сторону. «Знаете, друг мой, стадион уже украшал тот гул, без которого не может начаться настоящий матч». Некоторые читатели его узнавали, и если бы он поспешно не засунул руки в карман к яблоку и пакетику с семечками, их бы ему точно поцеловали. «Ай-яй-яй, ай-яй-яй», – улыбался он, и подозреваю, почти наверняка подозреваю, что он даже и не замечал, что иногда кто-то кидается ему под ноги и начищает ботинки. (Что, говоря между нами, не помешало бы. Иногда господин Дьердь за десятку готов почистить обувь. Бывали уже такие прецеденты.) «Сколько баварских метровможет быть это поле в длину?» – думал он все это время.
Господин Дьердь был уже там. Элегантное пальто из лодена, как хвойный лес! Суровый хвойный лес Был там и старый отец мастера! Седые волосы сбил на лоб ветер, и сквозь слабые пряди просвечивали беззащитные виски. Мужчина зябко ежился. На плечах – там, где у ведьм растет горб; семейная черта? – пальто натянулось; он нервно переступал с ноги на ногу. Он был таким тоненьким, таким худеньким, как птичка. «Э-хе-хе, бедный мой отец: как тощенький воробушек». Кости лица были почти ничем не прикрыты, губы чуть не плакали. Я очень люблю отца мастера, ведь это все-таки отец мастера!!! «Холодно», – сказал господин Дьердь. «Светит солнце», – сказал мастер и провел рукой по волосам, в своеобразном, шероховатом прикосновении которых ощущался ветер.
В это время команды выбежали на травяное покрытые.«Ну, за дело», – сказал бы он в ином случае, но по вине господина Марци им всегда овладевала странная судорога, поэтому он более скромно приступал к таким спортивным мероприятиям. Двое братьев, во всяком случае, попрощались с отцом и встали подальше. Что правда, то правда: как болеет отец мастера! Это скандал.
Он изволил вынуть яблоко, откусить. «Холодное». Холод забрался в один из зубов. В этот момент его внимание вдруг обратил на себя поднятый воротник. Чуть перед этим у него между зубами застряло тыквенное семечко. После того как удалось вытолкнуть языком, он выплюнул его на плечо впереди стоящего. «Ох, и получил бы я», – кивнул он господину Дьердю, показав на расположение тыквенной семечки. «Будь спок», – авторитетно сказал господин Дьердь. «И в этот момент я вижу этот пиджак с поднятым воротником». Войлок, соприкосновение войлока и ткани на изнанке воротника, и в углублении стыка – грязь. Всякая разная грязь. И тогда вдруг(«и он теперь говорит это!..») мастеру вроде бы припомнились поднятые воротники определенных пиджаков, серый войлок: «Это живо в моей памяти». На открытой площадке 33-го трамвая, с посиневшим ртом, поднятым воротником, который как раз доходит до подбритых снизуволос. «Войлок: вот что можно утверждать!»
Мастер все больше коченел, от каждого движения делалось: делается хуже. «Selten kommt was besseres nach». [70]70
Редко бывает лучше (нем.).
[Закрыть]У туннеля для игроков он изволил дождаться господина Марци. «Был один аут. Здорово ты вбросил», – сердечно прокричал он группе взмыленных игроков, после чего поспешил к месту парковки, где привязал лошадь. Господина Дьердя и отца он подвез до площади Баттьяни, оттуда они поехали на электричке домой. Мастер пустил своего скакуна галопом. Сомневаюсь, чтобы он обращал внимание на ограничитель скоростей…
Вернувшись домой и пристроившись к будничному циклу кровообращения, мастер предпринял попытку сменить пеленку. Пеленку, если мы ужерасстелили ее на поверхности, можно неправильно расположить разными путями. Мастер, скажу я вам, не знал преград. Маленькая Митович почувствовала неуверенность рук и по привычке заревела. Потом сказала: «Дадеком». Что всего лишь означает, что мир с некоторых пор движется не в том порядке, которого бы ей хотелось. Но даже если халтура свисала до кругленьких коленок, если край пеленки торчал из-под низа – указывая верный путь веществу, когда придет время, – если крошечная талия была оголена и нескольким кнопкам в конце пришлось застегиваться на одном и том же месте, потому что место осталось уже только там, вследствие чего симметрия нарушилась, – произведение было готово, и мастер, хоть и плавая в поту, но объявил: «Готово».
Фрау Гитти, как только вошла, заметила. Наклонилась над кроваткой и прошептала: «Бедненькая, бедненькая ты моя». Она подвинулась вперед, чтобы ребенок «мог буянить» возле ее шеи, а сама коленом, которое представляло собой значительную часть ее веса, встала дряхлой кровати на «хребет». Хрясь! «Да что же это за блин, на фиг, такое!» – вскочил мастер, которого и так уже обидело деликатное, но однозначно критическое поведение. Жизнь, конечно, даже теперь не стояла на месте. Дора заснула, мастер начал молчаливо есть. В этот вечер он демонстрировал плохую форму. Молчание он прерывал сочными выражениями, которыми хвалил поданный суп-рагу, ведя речь о том, что вот, годы проходят не бесследно, огонь рутины и любви все-таки налаживается, в супе теперь уже оказывается и соль, он не тепловатый, и этот водянистый вкус, который вначале, после густых материнских супов, приносил (в переносном смысле) столько горечи, когда… когда женщина с тихой болью сказала: «Не перенапрягайся, приятель. Это консервы». – «Вкусно», – сказал он, уйдя в свою раковину. (Как всякий титан, мастер также несчастлив.) Но это еще не конец: был еще маленький «сюрприз». Торт с фундуком. «Твоя мать прислала», – между прочим сказала женщина. Когда мастер наткнулся уже на второй цельный (непрерывный) кусок масла в креме, он с полным ртом прошамкал: «Да и муттер не та уже» —. и на высунутом языке предъявил инкриминируемый кусок. Мадам Гитти начала хохотать, вместе е ней угодливо и мастер; только когда у мужчины от этого уже слезы выступили на глазах, она раскрыла тайну: торт делала сама, голос прервался, и женщина ушла мыться. Что за ляпсус!
Он печально сел в любимое, необъятное кресло и стал читать новости в потрепанном журнале «НАДЬВИЛАГ». Лампа рисовала на паркете желтые круги, а вверху, на потолке, как птица или крупный комар, то и дело потрескивало пятно света в форме каблука(которое было образовано местом стыка на абажуре лампы).
Затем он заглянул в ванную. Просунул туда голову. Сначала нос, потом голову. «Знаете, друг мой, это такой виноватый порядок действий». Фрау Гитти читала в ванне. Выступ, за который заходила ванна, скрывал ее голову. Свисал край большущей газеты: но держащей ее руки уже не было видно, только стремление кистей уберечь ее от воды. Но на край и так попадала пена. По краю пены, по всей окружности – забрызганная водой бумага, как гнойная рана. «На стадионе «Голи», если до тогодни стоялидовольно сухие, можно обзавестись такой раной». Но пена белела как снег: «Дай мне на тебя посмотреть». Край газеты вздрогнул, но и только. На оборотной стороне он изволил увидеть: Do You Wanna Dance [71]71
Хочешь потанцевать (англ.)
[Закрыть]– только наоборот. «Предлагаю ничью». – «Идет». По воде без всякой цели плавали островки пены. Одна нога, огромная подводная лодка, поднялась из воды. С округлой поверхности – отмеченной веснушками – вода стекать отказывалась. Плоский живот – серебряное блюдо, верхний его край оказался практически на поверхности, внизу, как нарядная цепочка, пролегла складка. От одного движения покатого бедра вода подернулась зыбью, и вместе с ней дрожь пробежала по всему – включая и мастера. В зеленой от ароматической соли воде, чуть ниже, покачивались изумительные водоросли… «Нечего слюнки глотать! У вас что, кроты в горле завелись?!»
(раскадровка) Мастер вырос, по этому поводу он не радуется, но и не печалится. (Не хочет «бережно хранить детскую чувствительность», но и не бежит покупать кошелек.) (Не то чтобы он в связи с этим проиграл или выиграл.)
Во всяком случае, лишь сейчас может случиться такое: вот, кажется, теперь-то он заскочитк родителям. Перед тренировкой или после тренировки; или перед матчем, или после матча. Вот видите, для него эта игра является точкой отсчета. Сползает с электрички, проявляя эту свою занудную вежливость, которая больше вредит, чем помогает. Плетется вдоль ряда тополей. Старается не смотреть ни направо, ни налево. Те два угла, которые мастер проходит до нынешнего света в окнах старинной резиденции (мало того, не побоимся этого слова: резиденций), таят тысячи опасностей. Основная трудность здесь заключается в том, что мастер осознает, что идущий ему навстречу человек вроде какой-то знакомый,поэтому начинает пристально смотреть, от чего, конечно, толку никакого, напрасно он отчаянно щурится или, мало того, образовав из больших и указательных пальцев обеих рук ромбовидные щели, еще и изображает очки; идущий навстречу таким образом очень даже видит, что мастер его заметил, справедливо удивляясь, почему с ним по-прежнему не здороваются. Когда же предмет оказывается на расстоянии чуть ли не двух метров, мастер расцветает и скороговоркой делает то, чего от него ждут, так чтобы человек за это время еще не успел с ним и поравняться. Все это очень утомительно. (И для многих подозрительно. Poor Esterhazy.)
Сторожевой пес из породы командор – неизменный второстепенный герой многих милых новелл – издох, от старости. «Шио спит. Вечным сном» , —сделала заключение Митович. Мастер левой рукой может дернуть (и дергает!!) двустворчатую садовую калитку на себя, а правой может вытолкнуть прут-подпорку, и тотчас же хвататься за нее – как за шею, но напористость, размашистость его движений уже не будет раздражать собаку, которая не начнет, полагаясь на здоровые инстинкты, без надобности скалить зубы, ее зубы не будут блестеть желтым и не раздастся предупреждение, но не злобное ворчание – до поры до времени. Ее не надо приучать к тому, кто мы такие (то есть кто мастер), а это, конечно, непросто.
Маневр будет произведен и на этот раз, только менее дисциплинированно, с лязгом и буханьем; и без особого дара провиденья можно предсказать, что прут-подпорка в один прекрасный день, – напрасны то встревоженные, то строгие, во всяком случае, учащающиеся вспышки гнева матери мастера, – не выйдет из состояния мнимого трупа: он все больше погружается в грязь, в мягкую насыпнуюземлю. (Потому что раньше здесь были топи, кочки и селезни. Поэтому нет погреба. Где – рядом с углем – мог бы стоять и стол для пинг-понга!.. Насыпная почва! Как загадочно! Как если бы мы в самом деле ходили над землей! Ну,о нем-то это можно сказать; о его поэтически-артистическом взгляде на вещи! Как будто бы он устроил черные кучи, чтобы появился гумус,то есть чернозем!)
Он может решить – если это чудное посещение места, всегда бывшего ему домом, приходится на утро, – что проберется в комнату господина Марци, который, без сомнений, еще спит, и, стоя у кровати нападающего, прошептать: «Дубинушка моя стоеросовая!» – и смиренно погладить спящее детское лицо. Господина Марци он сможет вновь увидеть за завтраком, заказанным на 11. «Мне, матушка, пожалуйста, в 11, – так звучит заказ господина Марци, – завтрак с железной вилкой».(У господина Марци хорошее чувство языка. Он также ворует-заимствует. Истоки языкового изящества братьев нужно искать в их матери. Святой женщине известно целых два вида венгерского е-. Великому человеку уже нет…) Господин Марци ужасно много ест. Поглотив ham and eggs [72]72
Яичница с ветчиной (англ.).
[Закрыть]из множества яиц, он просительно обнимает седовласую женщину. Тычет ее в бок Та визжит, как школьница. Какая сцена! Ну и ну. «А мясцакакого-нибудь нет, мамуль? Хорошо прожаренного?» И тогда еще три-четыре куска мяса! Вот сколько ест господин Марци! А ведь в нем нет и грамма лишнего веса, спасибо ВФА! [73]73
ВФА – Венгерская футбольная ассоциация.
[Закрыть]
Однако можно представить, что господин Марци по какой-то необъяснимой причине проснется рано. (Или отец мастера по какой-то объяснимой причине поздно…) И тогда наверняка: закрутится карусель: господин Марци произнес пароль: озор! Озор означает следующее: Утренний свет солнца полосами пробивается в комнату. Световой клинок. Отец детей спит. Он (всегда) лежит на спине, правую ногу сгибает в колене, с левой уже сползло покрывало, оранжевое одеяло с бахромой по краям; рот открыт, подбородок отвис, как сломанный, и от этого лицо стало впалым, ощущение, будто лицевые кости прорвут бледную и щетинистую кожу: мясо из-под скул украли. Он прямо как мертвец: луч краешком уже ползет по его кадыку. Поскольку господин Марци – человек добрый, он расстраивает ситуацию (он не сторонник беспричинных смертей). Самой удобной выпуклой точкой для этого является большой палец отца. Господин Марци потирает руки – никто, ну никто бы не подумал, что они такого же размера, как у господина Дьердя, как лопаты, – обгрызенные до корней ногти (по сравнению с ним мастер – реклама маникюрного салона!) то и дело царапают кожу, с губ слетает смех лукавого гнома. (Мастер многому научился у младшего брата.)








