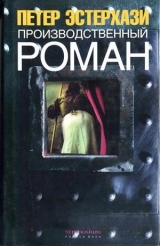
Текст книги "Производственный роман"
Автор книги: Петер Эстерхази
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
«Кто этот говнюк?» – кивнул он снова в сторону чрезвычайно скромно, но плотно стоящего рядом с мастером господина Миксата. «Извини, дядя Кальман», – опустил он значительно глаза, а потом тем же манером зыркнул на господина Дьердя: «Не все ли равно? Приятель, кто угодно». – «Два пива?» – «Два пива», – сказал он младшему брату, переполняясь определенным чувством.
Много ли, мало ли времени прошло, и вдруг он – почему, а почему бы и нет – подумал, что может позволить себе (вследствие гнетущего чувства ответственности и жажды знаний), и поэтому, поставив на металлическую стойку свою кружку и вытерев – как Рука тучи с горных вершин – с носа пивную пену набросился на Кальмана Миксата, которому (однако) мастер был явно по душе. (Далее ирония Эстерхази несколько бледнеет. Случайно ли это? Звездный знак намеренности или временное обесточивание дисциплины? – О, о, сказали солдатики в витрине.)
«Скажи, дядя Кальман, ты добровольно брался за определенные задания, или начальник пресс-службы премьер-министра Арпад Берчик приказывал?» Так, с места в карьер! Фантастика! Господин Миксат еще не допил пиво. Аккуратно пил, тыльнойстороной ладони вытирал усы. До тех пор на них, как иней, белела пена. «Добровольно. Я чувствовал, что это правильно. Я верил в это». – «Не грузи, дядя Кальман. Все прямо верили?» – «Многие». Старик мечтательно прихлебывал. Теперь их разделяло большее; диалога как будто бы и не было. «Очень многие», – «Да, но дядя Кальман», – мастер гневно, нетерпеливо всплеснул в воздухе руками. (Только теперь ясно, как ему повезло с тем, что кружка поставлена на стойку.) Старик только бурчал про себя, вроде говоря что-то, а вроде и нет. «У нас с этим так, не умеем мы об этом рассказывать так же, как не может человек говорить о первой ночи любви». – «Да, но, дядя Кальман, так то-то и оно! У невесты яйца между ног!» Господин Миксат редко смотрел мастеру в глаза; однако теперь взглянул. И сколько всего отражалось в паре подернутых пеленой карих глаз: великое знание, почем фунт лиха. «Большой ты мамелюк, старик», – молодечески сказал мастер. Кальман Миксат отвернулся. «Брань на вороту не виснет».
Мастер вспыхнул безудержным гневом. (Потому что так чувствителен он именно к словам, к злоупотреблению ими. От этого он приходит в крайнее уныние. «Сыто рассиживать и врать, друг мой, – наихудший вариант». На эту тему добрый человек любил говорить также следующее: «Друг мой, грамматика аморальна». И если у него очень плохое настроение, добавляет: «Kultur ist Parodie [61]61
Культура – это пародия (нем.).
[Закрыть]«. В полную силу может это прочувствовать он.) Предки-куруцы схлестнулись в нем с предками лабанцами (потому что среди Эстерхази полно и тех и других), толедский клинок с выпрямленной косой, его глаза блестели, был он знаменем, которое можно развернуть, и древком; это поддается дефиниции. Кальман Миксат в возбуждение не пришел. Он сделал господину Дьердю знак рукой: еще пива. «Хорошая у вас тяга, батя», – засмеялся великий шинкарь. Внимательная неподвижность господина Миксата охладила пыл творца этого столетия. «Знаешь, сынок, пусть смелыми будут твои куруцы, а не писатель». (Да ведь и мастер не хотел быть ни смелым, ни несмелым.)
В кабаке появился худенький белобрысый мальчонка, за собой на веревочке он тянул маленькое пианино. Подошел прямо к шинкарю, спросил что-то, однако тот отрицательно покачал головой. Завсегдатаи сидели за столами и пили – не много, но постоянно. «Отца ищешь, а?!» Но даже не подняли головыот карт. Это не было новостью: за некоторыми из них вот-вот придут, за другими никто и никогда.
Мастер с жаром публициста продолжал допытываться. «Да, но, дядя Кальман, определенные признаки все же подозрительны…» – «Оставь ты меня в покое. Не те уже мои годы… Память портится». – «Это хорошо, рассыпающаяся память – то, что надо!» – трещал мастер, о котором ходила слава великого гурмана. Господин Дьердь замахал руками: пусть потише веселятся, мать у меня болеет, бедняжка. (Однако затем ее самочувствие улучшилось.) Господин Миксат пожимал плечами. Наверное, ему многое вспоминалось. «О, новая страна, новая жизнь, новые иллюзии!» – Боже правый, я могу прикусить губу; и напомнить мастеру о множестве положительных судеб, которым это ироническое предложеньице навредило. «Если я не обижаюсь…» – сказал он с небережной молодцеватостью. Я напомнил мастеру его собственную ситуацию, мало того, изволил заметить, что, может быть, он в конце концов, подходя с точки зрения истории, все-таки эдакий милый (не милорд, ха-ха-ха!) кукушонок в мягоньком гнездышке социализма. Конечно, полезный, порядочный кукушонок. «Эй ты, ты, кукушка, ну, твою мать!» – завопил он легко, элегантно. Итак, после того как он эффектно отразил наставленные на него, через мое посредничество, скользкие рапиры, вновь стал доставать господина Миксата. Кое-что еще хотелось знать ему, и кое-что считать он изволил неправильным. «Здесь взятки гладки, друг мой».
Между тем господин Дьердь работал вовсю. Его любили гости; жаль, что господин Дьердь так над ними возвышался. Он давал им то, чего они ожидали, – даже если в порции по пятьдесят и двести граммов и недоливал: с женщинами, какими бы замухрышкамиони ни были, заигрывал, с мужчинами вел себя по-мужски. Только… Все равно: в господине Дьсрде была «душевная теплота». «Дьюрика, вина с газировкой». Клиент заметил мастера. «Привет, Петике. Ты здесь? Наконец-то встал на правильный путь». Они засмеялись, мастер и малейшего понятия не имел, кто тот человек, с кем он разговаривает. «Выиграете в воскресенье?» – «Выиграем». – «На прошлой неделе ты тоже так говорил». – «и выиграли?» – «Нет». – «Ну вот».
Господин Миксат отодвигался дальше, к игровому автомату. Мастер следовал за ним. Ох уж это непрошенное панибратство и оптимистичный цинизм! Мастер осторожно пошел в наступление. «Ты был писателем мрачной, переходной эпохи». Господин Миксат кивнул; на это? или на новую бесплатную игру короля игровых автоматов? «Конечно, в те бедственныевремена…» Но здесь мастер переборщил. «Запомни, сынуля, времена всегда бедственные». Господин Миксат сосредоточил все внимание на скачущем туда-сюда шарике.
«Говорят, дядя Кальман, что по молодости было в тебе какое-то милое мужество, какая-то нравственная сила, которая ощущалась в твоих словах». Они стояли позади короля игральных автоматов, так что мастер шептал: «Конечно… я понимаю… великие эпохи рождают героические характеры, а немые годы неподвижности разъедают железо характера». – «Видите, mon ami, это чепуха. (А ведь он это сказал. – Э.) Движение относительно; вопрос системы координат, до поры до времени. Не существует неподвижной эпохи, если существуюя!» – и опьяненным успехом взором он посмотрел перед собой. Мастер, пардон, слегка подлизывался к господину Миксату. Он хотел выманить зверя из норы. «Друг мой! Дичь!.. Да ну ее к черту! Только жрут и толстеют». А белый соус? Однако напрасно это ехидство.
«Дядя Кальман, прошу тебя, скажи, ведь я смело могу надеяться, что в тебе, благодаря тебе можно было выявить разницу между мелочным, упадническим культом своего «я» в загнивающем буржуазном мире и гордым самосознанием тех, кого захватил героический пафос освободительного демократического движения. Твоя, дядя Кальман, тяга к джентри [62]62
Джентри – мелкое и среднее дворянство в Венгрии (и не только), зачастую – разорившееся.
[Закрыть]никогда не означала отождествления с ними». Мастер довольно потер ручки с обгрызенными ногтями. «Знаете, друг мой, этот роман повредил моим ногтям». (Это сейчас – роман, но холодный страх детства, всхлипывание в темноте, зарывание головой в подушку, сбивание простыни, сжатая в кулак рука, – все это уже с давних пор вело к тому, что мастер не стал перлом маникюрного мастерства.) Но повернулся только король игровых автоматов. «Сотня?» – «Что-что?» Из этого король игровых автоматов мгновенно понял, что мастеру игра мало знакома и стал его подзуживать. Однако он не изволил поддаваться подзуживанию. Господин Миксат сопел, возился. Затем неторопливо и обдуманно было произнесено веское слово.
«Чего ты хочешь?» Господин Миксат обернулся, прямо бывалый развозчик пива. Мастер вновь что-то понял, бедняга. Однако для их усмирения вырос господин Дьердь: «Ну, ну, не надо, ну, ну, сладкий мой». Защищал он всех. «Тяжело, сынок, быть венгерским писателем». Господин Миксат примирительно смотрел. Но мастеру все еще чего-то было надо.
«Подлый, антинародный режим…» Предложение прервалось. «Вот блин! Представляете, друг мой, я не нашел сказуемого». Да уж: вот так он иногда скалит зубы, когда пишет, поглаживая при этом подбородок. (Как иногда на матче, когда им овладевает некое «отупение».) Рука его в такие моменты над бумагой – левая – плотоядно растопырена, как у хищной птицы. «Справедливо. Ну, погоди!» И когда в такой ситуации маленькая Миточка розовой ручонкой стучит мастера по спине и еще многими другими – по отдельности крайне süß [63]63
Милыми (нем.).
[Закрыть]– способами доводит до сведения отца свои претензии на любовь, тогда он, бывает, теряет терпение. «Дорогая Авдотья Филипповна, – вопит он в такие минуты сдержанно, – иди к такой-то матери, точнее, к своей, – да, к сожалению, он может быть и таким прямолинейным, – я уже пятый раз начинаю это дурацкое предложение». Чтобы несколько смягчить свою вину, как бы разделяя свои заботы с крошкой, он говорит: «Мне, малыш, ни одно несчастное сказуемое не приходит в голову». Однажды девчушка сказала: «Папочка. – В это время она, по своему обыкновению, с жаром жестикулировала, вертя раскрытыми ладонями. – Папочка, напиши короткое предложение». «Друг мой! Что мне было делать. Я пообещал, что по мере совершенствования стиль будет упрощаться». (Так что любители литературы могут быть спокойны!) (Размножаются знаки!)
«Да, но, дядя Кальман, как могло случиться, что никто не осознавал, о чем идет речь? Что господином является восприимчивый господский мозг! Пройдохой-господином! И что в частом помаргивании генеральски холодных, потухших глаз скрывается господская подлость!» А потом совсем тихо: «Или вам было страшно». – «Брось. Я старик. Мы взяли на себя все. Все. Мы заблуждались и это тоже берем на себя».
«Ну, вот, еще лучше», – сказал молодой человек. Господин Миксат снова отвернулся от игрового автомата. А ведь тот взволнованно жужжал; поднимались ставки. «Сынуля. Если бы ты тогда там… тогда ты бы там точно так же». – «Тогда я бы был в тюрьме!» – жестко воскликнул он. Господин Миксат кивнул: «Ёкэлэмэнэ, еще бы! Невелико искусство. Но там, в самой тюрьме, там, там ты бы точно так же… По-другому нельзя было. Лишь отказавшись от одного или другого, но в любом случае точно так же! Шаблоны прилипали к памяти, как репей к овечьей шерсти. В голову не может прийти, что все могло быть и по-другому», «Такое бывает», – подумал глубоко про себя мастер. Ведь сколько раз бывало, что вдруг, уже где-нибудь у 16-метровой, в такой благоприятной позиции, ему в голову не приходит ничего. («Справедливое искажение фактов».) «Боже мой, – бросает нападающий взгляд на мяч, который катится, – ничего не приходит в голову». Зачем, что, для чего, кому и, главное, как. «Наверное, поддаст носком, блядь, в куст ракиты!» – быть может, разочарованно подумаете вы. Ан нет, затем он естественно изволит ввязаться в запутанную потасовку и тяжким, утомительным трудомотвоевывает пятачок, после чего с извиняющимся лицом смотрит на товарищей.
«Такого не бывает», – сказал он громко. «Молодой ты». – «Молодость – нравственная фора». Эффектно. «Заблуждаешься». Тогда он обратился к мудрости. «Заблуждения очень даже уместны, пока мы молоды, но к старости с ними нужно кончать». И сразу после этого опять перешел к публицистическому напору. «Я еще ничего плохого не совершил, а за совершенное ответственности на себя не беру», – «Не надо такгордиться тем, что еще ничего плохого не совершил… Впрочем, потихонечку все-таки и вы начинаете совершать… Однако, сынуля. Я уже сказал, мы берем на себя ответственность. Ты и сам можешь в этом убедиться». – «Немножечко рассчитаетесь с долгами, немножечко посмотрите в глаза, и в ваших глазах зажигается былой задор. Вы очень растроганы». Он поучительно поднял палец: «А ведь с точки зрения новой истины нет ничего опаснее старого заблуждения!» – «Да что ты об этом знаешь?! Что здесь с верой и убеждением жили поколения, которые в тот момент с глубоким убеждением взяли на себя переустройство общества! Да что ты об этом знаешь, мягко говоря». Мастеру наступили на любимую мозоль: «Ну, конечно. А я что говорю! Мне сказать? Мне, которому тогда было – 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 лет, в таком порядке?!»
Господин Дьердь без приглашения выскочил из-за пульта с двумя щедро наполненными кружками: «Пейте, дурни». – «Я им про Фому, а они мен…» Они выдули пиво. Тогда Кальман Миксат засмеялся, с такими перебоями, что это было уже просто ржание. Мастер покраснел, а потом и он поступил так же. Да: Петер Эстерхази – великий отрицательный герой, о котором можно говорить только уважительным тоном!
31Моя дорогая Йоланка!
То фамильное дерево, которое вы прислали в прошлый раз, пожалуйста, нарисуйте снова фломастером. Благодарю вас (Я потерял первое, вот зачем мне это нужно.)
С почтением:
петер
(Знаки размножаются. – Фломастер!? Потому что для типографии так нужно! Ни о какой потере и речи нет. Здесь он прибег ко лжи; семейное древо красуется на другой стороне – в отпечатанном теперь, конечно, уже:безупречном виде. Где же невинность?! Как где? Нигде, понятно. И что мы получили взамен? Картину того, как литература активно вживается в мировые процессы.)
См. приписку к седьмой сноске (стр. 188).

32В этой точке на поверхность всплыло определенное накопившееся желание быть понятым, которое он, судя по всему, – подчеркиваю: мое мнение субъективно! – не удовлетворял. Мастер без обиняков сказал так: «Тот, кто хочет упрекнуть писателя, друг мой, в туманности, пусть сначала окинет взглядом свою душу, есть ли там требуемая ясность. Совершенно ясную запись в полумраке становится невозможно прочесть». Чик-чирик, вот и все. Таким образом он шикарным шведским винтом вернул мяч сделавшему передачу. В этом заявлении была, без сомнений, поза, но и немало сухости. Однако затем, как водится, в температуре произошли изменения в сторону христианской теплоты. (Мы становимся обладателями секретов цеха; новые богачи – наверное, сказал бы он, имея за плечами своих предков.)
Может быть, надо было таскать кирпичи, и мастер так долго смотрел на свои пыльные и слегка, но до боли ободранные о зазубренные кирпичи ладони, что в ряду не осталось места, или, может быть, он не смог помочь при переноске передвижных ворот, или, может быть, у каждого из углов брезента, с помощью какового брезента скошенная трава выносится с поля, было по человеку («Штатский на поле!»), или кожаный мяч с песком закончился прямо у него перед носом, – во всяком случае, мы стояли на каком-то острове спокойствия, вокруг которого происходила суета, что вызывало крайне приятные ощущения. Он, трогая ладонь, теребя форму и пиная оброненные травинки, говорил:
«Знаете, друг мой, глава, спрятанная и откопанная здесь, посреди текста, – это глубокий-преглубокий, прекрасный-распрекрасный, таинственно опасный колодец». Я представил себе колодец. А воду-то из него можно пить? А на пастбище вокруг трава сочная? На что он вспылил, мол, «некоторые» с большой радостью обложили бы его колодец налогом на воду. Он был взбудоражен: уже было начал протискивать к огромному брезенту.
Однако затем он все же направился в сторону шлака. С некоторым – после травы! – отвращением стоял он на черном поле, которое хранит память о стольких продолжительных или нещадно стремительных пробежках. На нем были новые бутсы с высокими, опасными шипами. Он начал ими рисовать. Приходилось странно скособочивать ногу, чтобы «выходил» только один шип. «Знаете, друг мой, это конструкция двухступенчатого колодца». И рассказал поинтересовавшемуся, что как в изначальную ткань романаврезается эпоха Тисы, так и в нее саму – выступление Ракоши. «Проекция, приятель». Ну да, сказал я самому себе со злорадством и гордостью, все-таки в случае с мастером имеются и другие впадины.Сам рисунок был таким:

Очень красивый рисунок. Да еще ногой! Я – да будет вам известно, впрочем, я никогда этого и не отрицал – так, ну просто так люблю цветы и вообще вещи артистические. Но и дорогу, например садовую дорожку, где на параллельных полосках изборожденного граблями гравия отпечатываются легкие женские туфли (знак! след!), дорожка поворачивает, пробегает мимо живописного альпинария, соприкасается с чванливой розовой беседкой etc. etc… не надо, наверное, объяснять подробнее. У меня таким образом выработалось прекрасное чувство симметрии. Бросим взгляд на рисунок. Он симметричен! За это я его люблю.
– – – – —
Мастер появился в кабаке. Это было запущенное местечко, от пола исходил резкий запах керосина, а из кухни – тошнотворный запах рубца, и все было пропитано затхлым смрадом пива. («Да, друг мой, это тот же самый кабак». Забавно устройство времени и пространства.)
Мастер махнул рукой господину Дьердю, тот сверкнул в ответ сводящими женщин с ума, печальными карими глазами и налил пива. В этот момент Шани, король игровых автоматов, громко воскликнул: «Да!» Он выиграл какую-то жутко крупную сумму. Но все-таки, сколько? «Восемнадцать кусков». Не верю. «Я тоже. Но столько он выиграл». (Прим.: восемнадцать кусков = восемнадцать тысяч; современный сленг.)
«Сто роз лафранс для туалетной тетеньки!» Король игровых автоматов радовался, хотя и был привычен к этому, – да, но ведь ставка! «Всех сегодня угощаю!» – воскликнул он. «Да здравствует», – хлопнули ладоши, но не с таким воодушевлением, как «мне представлялось». Король игровых автоматов не был особо популярен. Поговаривали, что он мухлюет. Однажды трое решили его побить. «Взаправду». Привязались к нему на улице К., на углу напротив столовки. Довольно темно было. «Шаньика, ива, закурить есть?» Он, конечно, уже «был в курсе». Вынул монетку в один форинт, щелчком подбросил, а потом, когда она – как и предполагалось – вернулась на место, двумя пальцами согнул. Деформированную монетку он послал в сторону троих «нападавших». «Вот вам, ребята. Можете купить сигарет». И прошел мимо них как мимо почетного караула.
«Одно ставлю!» – махнул он теперь рукой в сторону господина Дьердя. Шинкарь кивнул. Король игровых автоматов ходил вместе с мастером в восьмой класс. «Я очень завидовал его технике метания мяча… Мой рекорд, друг мой, был 32 метра «. У девушек этого, вероятно, было бы достаточно, чтобы занять первое место. «Второе».
Король игровых автоматов обнаружил мастера, который все еще стоял практически в дверях, потому что с тех пор, как вошел, постоянно что-то происходило, отвлекая внимание. «Если мы за чем-то наблюдаем, плохо, если и с нами что-нибудь случается. Потому что мы изменяемся, и тогда уже неизвестно, на чей счет относить наблюдение». (Выдержка из господина Хейзенберга. – Э.)После этого он применил крайне симпатичное, уводящее в дальние пещеры творчества замечание: «Я так быстро отдаляюсь от своих дел». (Мне ли не знать! Мне, который производит эти изменения и таким путеморганизует дела! И таким путем все больше невыгодно отстает с темпами; размножаются знаки.)
«Привет, Петике. Что пьешь, ива!» – «Здорово, старик». – «Как ты, старик? Ива, давно не видел тебя… Как ты поживаешь?» – «Потихоньку. Бабы, выпивка, наркотики». – «Ребенок?» – «Одна дочка, один сын». [64]64
В первом варианте рукописи в этом месте стояло: «Ребенок?» – «Нету, только дочка». – «Это не важно, главное, чтобы здоровая была». Однако за время пресловутой типографской читки и скрупулезной доработки у него родился сын. «Видите, друг мой, литература – осколок от осколка-, из того, что произошло и рекомо, записано крайне мало, из того, что записано; осталось крайне мало». Но появились и другие последствия, например, с этих пор он не может с уверенностью сказать: «Я являюсь единственным членом семьи мужского пола». Хотя: одним бонмотом меньше, но сколько преимуществ, благодаря ребенку-мальчику, по сути. Пусть даже он следовал своим литературным критикам. Все-таки речь идет не совсем об этом.
[Закрыть]– «A y меня два сына». – «А я и не знал, что ты женился». – «Эх-хе-хе, да еще как! Пять лет в кабале. Два года оттрубил в армии, потом чуток пьянки-гулянки, дольче вита, а потом раз-два – и в кабале. С женой, с ребенком уже не попрыгаешь». – «Да уж». – «Хожу сюда, играю на этой хреновине. Небольшая надбавка к зарплате». – «Вижу, у тебя выходит». – «Петике, ива, знаешь, у меня руки как музыкальный инструмент. Техничность и ловкость пальцев».
Они посмеялись. С мастером поздоровалось несколько человек, короля игровых автоматов позвали, и он ушел. Мастер очень любил эти идиотские разговоры, поверхностные знакомства, потому что в них сильнее всего ощущал «неповторимость». Как-то раз он именно этими словами обрисовал понятие родины костлявому другу (Татрушу), собирающемуся на Запад. (Что бы ни говорили. Оно существует.) «Эта «Фанчико и Пинта», [65]65
Книга новелл Эстерхази (1976).
[Закрыть]ива, не пошла что-то», – сказал ему один полузнакомый во время матча на малом поле, в перерыве. «Я тривиален, друг мой». В этот момент он вдруг, со скоростью звука, увидел одного из спортивных агентов. К тому времени он давно изволил что-то подозревать, в деле с перерегистрацией не было никакого продвижения. Он сожалел. «Ну, какие новости, шеф! – сотрудник секретных служб весело хлопнул упомянутое по плечу. – Какие новости? Защищаемся или нападаем?» Приземистый коротышка черным по белому: покраснел. «Вот что я скажу, Петерке, в жизни не видал такого, честно скажу, чтобы футболист просил такую работу, где…» Он даже слово это не стал произносить: работать. Опустил голову. «А потом руководство постановило оказать доверие доктору Мока», – «Ясно, старик», – сказал он, и только не слишком симпатичный субъект его и видел.
(Об этом случае рассказывали по всему окраинному району: «Знаешь, почему не подошел старший брат Эстерхази?» и т. д. Так преданность – в фальшивом образе случайного и бессовестного спортивного руководства – выиграла битву. Конец. «Друг мой, этому мотиву перерегистрации пришел конец, как писюлям в Сахаре». Мастер в похвальном слове использовал слово «песок», я же, вследствие важности и масштаба предприятия, произвел данные изменения. Выбор был сделан между точностью и правдой. «Итак, mon ami. He правда ли. Если я один из самых – – венгерских – – – – – , та легкая великосветскость, с которой я переодеваю искусство в чистое, – очень даже вызывает опасения», – и он ужасным жестом погладил подбородок.)
Центром событий стало внутреннее помещение, рабочий кабинет, страна четырех королей. В распоряжении картежников были самые что ни на есть ветхие столы, под ножки которым господин Дьердь подсунул скомканную бумагу. (В таких случаях картежники проявляют недовольство.) Если места оказывалось недостаточно, пылкие добры молодцы устраивались даже за бильярдным столом, рискуя погибнуть под белыми пулями. (Я имею в виду шары из слоновой кости, которые наш дядя Флутер – чемпион округа Сольнок – далеко посылает кием.)
Тарок на копу. – «Тарок в бито». – «Помогает терс-мажор, двадцать очков» – «Контра!» – «Реконтра, взятка!» – «Реконтра!» – «Суперконтра!» – «Держу ставку!» – «Инвит!» – «Северный связующий железнодорожный мост!!!»
«Господа, успокойтесь», – угрожающе произнес сквозь зубы господин Дьердь и вышел из-за стойки. «Кто этот говнюк?» – спросил он у мастера. Тот посмотрел на господина Миксата, который вел великое карточное сражение, лоб у него блестел, слышалось громкое сопение. Перед ним красное вино. Господин Дьердь, не дожидаясь ответа, кряхтя от боли в пояснице, поспешил обратно к своим делам. Мастер взял стакан со стойки, пододвинул стул к господину Миксату и стал следить за игрой. «Знаете, друг мой, вот это было действительно бесплатное вино». В те времена господин Марци в качестве награды за свои золотые ноги то и дело получал даже вино, перепадало и мастеру; однако вино Миксата было все-таки бесплатнее!Мастер был в финансовой ситуации. Незадолго до того крайне рассеянно прошла встреча двух поставщиков вина. Мастер и господин Миксат шли вдоль аллеи из тополей, пространно, дружески беседуя. Мастер скоро пришелся господину Миксату по душе, процесс начал стремительно набирать обороты после того, как господин Миксат узнал, что мастер, подхваченный очищающим вихрем истории (тоже), научился сначала говорить на языке палоцев и только потом по-венгерски. Перед семейным домом господин Марци как раз поверхностно подметал тротуар. (Я говорю не о поверхности тротуара, а так, чтобы применить средства сатиры.) Дым стоял коромыслом; что там устроили пыль и письма! Мол, вечный бой, покой нам только снится! Господин Марци, как увидел господина Миксата, так и, бум-м, уронил метлу, и та как будто упала в обморок. «Что за ястребиные усы!» – сказал он с нескрываемой завистью. (Я не случайно использовал выражение «упасть в обморок» выше. Потому что если господина Марци во время подметания тротуара или разгребания снега поражала направляющаяся из медицинского училища к электричке группка девчонок, тогда господин Марци, если была охота [а, как говорят: охотник он великий], закатив глаза, просто падал в обморок. Те его давай оживлять [искусственное дыхание, проявление элементов материнского инстинкта и т. д.]. А он чуть дышит. Мать мастера теперь уже и не знает, плакать ей или смеяться над беспримерной ленью своих сыновей!.. – Тому, что они, напр., даже тротуар не хотят подметать.)
«Какая улица, говоришь, приятель? – применил мастер выражение своего младшего брата. – Улица «Усачева»?» – «Что за усы, как у сома! – сварьировал господин Марци и потрепал господина Миксата по плечу. Господин Миксат в крайней растерянности стоял в гуще семейной жизни. – А у меня, вум-м! будут усы как у моржа!» Скрючив пальцы, он поднес руки к несуществующим усам, задрал верхнюю губу, как кусачая нутрия, и продиктованным рядом звукоподражательных звуков «вум-м»движением тряхнул обеими руками вперед, как если бы они соскальзывали по изгибу гигантских обвислых усов. «Вум-м! Вот такие!» Миксат и Эстерхази, два видавших виды светских льва, с улыбкой переглянулись. «Молодо-зелено!»
Господин Миксат чувствовал себя ну прямо в своей стихии: составилась партия в карты, и вино убывает. «Садись сюда, сынок, поближе к старику». – «И наклюкались же мы, друг мой». Однако ситуация не так уж примитивна! Из уличного сумрака возникли двое полицейских. Вокруг игрового автомата началась мелкая возня, шевельнулись погруженные в карманы руки, но больше ничего не произошло, только господин Дьердь услужливо вскочил, его сознание определялось бытием. «Что прикажете, господа стражи порядка?». – «Мы на службе». Господин Дьердь подмигнул мастеру и побежал наливать пиво. Господин Миксат весело тасовал волшебные карточки. Молодой белокурый полицейский пристально смотрел на мастера. «Скажи, дядя Кальман, – обратился он за опытом к старшему коллеге, – ты никогда не нервничаешь?» – «Чтобы я да психовал? Ёкалэмзнэ, с какой это стати?!. Не такой я маленький человек, чтобы замечать или не замечать правительство. Мне это совершенно безразлично. Я замечаю только Венгрию». Раздали, он посмотрел в свои карты. Карты он тоже замечал. «События так или эдак, рано или поздно, все равно произойдут. И насколько я знаю соотношение сил, а его я хорошо знаю, – пухлой рукой он любовно погладил промасленные карты, – я еще и выиграть могу».
Полицейские выпили пиво, ушли. Господин Дьердь позвал мастера. «Знаешь, кто был белобрысыйфараон? Чурес. Помнишь, из юниорской?» Мастеру вдруг вспомнились лимоны. «В юниорской нам всегда выдавали лимоны». Их приносил в бумажном пакете крошечный отец тогдашнего Левого Связующего. Разрезал прямо у них перед носом, весь перерыв у них текли слюнки, и, по сути дела, старик заканчивал только к концу перерыва. Тогда каждый получал по порции и, морщась, съедал. Можно было даже попросить добавки. Мастер часто смотрел сквозь тонкий ломтик на солнце. «Почему в наши днинет лимонов?» – «Было доказано, – ответил как-то раз господин Арман, – что от них нет пользы». Господин Арман наморщил лоб. «Помидоры с солью лучше». – «Ты это так говоришь, ива, – набросился мастер на своего тренера, – как будто нам их выдают».
«Словом, Чурес. У него была хорошая левая, только много выпендривался. От него тоже шарик можно было получить только после дождичка в четверг». – Господин Дьердь любил пословицы-поговорки. А уж если он к одной привыкнет! Они с господином Марии неделями их трубили! Когда, например, он был вСеверной Венгрии у костоправа и возвращался домой по большому холоду, холод он передал так: «Белые медведи, старик, просто умоляли, чтобы я их впустил в загон». Он показал руками, как умоляют. Неделями по дому разносилось: «Белые медведи…» и т. д. Мастер спросил: «Лучше тебе?» – «Не знаю», – заныл великан. «В прошлый раз он проверял алкогольным зондом батю Шани. Старик здорово накачался. Велосипед шел домой на своих двоих, как лошадь. А тут Чурес, трубку суроводержит. О, Чурес, рыгнул старик. Помнишь, как он раньше кричал на стадионе. Помнишь? Пас, Чурес!Аж уши закладывало. Вдыхайте, дядя Шани, не дуйте, вдыхайте, подсказал потом шепотом Чурес. Так его и пронесло… Знаешь, на сколько бы его обули? Три куска, ива, три куска. Ребята с кирпичного завода уже два раза подлавливали Чуреса, потому что вел себя как свинья. Отдубасили его как следует». Мастер сдержанно кивнул. (Он держался несколько в стороне от форменной одежды.)
Господин Миксат страстно играл в карты. «Сказал я прямо Йокаи в глаза, что намного лучше играю в тарок, чем он. А ты, дядя Мориц, намного лучше пишешь, чем я, – и это тоже кое-что.Так ему и сказал». Мастеру пришло в голову множество голенастых, покрытых варикозными венами литературных ног, и он подумал относительно футбола то же самое, что господин Миксат – относительно тароке. «И это тоже кое-что».В этот момент, замысловато вывернув руку, которая дотянулась до потайного, глубокого кармана, он изволил извлечь на поверхность теннисный мяч. Мяч покоилсяв его ладони. Ворсинки примято жались. Что бы это значило? «Послушайте, друг мой, – слегка раздвинул он горизонт с такой естественной простотой, с которой иной растягивает штаны, – на самом деле мы учимся лишь на тех книгах, о которых не можем составить суждение. Автору, – он изволил скромно улыбнуться, – о книгах которого мы можем судить, есть чему поучиться у нас». Согласен!!!
«Послушай, дядя Кальман, вот твой живот». – «Ну… да, вот». У мастера вырвалось признание. «Дядя Кальман, я влюбился в твое пузо». Господин Миксат прыснул в стакан. «Да чтоб тебе!» – зажмурился он, потому что и в глаза тоже попало вино. «Дядя Кальман, мой милый старый предшественник, я бы хотел провести над тобой эксперимент». Он подбросил теннисный мяч до уровня головы, затем, когда махонькая ладонь вновь обхватила его, раза два дал запястью спружинить; надув губы, измерил вес. Мастер здорово это умел. «Эксперимент». В поросячьих крошечных, но горящих живым блеском глазах господина Миксата читался страх. Продолжая подбрасывать теннисный мяч в каком-то странном ритме, о котором однажды кто-то с исчерпывающей подробностью и аналитической точностью доказал, что это есть не что иное, как т. н. ритм сердца, и как поразительно то, что биение человеческого сердца – почти – затихает, – он изволил начать урок:








