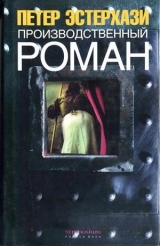
Текст книги "Производственный роман"
Автор книги: Петер Эстерхази
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
В школе же выяснилось, что хорошей оценкой снова стала пятерка. Мастер оказался в очень невыгодном положении, потому что «обмена», во избежание злоупотреблений, не было. (Потому что так за настоящую, полученную до этого периода единицу можно было бы получить настоящую – непериодическую пятерку.) Не будем сейчас о проведенной совестью экзекуции, – только о головной боли, которая начала мучить ребенка (его!). Вместо того чтобы «пулей вылететь из школы», он вышел, пошатываясь. Он был настолько измучен, что на главной площади пришлось остановиться. Там стояло много народу, он оказался у всех за спиной. Видел большие черные спины; ему хорошо запомнилось примерно пять типов пальто, все черные. Потом одно пальто обернулось: старое лицо, с усами, – и, увидев бледного ребенка, отвело его в сторону: «Иди, сынок, домой». Он доплелся до дворика почты. Прислонился к стене. Увидел вблизи селитерные пятна, и тогда на него нашел ужасный приступ рвоты (прошу прощения! прошу прощения'). Было такое ощущение, что внутри ничего не осталось. Его затяжное – можно сказать: повторяющееся – воспоминание, начиная отсюда, составляет кусочек морковки, который с чрезвычайным трудом сдвинулся с предназначенного не для него места! Плюс запах. Когда он снова вывалился на главную площадь, весь белый, ему было немного полегче, но все же довольно паршиво! Толпа расступилась, и он увидел, как бьют в ее центре отца, потому что глаза у него тогда еще хорошо работали, а внизу, у ног отца, (сбитые) очки с распахнутыми дужками. Но тошнота так его занимала, что он повернулся и пошел домой. Когда же отец мастера на третий день прибыл домой в клетчатой рубашке, с разбитыми очками, с несколькими достопримечательностями на лице и чудесном лбу – данные материальные признаки, вероятно, были знакомы и по предыдущим случаям, – ему было известно больше, чем другим, и он по достоинству оценил мужское прикосновение отцовской руки к его макушке. В ответ на поверхностный вопрос господина Дьердя он взял очки в руки, покрутил, лицо его стало чужим, особенно незнакомо сощурились глаза, и сказал так: «Они упали». Упадочность была при этом доминирующим элементом. («А измученное лицо прорезали три параллельные борозды».)
«Примерно так надо рассказывать, а потом сюда по вкусу можно присоединить какую-нибудь историю с палоцами, какой-нито анихдот». (Еще какой! Как, например, в церкви господин Дьердь наступил мастеру на ногу, или наоборот. И тогда в величественной, благоговейнойхристианской тишине раздавался тоненький, как ниточка, голосок, будто ангельский [если наступал господин Дьердь, то мастера, если мастер, то господина Дьердя]: еаб твоаю маоть!! – Боже, вообще-то говоря, эта светская жизнь, которую я вынужден вести, какое-то мучение.) В этот момент позвонили.
«Кто это?» – спросил, не подумав, он у Фрау Гитти, хотя вопрос был бессмысленный, ведь она была точно так же информирована относительно звонка, как и мастер. «Откуда мне знать, открой дверь», – ответила женщина, соответственно; но когда мужчина, уже от двери, обиженно оглянулся, стала посылать мужу поцелуи, как примадонна, в знак того, что предыдущее предложение получилось таким резким случайно. Мастер с выражающим смягчение, мягко сказать, наплевательским отношением начхал на звонящего. «Ради симметрии лучше все-таки закончить какой-нибудь историей о Петерке, к примеру: а он еще совсем во младенчестве!! Был замызганный карапуз, в своих штанишках, «гандах», стоял в саду и шлангом гонял больную кошку, которая уже несколько дней скрывалась под сенью кустов.Эти кошки просто ужас! А больные так просто отвратительны. Однако Петерке, являвшийся одновременно настоящим паршивцем и чувствительным мальчуганом, кое-что подозревал о бренности кошачьего существования, что не помешало ему ловко направленной струей воды изгнать тварь со своей территории. Но когда та выскочила на улицу и между кустов, как молния, мелькнуло убогое тело со свалявшейся шерстью, а тотчас же вслед за этим послышался визг тормозов, тогда Петерке произнес следующее: я умру. О моей книге пусть позаботитсяиздательство «Магветэ», но потом я поправлюсь… Разговаривай с ним после этого. И просто держал перед собой пшанг, отведя его в сторону, лужа росла, он не шевелился и постепенно сам уже стоял в воде». – «Иди уже!» – прошептала мадам Эстерхази. «Иду», – крикнул мастер. В дверях стояли двое мужчин: один – седеющий и худой и другой – молодой, «склонный к полноте». Седеющий и худой вызывал симпатию (с первого взгляда), второй на первый взгляд такой уж симпатии не вызывал.
19(в помине) «после матча раскинувшись бледно прижавшись к поверхности взмыленно со впалой грудью разбито шумно лежать на 16-метровой быть линией подушкой и делать усталости и неожиданному пиву ясным видение резко вогнутоощущать геометрию окружающей среды и даже быть ее частью сильно бояться снова и снова ее нарушить лежать значит на 16-метровой с поднятой рукой разбирая на составляющие и обратно наблюдать за движением облаков и в активном убожестве придумывать ко всему этому случившиеся случаи наивно» Над мастером, эдакой несчастной грозовой тучкой, склонился старик. Все превратилось в его лицо. Косящие глаза смотрели неизвестно куда, его окружил кисловатый винный запах и запах старости; но мастер все равно не «сопротивлялся». «Приветствую, господин Пек». Тот махнул рукой, дескать, ладно, ладно, речь ведь не об этом. Так прямо и махнул. «Какие проблемы?» – спросил он, заметив обеспокоенность. «Правда?» – дребезжаще спросил главный болельщик, как человек, который как пить дать знает: правда. «Что?» Мастер начиная с этого момента говорил то правду, то нет, но до самого конца планомерно врал. «Правда, что уходите». – «Кто?!» Господин Пек посмотрел на мастера. «Ну, Петике», – подбадривал он, чтобы нападающий собрался с мыслями. «Правда, что вы переходите в район, Петерке?» – «Нет», – сказал он, и это было правдой.
Потому что появились эти с портфелями,и он начал подумывать. Но кто же эти люди с портфелями. Поскольку младшие единокровные братья мастера – в противоположность короткой, полной надежд эпохе мастера – своим искусством забивать мяч еще и деньги зарабатывают, легко реконструировать соответствующую сцену: скажем, господин Марци надевает верхние зубы на нижнюю губу, – можете попробовать; как человек, который «вот-вот зубами вытащит из угла паука», – скрючивает на манер хищной птицы пальцы и свирепо нападает. «Вум-м, – торжественно говорит он, – и в этот момент прилетает бо-о-ольшой орел, —тогда он воровато, как будто протягивая ладонь за чаевыми, протягивает ладонь, – и откладывает мно-о-ого, мно-о-ого орлиных яиц». Это значит – орлиные яйца. А теперь, если в районе поля вы замечаете незнакомого мужчину с колючим взглядом с таким вот редко встречающимся дипломатом в руке («это поэзия»), тогда проще простого подумать: «Это он. Спортивный агент. А в портфеле у него мно-о-ого, мно-о-ого орлиных яиц». И между зубов гордо цедится: «Появились эти с портфелями». (По сути, в конце каждого сезона так бывает. Или бывало, потому что время не останавливается.)
Люди с портфелями появились и позвонили. «Петерке, мы, по сути, только производим разведку». Мадам Гитти подозрительно прислушивалась. Имя симпатичного седовласого худого мужчины мастер знал как почитатель. «Петерке, вы бы на долгие годы избавили нас от забот». – «Хотите кофе?» – спросила мадам Гитти без особого доверия. «Если вас не затруднит, премного благодарны», – сказал другой, молодой и полноватый. «Послушайте, Петерке, мы хотим вам добра». Молодой закашлялся. «И себе, конечно, тоже». Седовласый – со злостью, мастер – с уважением посмотрели на него. «Петерке, вы можете просить о чем угодно». Мастер улыбнулся. Среброволосый также улыбнулся, тонко. «Ну, конечно, как здесь, в нижней палате, водится». Возникла небольшая пауза. «И не забывайте, Петерке, по линии политики мы все, все можем устроить». Мадам Гитти вошла с двумя чашками кофе. Мастер тотчас увидел, что в одной меньше, и сразу понял, это для него. На две персоны аппарат. «По линии политики», – кивнул он. Мадам Гитти вопросительно смотрела. Седовласый начал рассказывать о том, как его личность уже несколько раз обсуждали в прошлом; всплывающие имена в какой-то степени заставляли мастера напрягаться. «А вот и кофе, премного благодарны», – прогудел молодой. «Тогда, Петерке, – стал прощаться человек с портфелем, – мы предпримем необходимые шаги». – «Мы вам сообщим», – сказал уже за дверью полноватый; дверь была захлопнута практически у него перед носом.
«Говорили, что вы уходите и что в район», – сказал господин Пек неуверенно, потому что заметил, что мастер сказал правду. «Знаете, как это бывает, господин Пек Столько всего говорят…» – «Петике, осенью вдарьте как следует». – «Вдарим». Ну, а это опять было враньем.
– – – – —
Итак, наступило пахнущее медом лето; он изволил отправиться в европейское турне, в поездку с чтениями вслух, по нескольким культурным центрам. Господин Белль от волнения притопывал ногой, господин Хандке до корней обгрызал ногти, господин Сартр прикуривал сигарету от сигареты, господин Месэй провел рукой по проволочным волосам даже дважды. Европа валялась у мастера в ногах и поглаживала волосы на голени против шерсти. Могу сказать, что Европе повезло: если бы ей пришлось поглаживать ноги господина Марци, руки у нее были бы все в занозах…
Торопливо пройдя окрестности, покрытые рощами в окаймлении террас, извивающиеся в густом подлеске тропинки, вытянутые кипарисы и дубы, каковые дубы есть сама непринужденность, кактусы и тамариски, бурные столетники, он оказался в тяжелом, пряном воздухе – на ужасно большом приеме. (В его честь?)
Эх-ма, бурлило сборище, пощелкивали галстуки-бабочки, аперитив погонял аперитивом. Он хорошо заученным жестом взял оранжаду, добавил к нему алкоголя, изготовив таким образом боле.«Ну, матушка моя, можешь выпить с настоящим герцогом». – «Я всего лишь граф», – отвел он то ли непрошенный комплимент, то ли оскорбление, с тем понимающим юмором, который так не любил в себе. (Он, такой беспощадный критик собственных поступков, речей, молчаний.)
Комната была залом, огромные люстры разливали холодный свет, каждого можно было хорошо рассмотреть, но далее шли уголки, салоны, где теплыми тонами царапали торшеры. В этот момент он обнаружил хозяйку дома, в чудесной тунике, с нигде не виданным макияжем! Да: Джина Лоллобриджида!!! Мастер посмотрел на женщину и как будто провалился в глубокий колодец; из окружающего не осталось ничего, кроме быстро вращающегося колеса (круг!) колодезного сруба, моральный резерв и жизненная позиция оказались не чем иным, как мелькающим при падении зеленым мхом, скользким, клейким, стремительно уносящимся мхом. Он увидел и сеточку морщин вокруг глаз, и прочие признаки возраста сразу же; это лицо было еще более красиво-изможденным, чем у Эрики Боднар. (Как-то раз, сидя перед телевизионным приемником, мадам Гитти умудрилась критично сказать следующее: «Посмотри, дорогой, у нее морщинки вокруг глаз!» Он пришел в крайнее негодование. О недоброжелательном отношении мадам Гитти к женщинам ходят легенды. Так же как и об отношении господина Андраша к коллегам. «Ладно, ладно, но у нее стрелка на колготках». – «Да, очень большая. Но видел бы ты ее без лифчика!»– такие заявления у нее в порядке вещей. Суть же негодования заключалась в том, что распоследняя морщинка Лолло стоит больше, чем все смертные женщины вместе взятые.)
Случилось так, что, когда они одновременно потянулись за оливкой, их руки столкнулись. «Извините», – произнесла Джина. Как сто альтов. Тысяча. Без улыбки, только взгляд, более продолжительный, чем требуется. Мастер уронил оливку; она проскакала по брюкам. Поскольку он так извозюкался, звезда мирового экрана предложила свою помощь. «Я вам почищу брюки, Петер», – сказала Лоллобриджида. «Бросьте, это неважно, всего лишь джинсы». Его мутило от подобной тривиальности… Но и позднее поверх голов многочисленных приглашенных женщина смотрела на мастера – он, в свою очередь, тайно качал головой… В одной из внутренних комнат постукивал мячик пинг-понга. Лолло хотела сыграть с мастером. Он долгое время позволял ей вести, однако затем твердой рукой «разбил в пух и прах» несколько изнеженную кинозвезду, 21:18. После дружеского матча Лоллобриджида со слезами на глазах приняла поздравления, немного театрально – что стало ясно мастеру лишь в ходе позднейшего анализа, но с тем большей силой, он почти ужаснулся, как бабулька, признав:вот актриса! – театрально выступила вперед, на мгновение опустила глаза, огромные ресницы-метелки почти касались его лица (это одновременно покоряло и отталкивало), груди мощно покачнулись, почти сталкиваясь с легким летним материалом. («Простой шелк», – резко сказала мадам Гитти впоследствии.) «Ты можешь вернуться, когда остальные уйдут?» Он вертел ракетку: backhand, forhand [45]45
Лицевая сторона, обратная сторона (англ.).
[Закрыть]… «Приходи», – нашептывала-просила Лолло, У него сердце чуть не разорвалось. Нравственное существо, каковым является мастер, пришло в небольшое замешательство. «Ты красивая», – простонал он наконец. (Потому что к привлекательной женской личности, как это обычно бывает, подключался грамматический балласт: «Знаете, mon ami, это проклятье, я люблю говорить то, что думаю. А вдруг мне надо думать то, что можно говорить»). И еще серьезно добавил: «Es ist kein Scherz» – или: Это не шутка [немецкий]. В этот момент, однако, распахнулась дверь и вошел – да не муж или что-то в этом роде – маленький Карло, сын Лолло. Он был так прекрасен, златовласый блондинчик, что мастер почувствовал: надо рыгнуть (эффект Томаса Манна). Но он не смог бы представить объяснение своему побегу, так что остался. «Скажи, милый мой, – посмотрел мальчонка прямо на него, – ты маму любишь?» Он покраснел, Джина склонила голову. «Люблю». Маленький судья продолжал расспрашивать: «Больше всех на свете?» Он без раздумий ответил: «Второй по счету». Карло задумался. «Гм. Это совсем неплохо». Однако ему тогда уже пришел в голову верный нравственный шаг. «Второй? Да ведь это полный пшик». – «Убирайся из комнаты!» – завопила Джина на сына. Тот с достоинством направился к выходу: «Но, мама, на кого ты похожа?» Джина повалилась на стол для пинг-понга. Она рыдала. Подрагивало божественное тело в широкой тунике. Мастера это теперь немного нервировало. «Нет, радость моя», – сказал он без надобности. Джина поднялась, уцепившись за сетку для пинг-понга, которая оборвалась. «Дорогой эстерхаци», – всхлипнула она и выбежала вон.
Но какой усложняющий поворот за этим последовал! Ему вдруг пришлось стать пораженным свидетелем того, как пользующийся из-за своей настырности дурной славой режиссер – славянского происхождения – вразвалку выходит из комнаты женщины, увидеть мутные глаза, услышать снисходительный смех. Он сел на порог («как бродяга или верный сторож»), Лоллобриджида лежала на кровати, оперевшись на локти. Классическая поза изломана, тело несколько угловато; ситуация была тривиальной: спутавшиеся волосы и красноватые пятна на лице. Мастер чувствовал сильную жалость по отношению к самому себе, но старался не смотреть на женщину как на распутницу. Что до чувства превосходства, то оно скоро улетучилось. Не потому, что он чувствовал: единственным нравственным поступком – потому что отсутствие поступка тоже может быть безнравственным, ого, да еще как, – было бы безотлагательное бурное соитие; нет; просто из женщины в форме монотонного потока слов прорвалась бездонная горечь, убогость жизни, обманы («в которых, друг мой, все мы живем»), компромиссы, судорожные новые начала, – женское отсутствие меры и наигранная правдивость (от которых Лолло даже в эту критическую минуту не смогла освободиться) переполнили его страхом и угрызениями совести, поскольку ведь, по причине своей неопределенности, двусмысленности, были безответственными; таким образом, на него обрушились глубина и темнота жизни женщины. «Пойдем поедим чего-нибудь», – вскочил он с игривой легкостью и погладил женщину по руке.
Вот так он и изволил всегда метаться внутри этой двойственности: между правдой и фальшью.
(1. Лоллобриджида – уже покончив счеты со всем, то есть с ним, – с грустной горечью попросила у него что-нибудь на память. Он наклонился, а потом с очарованием маленького мальчика протянул ей изумительную зеленую травинку. Кое-что из того огромного сада, по которому она так исстрадалась. Громадная зеленая площадка! Ранний утренний ветер треплет волосы, пока ты во время беспечной прогулки читаешь Спинозу! Потом немного джема, свежая булочка, яйцо всмятку! Но женщине этой маленькой травинки было недостаточно, ей нужно было что-то осязаемое. Наконец, он изволил как некий экзотический предмет отдать актрисе монетку в 20 филлеров, что каким-то образом сохранилась у него в кармане. С течением времени выяснилось, что Лоллобриджида просверлила в монетке дырочку и с тех пор так и носит ее как амулет. Это можно увидеть в «Штерне», где она с господином Марлоном Брандо стоит возле огромного пластмассового телефона. На атласной шее вы увидите монетку в 20 филлеров!!!
2. Милый Петер!
Пишу эти строки в самолете, возвращаясь в Рим. Вверху солнце, внизу барашковые облака. Самолет иногда дергается, поэтому почерк корявый. Марлон Брандо спрашивает, кто ты. Я говорю ему, писатель. Да нет, кто ты мне. В ответ на это я разрыдалась. Этого я не знаю. Но правда в том, что для тебя я не стала многим. Бедненький! Думаю, ты сильно меня испугался. [Сейчас самолет скачет, как в польке, я жду. ] Знаешь, у меня есть такие невидимые антенны по всему телу и в мозгу; я знаю, что чувствует или думает кто-нибудь, даже если его здесь нет. Так что еще…
Между тем: единственным странным моим желанием было лишь – в благодарность за то, что ты есть, —один раз прижать тебя к груди. Ничего больше. Но, увидя сразу возникшую подозрительность, я поняла, мои намерения ты бы истолковал неверно. Из напряженил, возникшего между желанием и его явной неосуществимостью, и родилась затем, пока я лежала после ухода Игоря в комнате, нелепая вороватость и ухищрения, которые я продемонстрировала. [Этот сраный самолет опять качает!] Хорошо вам всем, принадлежащим кому-то, чему-то…
Я была у Марлона [Брандо] и на следующий день уже вернулась обратно, как побитая собака. Снова. Никак не научиться. Но время все лечит…
Даже не осуществленные еще планы, остановившиеся на полпути, в воздухе, и бесполезные движения трусливой любви.
Мы сейчас выходим.
Пока: Джина)
Их направили к накрытому для ужина столу. В сложившихся кружках шла обычная болтовня. «Пошлость, друг мой, перла изо всех углов». Мастер, эдаким художником, откинувшись на стуле, с наслаждением наблюдал за конструкцией, которую никто не нарушал, где ничье движение не было искренним или не собиралось таковым быть.
Но затем он вдруг утомился от постоянной готовности услужить, пресытился собственной благовоспитанностью. «Все были очень вежливы, тихи, элегантны, милы и беспардонны». У него же от этого заложило уши, в них гудело, как если бы там была вода, а ведь ее там не было. «Боже, Боже мой», – «Что ты бормочешь», – спросил его сосед, господин Миклош, поклонник литературы. «Дядя Миклош, давай слиняем отсюда, ради всего святого». – «Ша», – сказал умудренный опытом мужчина, А кавардак какой потом начался! Скандал, можно сказать. Мастер потянулся к корзинке с хлебом в центре, на обратном пути безжалостно сметя несколько бокалов с вином. «О-па», – воскликнул он и тотчас же, с опозданием, попытался подхватить бокалы, но только стряхнул салфетку господина Миклоша, попросил прощения, наклонился, попросил прощения, в это время, ударившись снизу головой об стол, опрокинул что-то новое. Покраснев, извинился перед обществом, которое повело себя жутко деликатно. Лишь понимающий и вместе с тем неодобрительный взгляд господина Миклоша свидетельствовал: он-то знает, о чем речь. Когда все усиленно запыхтели над судаком орли, он тихо прошептал господину Миклошу. «М-да, старик, – тут он повысил голос, пардон, – скажи, пожалуйста, блядь, сейчас чем есть-то?» Затем снова извинения по кругу. (А ведь, оказывается, кроме него еще многие не знали, что такое нож для рыбы.)
Поверхностную дребедень, водруженную на этот дипломатически-политический, умеренно демагогический пьедестал, он выносил с трудом; рвал и метал. «Ты был довольно примитивен», – сказал позднее господин Андраш. Он стоял согнувшись. «Каким он мог быть еще», – продолжала жужжать вышеупомянутая личность. Спустившись по ступеням, миновав ворота и дверь, они выбрались на свежий воздух. Он жмурился; пульс вечного города бился. «Думаю, я тоже стоял там совершенно на уровне вечного города».
– – – – —
К нему прибилась какая-то кошка. Заморыш и т. д.: словом, никакой шелковистости, округлости, кошачести. Имя: Марчелло. Печально сидел он в комнате, пожилая хозяйка принесла теплый плед и горячий чай. Тогда вошел малыш Карло. «Красивая у тебя кошка». – «Да». – «Как ее зовут?» – «Марчелло». – «А нельзя ли назвать ее Альберто?» – «Можно, – ответил мастер, – только ведь ее уже зовут Марчелло». – «Слушай. Давай договоримся». – «Хорошо». – «Пусть она будет Марчелло-Альберто». Он кивнул. Мальчик высунул руку в окно. «Дождь еще идет». Он повернулся, а рука все еще была снаружи. «Weißt du, mein Guter – знаешь, милый мой (немецкий); с этими словами он указал на кошку, – я бы с большим удовольствием на ней женился, но, думаю, это было бы нелегко». Чай, плед, дождь, кошка, мальчик – вот то, что было.
– – – – —
Ткнуть пальцем в сотрудника секретных служб, не смейтесь ↓ этой шуткой: «насколько мне известно, у него трое детей».
– – – – —
«Знаете, маленький мой подмастерье, – да, конечно, знаете, еще бы! – мы, восточноевропейский Фауст, говорим: «Остановись!» тому мгновенью, когда не достает начальство».
– – – – —
Европейский рассвет застал его с пересохшим горлом. Господин Андраш тихо посапывал на соседней кровати. Он с помятой, бульдожьей мордой шатаясь вышел в коридор. «Капельку черешневой, прошу», – было сказано ему в лицо. Угощающий был хорошо одет, галстук на нем аккуратен. Взгляд мастера остался, как колотушка, холодным, безразличным предметом. «Хотя мне было немного страшно». «С черной этикеткой». Так как мастер на это явно отреагировал (рот его раскрылся, затем захлопнулся, как у карпуши, как у некоторыхкарпуш), с размахом добавил: «Клин клином». Мастер почувствовал защиту стены, вдоль которой – но сразу же! – он может прокрасться. «Благодарю за любезность», (Но это нам уже знакомо.) У второго мужчины блеснули зубы. «Как знаешь, дорогой». Коричневая кожа выдавала целенаправленного загоральщика.
– – – – —
его охватило такое желание по отношению к мадам Гитти, он стал так беззащитен перед волнами мощного чувства, что начал вертеться в кровати («как покойники поважней внизу») и даже, вертясь, испытывал прежнее чувство
– – – – —
(в помине) (демонстрация метода) Европа валялась у мастера в ногах и поглаживала волосы на голени мастера против шерсти. Могу сказать, что Европе повезло: если бы ей пришлось поглаживать ноги господина Марци (Гимнастический Клуб Ференцвароша), руки у нее были бы все в занозах!..
Торопливо пройдя окрестности, покрытые рощами в окаймлении террас – →,извивающиеся в густом подлеске тропинки – →, вытянутые кипарисы и дубы – →,каковые дубы есть сама непринужденность – →,кактусы и тамариски – →, грозные столетние растения, он оказался в закрытом пространстве, которое было украшено бутылками с пивом – «Полными, друг мой, полными!» – а также красным вином. Внимание мастера было рассеянным, то есть он был невнимателен. Задали ему задачу. «Что теперь, скажите на милость?» – скептически спрашивал он сам себя. «Может быть, каких-нибудь «Фанчико и Пинту». Это так мило, не правда ли, все-таки первая моя книга». Но затем вечер покачнулся → → →, и он забыл о мучительных заботах. Некий господин Дьюла, наколдовав между тем горящую сигарету из кармана, которую в одночасье выкурил, так что чахлый человек совсем согнулся, а ведь обычно грудь колесом, этот господин Дьюла – теперь уже, обращаясь к текущему процессу, лихо вызасовывая сигарету изо рта, точнее, за, да еще вставляя слова! – сказал: «Откуда вы взялись, такие чертовски наглые?»
Одна милая девушка усилила громкость магнитофона, крошки – как всекрысиные принцы из балета – закружились по паркету. Господин Андраш рядом с мастером рассмеялся. Вопрос касался и его тоже. Господин Дьюла жил в ф стране, непохожей на Ф страну мастера, и в другом городе, но, хэй, они все же задавали друг другу вопросы и даже заготавливали ответы. «Я тебя не понимаю», – сказал мастер. Господин Дьюла крякнул. «Знаете, друг мой, почти так же, как моя бабушка. Это поразило меня в самое сердце. Я ему так и сказал. Надеюсь, он понял». —«Откуда в вас эта дерзость… дерзость, вот именно…» – «А-а, чего там», – махнул он рукой, потому что почувствовал (и не без основания), что его хвалят. Тем не менее вопрос, таким образом, был скомкан, чего господин Дьюла (НИ) в малейшей степени не заслуживал. «Мерси, месье», – изволил он еще сказать, и это заявление заиграло всеми цветами радуги в разных смыслах слова.
Мастер в этот момент многозначительно вскочил, голос его интересным, современным штрихом прервался, втайне он был счастлив, и взбежал наверх, в свои апартаменты, бросив вечер на произвол судьбы. Выхватил свою знаменитую – мало того: пресловутую – тетрадку, и ручка принялась бороздить ее. «Ну, малыши-карандаши!» Затем мы вновь видим его внизу ↓ в обществе господ Иштвана и Гезы, затем наверху ↑, затем внизу ↓: великая душа практически испепеляла ↑ себя. Как сигарета господина Дьюлы (за вы ↓ четом вытряхивания из кармана): («Андрашлапа! За дело, за дело, за дело! Мать твою») тление, это постоянное ↓-↑, которое соответствует тамошнему →-←-ю и, конечно, еще втягивание! Потому что после каждой такой «прогулки наверх» он, совершенно →мученный, возвращался обратно к веселящимся людям, сиротливый, выжатый, чтобы тоже быть одним из них. Обрушившись в кресло, сопел. «Старик, – сказал он с легкостью, потому что может быть и таким, человек такого масштаба тоже может быть легким, как воздушный шарик господина Иштвана, да-да, может, – старик, где, к дьяволу, синие чулки?» Мастер начал с жаром объяснять, нос его то и дело покачивался, чертя в тяжелом от табачного дыма воздухе правильные дуги. «Ну, конечно, собиралась прийти целая куча синих чулков, а ты, – и тогда он показал на себя: ессе homo, – а ты тут днем и ночью сопротивляйся!»– «Синие портянки», – со знанием дела махнул рукой поэт.
Уже и раньше, поскольку работа его находилась в прогрессирующей стадии, он изволил ощущать, что внимание у него как у героя романа, сейчас же, из-за сложившихся образцовых и лабораторных условий, особенно. «Знаете, когда я ↓ пускался, например, из своей комнаты, где проводил время в усердных трудах, то чувствовал, что еще чего-то не хватает. И тогда я ↓ пустился и стал искать подходящий эпизод, чтобы он потом со мной произошел». Затем он еще прибавил: «Видите, mon ami, капут пришел сочинительству романов. Конкретно, конечно, это касается меня. Так что как раз подошло время… Я сыт этим по горло».
Пусть наш взгляд, свежее оленье стадо, перенесется на лестницу, где стоял прежде мастер. Как раз по случаю ↑. Мастер слышал от господина Иштвана превосходный анекдот, который, казалось, можно ↑ пользовать. Поэт, своим низким голосом – который сам по себе не мог бы стать эротической продукцией, «если найдется, друг мой, баба, которой этого будет достаточно», – рассказал, что в Стокгольме в пятьдесят шестом – и от его голоса, как синие колокольчики зазвенели-забренчали стекла, оконные, – в Стокгольме в то время на дверях одной гостиницы корявымибуквами было написано: венгры! с телефонисткой можно перепихнуться! И – это вроде бы может засвидетельствовать господин Геза – 10 лет спустя она, надпись эта, все еще была там. А ведь где была уже к тому времени эта бедная девчушка-телефонистка, со своими мечтательными скандинавскими глазами, его гетера! Однако в тот момент господин Геза находился не в положении свидетеля (и не в чьих-нибудь объятиях, ха-ха-ха), а в волнительном. «Из этого тоже родится литература», – сказал он, и даже очки его вздохнули, именно так. «Видите, друг мой, это печально простой механизм. Достаточно имени и sine qua non, [46]46
Обязательное условие (лат.).
[Закрыть]и куча интеллекта покатывается со смеху. Я и сам с трудом могу сдержать веселье. Сам не знаю, как мне это удается». Здесь и сейчас проведем небольшой типографско-технический перерыв по ссслучаю утомления.
Что касается господина Гезы, любезный поэт, потому что поэтов-то в той комнате было хоть пруд пруди, [47]47
Выражение мастера.
[Закрыть]наверное, не знал, насколько окажется прав. Мы увидим: господин Геза оказался героически прав. Это оказалось литературой, да какой. Сжимающая сердце, венгерская, суровая, судьба.
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
В этот момент – не будем забывать: на только что упомянутой лестнице – перед ним вырос огромный венгр и протянул мастеру руку-лопату. Млеющим от какой-то славянской тоски голосом он обратился к мастеру, который явно симпатизировал большому увальню. «Господин писатель, – сказал он, естественно, в шутку, – господин писатель, напишите вот это, эти ладони!»

Ага: большое тело о чем-то подозревало. Мастер еще поинтересовался тем, сем, спровоцировал своеобразный диалог касательно упомянутых рук, но когда собеседник углубился было в какую-то развеселую историю о ГБ, удалился.
Истощив самокопанием свои силы, он грохнулся на мокрую террасу. Плетеный стул трещал под ним, а ночь чернела, как «правительственный «мерседес». «Мистика зеркал», – указал господин Тихамер на круглеющее перед террасой озеро, и его мнение совпало с мнением Господина Лукача, ну и, по крайней мере, проживающего в Вене господина Ханака. Оппардон. Мастер изволит испытывать затруднения. Темнота даже постепенно ↑ парялась, начинался переход от ночи к рассвету.
Он изволил вернуться, чтобы поспать. Апартаменты были им братски разделяемы с гоподином Андрашем, рука которого была между головой и подушкой. «Давай спать!» Однако они не спали. Нежелающий успокоиться дух мастера с треском заполнял пространство. Об этом сказал он своему товарищу. Поскольку господин Андраш с молниеносной быстротой стал для него именно: товарищем. (Эта часть изволит обладать лирической красотой.)

«Дурак», – сказал господин Андраш. (Он блестяще умел обругать представителей творческих профессий.) «Подожди. Я это запишу». И в самом деле он изволил вскочить. «Готово?» – спросил теперь уже смягченным от любви голосом высокий, готический молодой человек. «Соу-соу». Затем он изволил расхохотаться (простите: но именно это слово сюда подходит: ↑ хохотаться): «Это будет открытое произведение, пощады не жди». Затем с ответственностью добавил: «Конечно, в музыке не так». – «Давай спать». Но они для этого слишком устали. Немного погодя мастер встал и принялся работать, работать…








