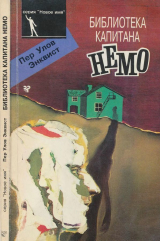
Текст книги "Библиотека капитана Немо (Роман)"
Автор книги: Пер Энквист
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Из нужника зеленого дома Русский остров можно было увидеть вдалеке, а из избушки у Мелаон – совсем близко.
Туда мы ее и отвезли.
Усадили на багажник велосипеда с надувными шинами, которые я то и дело заклеивал «сулизионом», так называлось это средство, и покатили. Свен Хедман сказал, что он с ней договорился, но это, скорее, мы с ним договорились, хотя она по естественным причинам вовсе не возражала. Он привязал ее вожжами, которые Нурдмарки забыли в хлеву с тех времен, когда Свен работал случником, небось корову привели, туда-то она шла упираясь, а потом стала кроткая как овечка, вот они и забыли вожжи, во всяком случае, они остались в хлеву. У нас-то больше не было ни лошади, ни быка, с тех пор как Свена отстранили от этого дела, после чего он сделался молчаливый и совсем смирный.
Альфильд улыбалась и выла не переставая, вроде как бы радовалась, что на улице очутилась. Мы шли через деревню. Думаю, на нас глядели, но наверняка не скажу. Ведь люди там, за окнами, могли заниматься чем угодно, а я глаз не подымал. Когда мы проходили мимо хлева Линдгренов, она громко произнесла – блядун.
Потом через лес мы вышли на дорогу, и тут она замолчала. Целый час мы везли ее к Мелаон. Было довольно жарко.
Мы ссадили ее на ступеньки крыльца. Она вертела головой и по-птичьи хлопала своими черными глазами, но ошарашенно молчала. Похоже, потеряла присутствие духа. Не теряй присутствия духа, сказал Свен Хедман мне, заметив, что у меня начала дрожать губа. Тогда я взял себя в руки. Он в общем-то был рад, что я с ним.
Вечером мы с Альфильд заснули, но позже ночью я проснулся и увидел, что Свен Хедман сидит и читает Библию, хотя это было вовсе не в его привычке. Услышав, что я проснулся, он повернулся ко мне, точно собирался уговорить поскорее заснуть. Но ничего не сказал.
Я встал и сел рядом с ним. Альфильд спала.
Стояла по-летнему светлая ночь. Над болотом поднималась дымка тумана. На Русском острове были видны только верхушки елей, а громадные, разлапистые, растопыренные, словно пальцы Бога, ветки, которые никогда не дрожали, скрывались в пелене.
Как, собственно, можно стать взрослым.
– Ей бы, верно, было бы худо в больнице, – сказал Свен Хедман погодя – перед тем, как отнести меня в кровать.
Подумать только, он не просто обратился ко мне, но и на руки взял.
5
Он сообщил мне, что в ближайшие дни ему вроде бы не надо выходить на работу. И он побудет немного со мной и Альфильд.
Почти каждое утро над болотом висел туман. Потом он разрывался, повисал клочьями – довольно жуткая и в то же время прекрасная картина. Все, что я отчетливо помню из времен детства, жутко и прекрасно. Когда туман раздвигался, вперед выступал Русский остров, словно плывущий ко мне корабль. Он плыл ко мне.
Пока корабль приближался сквозь туман, неизменно держа курс на меня, я размышлял, что же там есть. Гадюки там тоже есть. И громадные ели, которые никто не рубил уже много столетий.
Следовало быть очень внимательным. Уже совсем близко.
Свен хорошо умел варить кашу. Я тоже научился. Уже на второй день Альфильд начала показывать норов.
Передвигалась она без труда, но нервничала, что ее не выпускают из дома. Казалось, ее тянуло к воде. Уже утром третьего дня она проснулась раньше всех и вышла на улицу, босая, в одних серых кальсонах, в которых любила спать.
Мы встревожились, когда проснулись и обнаружили, что ее нет, но, к счастью, ничего не случилось. Она сидела у кромки воды, опустив в нее руки, и наблюдала за рыбешкой.
Мы спокойно отвели ее домой, и тут она захныкала, и Свен Хедман тоже чуть не разнюнился.
– Красивая у тебя мама когда-то была, – внезапно произнес он. А на это что ответишь.
Он был сильный, приземистый и беспрерывно жевал табак, но теперь заговаривал со мной все чаще, иногда по нескольку раз на дню. Я хотел было спросить его, не скучает ли он по Юханнесу, но раздумал и промолчал.
Да и что бы он мог на это сказать.
На третий день кончилась овсянка. И Свен сказал:
– Поеду привезу овсянки.
Он привязал Альфильд вожжами Нурдмарков к ножке кровати и велел мне сторожить.
Ничего необычного в том, чтобы остаться с нею наедине, не было. Раньше-то ведь я оставался. Я не особо боялся. По-моему, он больше нервничал сам. Я это понял, когда он ее привязал. И несколько раз повторил, без всякой нужды, что скоро вернется. Только зайдет в «Консум» в Форсене и купит овсянку и молоко. И много раз проверил узлы, очень тщательно.
Потом взглянул на меня и покатил велосипед с надувными шинами к мосткам.
Альфильд выглядела вполне здоровой и веселой, когда мы остались одни, но прямо-таки нетерпеливо дергала узлы. Она была немного беспокойной и пела не совсем так, как раньше. Собственно, пела она или, вернее, мычала чуть ли не сердито, чуть ли не злобно, с вызовом глядя на меня и дергая вожжи. Но узлы были завязаны на совесть и не поддавались.
Хорошие были узлы, прочные, поэтому она злобно смотрела на меня, точно ее мучила жажда. По ней ясно было видно, что она хочет пить. Я сперва дал ей воды в берестяном черпаке, но она отказалась. Потом я объяснил ей, что до «Коппры» совсем близко, Свен скоро вернется, но тогда она засучила ногами прямо-таки с вызывающим видом, как будто ее донимали слепни, чего на самом деле не было.
Я совсем растерялся. Не знал, что сказать, но что-то надо было говорить, чтобы успокоить ее, и я произнес:
– Успокойся, мама, он только овсянку купит.
Она как-то чудно посмотрела на меня. Я засомневался, не сморозил ли глупость. Я ведь никогда прежде не называл ее мамой. Но тут она открыла рот и приветливо завыла.
Я подошел к окну и окинул взглядом озеро. Она замолчала. Я обернулся и увидел, что она смотрит на меня. Даже не знаю, что я почувствовал.
И я принялся развязывать узлы на вожжах, затянутых вокруг ножки кровати.
Я повел ее к кромке воды. Камышей там не было.
Она радостно смотрела в воду, следя за мелкой рыбешкой. Я палкой тыкал в воду, и рыбешки носились взад и вперед как чокнутые. Я натянул вожжи. Тогда она наклонилась и стала пить.
Она не мычала. Мне было ничуть не страшно.
Свен Хедман вернулся через два часа. К этому времени я уже опять привязал ее к ножке кровати. Он, конечно же, заметил, что узлы другие, но не спросил, что произошло. Наверно, сам понял.
Я сказал:
– Она хотела пить, но только из озера.
– Ты принес? – спросил он.
– Нет, – ответил я, – я отвел ее туда, и она сама напилась.
И больше вопросов он не задавал.
Свен сварил овсяную кашу. Ночью Альфильд снова начала выть.
Я спал, но проснулся. Встал и сказал:
– Она сама напилась из озера и норов совсем не показывала.
Перед ним лежала Библия, не раскрытая.
2. Приключения лошади
Ртом прижалась Ээва-Лиса
к стенке ледяной.
Раскидала руки, ноги,
бьется в корчах под луной.
Из нее скользнула рыба,
Бог не дал дитяти ей.
Рыба плачет, рыба бьется,
вот расплата за позор.
1
С Хедманами поступили страшно несправедливо.
Несправедливо обошлись со Свеном Хедманом, несправедливо обошлись с Альфильд Хедман.
Я уже совсем было начал понимать. Но тут она стала лошадью. И ее у нас отобрали.
Но с ними поступили несправедливо.
Ей не нравилось, что ее все время держат взаперти. Я понимал это, и Свен Хедман понимал.
Ведь было лето. И зеленая травка. И сосны, и черника, и озеро с рыбешками. И светло сутки напролет. И Русский остров словно корабль.
Свен Хедман после того раза стал чуток посмелее. Вроде как бы то, что я отвел ее, держа за недоуздок, к воде, чтобы она попила и полюбовалась рыбешками, и придало ему мужества. Всю весну он делал то, что, по его мнению, обязан был делать. Готовил еду, убирал дерьмо и тяжко вздыхал. Ну и, похоже, в конце концов перестал верить, что она настоящий человек. Словно бы наждаком прошлись. Похоже, он больше не верил, что она настоящий человек. Но после того, как я отвел ее на водопой, он осмелел.
И начал все чаще и чаще выводить ее подышать.
На ней были кальсоны, и валенки, и вязаная кофта. Странновато, конечно, ведь стояло лето, но валенки были подшиты кожей, так что они не промокали.
Черные волосы повязаны платком. Все это выглядело довольно странно, пока ты не привыкал. И тогда казалось вполне естественным, да и от комарья хорошо.
Меня комары никогда не донимали. Это зависит от того, какая у тебя кровь. Свена Хедмана комары тоже не донимали.
Мы завязывали вожжи ей на талии. Так что она могла идти куда захочет. Иногда она тащила что есть мочи. Иногда я боялся, что она утащит меня с собой.
Теперь стало совсем просто.
Тишь да благодать. Это было удивительно. Альфильд натягивала вожжи или ложилась на землю, всего понемножку, иногда пела, и мы слушали, и на душе делалось хорошо.
Было так, как и следовало быть. Не о чем спорить или языком чесать.
Лодки у нас не было, но я частенько ловил рыбу, несмотря на мелководье. Я шел по мыску, уходившему довольно далеко в озеро, пока вода не доходила мне до колен. Где и стоял, держа палку с привязанными к ней суровой ниткой, щепочкой вместо пробки и крючком. Возвращаться на берег за червяками было муторно, поэтому я носил червей с собой. Рот служил банкой для червяков, ведь разговаривать-то на рыбалке ни к чему.
Когда плотва съедала червя, я просто-напросто вытаскивал крючок из воды, вынимал изо рта нового и насаживал. Проще пареной репы, в общем-то, и мы с Юханнесом до обмена всегда так делали.
Мы притраливали Альфильд ремнем, придавленным камнем, и она сидела, опустив ноги в валенках в воду, с интересом глядя на меня. Когда я вытаскивал рыбу, было слышно, как она радуется.
Иногда она напевала. И мы понимали, что ей хорошо. Валенки сушили на крыльце на вечернем солнце.
Свен Хедман, похоже, начал считать, что работать ему без надобности.
До деревни было семь километров, так что сюда никто не приходил. Мы жили в полном одиночестве. И зеленый дом не маячил перед глазами. Мы со Свеном ходили босиком, а Альфильд настаивала на валенках. Мы водили ее гулять, в чем она была, и тогда она успокаивалась. Некоторые ходят в валенках летом, говорил Свен Хедман, кивал, и на том ставилась точка. К тому же это была правда, сами видели. Мы выводили ее в чем есть, и она сидела, болтала в воде валенками и напевала, и если подумать, так то были одни из самых замечательных летних месяцев в моей жизни.
Хотя возникли трудности с провизией. Мы со Свеном устроили совещание на кухне по поводу провизии. Впрочем, совещались мы не только о провизии. Именно на кухне он произнес эту странную фразу об Альфильд, объяснение которой я так и не получил. Точно как с теткой в картофельном погребе, сундуком и письмом, которое она прочитала молча, а потом фыркнула и сказала: «Кто бы говорил!»
И больше ничего. Свихнуться можно. Вот так же было и с тем, что Свен Хедман рассказал об Альфильд.
Он сказал: Я ждал, пока она не выйдет из тюрьмы. Я спросил: Почему она сидела в тюрьме? – Это было несправедливо, ответил он, потому что она объяснила, что хотела лишь убить рыбу. Я спросил: Сколько же она просидела? Он сказал: Я ждал, пока она не выйдет. – Сколько ей было тогда лет? – спросил я. Когда она вышла, она была уже не такой красоткой, как тогда, когда попала туда, сказал он.
Красоткой – слово-то какое.
Кто знает об этом, спросил я. Только мы трое, ответил он. Мне кажется, ты должен знать, какая у тебя мама.
И больше ничего. Ясное дело, я вдрызг разобиделся. Знать, что у тебя за мама. Вывалить из себя такое. И больше ничего не рассказать.
Потом он заговорил о провизии. Свихнуться можно.
2
В июле было совсем светло, тепло и безветренно. Мы собирали ягоды, и я тайком доил коров Альбина Хэггстрёма, которые ходили по большаку в Эстру. Это, черт подери, искусство. Ежели им удавалось убежать, молоко выливалось. Приходилось проливать семь потов из-за каждой капли. В одной руке я держал подойник, а другой доил.
Раз в неделю Свен ездил в «Консум» в Форсен, вообще-то относившийся к Вестре, и покупал продукты. В основном овсянку.
Он немного беспокоился по поводу денег, говорил он.
Ночами мы частенько посиживали с ним и тайком читали Библию, пока Альфильд спала. Поразительно, чего там можно было найти, ежели повезет. Когда не везло, тогда получалось вроде как чтение Ямеса Линдгрена.
Скоро пойдет брусника, сказал Свен как-то ночью. Я понял, что он намерен остаться здесь надолго.
Было светло что ночью, что днем, поэтому нам было в общем-то все равно, когда спать. Вот мы и спали, когда Альфильд не пела. Свен однажды упомянул про то самое ужасное, то есть про то, когда ему сообщили, что он больше не будет случником, так решил деревенский сход там, у стола с молочными бидонами. В объяснения не вдавался, но упомянул.
Грязных слов из Альфильд больше не вылетало.
Валенки теперь пахли только озерной водой.
Как-то ночью Свен Хедман заснул прямо за кухонным столом, уткнувшись лбом в деревянную столешницу, так что, когда он встрепенулся, лоб у него был весь в узорах.
Мы начали пасти ее в лесу.
Там была полянка, на которой когда-то складировали древесину: сейчас сквозь кору проросла трава, кругом простор и сосновый лес. Свен Хедман вбил кол посередке, связал вместе вожжи, так что они стали длиной метров в пять, и, обвязав одним концом Альфильд, другой крепил к колу.
После чего она могла свободно ходить по кругу.
Мы сидели на бревне, Свен с зажатой в руке табакеркой, которую он то открывал, то закрывал, как будто хотел угостить кого, но табаком баловался он один. Он заявил, что, по его мнению, ей бы не понравилось в больнице, ей было бы плохо там, в этом он точно уверен. Альфильд любит подолгу гулять на свежем воздухе, утверждал он, ясно как день; и все время сидеть там в мокрых валенках, только и делая, что глазея на рыбешку, должно быть, вредно для здоровья. Я возразил, что, мол, ей интересно смотреть, как я ужу рыбу, и однажды она мне накопала червей из коровьей лепешки, но он сказал, что гулять в лесу ей тоже полезно.
Было так покойно и хорошо. И птицы порхают. Альфильд медленно ходила по кругу, она немножко хромала, потому как второй удар затронул и ногу, но вообще ходила нормально. Мы сидели, Свен и я, и радовались, что ей так хорошо. Она была некрасивая, зато милая, и никогда не пела гадкие или злобные песни, и сделалась в каком-то смысле лошадью. И после того, как это случилось, мы стали все больше и больше о ней заботиться.
И мы ее любили. Прежде все было ужасно. Теперь она стала лошадью. А с лошадью надо обращаться бережно, ухаживать за ней, а зимой тщательно укрывать попоной, потому что по глубокому снегу ей идти тяжело и она потеет: с лошадью хлопот хватает. На тебя ложится большая ответственность.
С каждым днем мы проявляли все большую заботу.
Свен расчесывал ей волосы, а я водил к воде попоить и полюбоваться на рыбешек. Ее обильно кормили овсянкой с ворованным молоком и черникой, и Альфильд ела и распевала. Она чуточку покруглела и выпрямилась. И уже не выглядела такой иссохшей, как раньше. Даже помолодела.
Свен не забывал напоминать, как плохо ей было бы в больнице. Поэтому нельзя, чтобы ее обнаружили.
Ночью она спала прекрасно. Иногда она бешено носилась вокруг кола, точно страшно веселилась. Мы каждый день тщательно сушили ее валенки и укутывали в одеяло, если она ночью скидывала его.
Они, наверно, поняли. Или кто-то увидел.
4 августа во второй половине дня на лесной тропинке появился прокурор Хольмберг. Его сопровождал Ямес Линдгрен. Мы сидели на полянке, как обычно, и Альфильд ходила и весело мычала, и ей было хорошо.
Они с минуту постояли, глядя на нее. Потом отвели Свена Хедмана в сторонку для разговора. После чего отвязали Альфильд, и ни я, ни Свен не могли на это ничего сказать. Они крепко держали ее.
Всего через несколько минут она перестала вырываться. И они забрали ее с собой, оставив меня выяснять последнее.
На следующий день они повезли Альфильд на автобусе, сперва в город. Потом, как предполагалось, ее должны были отправить в Умедален. На лечение, потому как она считалась чокнутой.
А она вовсе такой не была. Когда автобус сделал остановку в Форсене, чтобы пополнить запас дров для газового генератора, Альфильд сказала или показала, это так никогда и не выяснилось, что ей надо выйти помочиться. Учитывая, что поездка предстоит долгая, ей разрешили. Прихрамывая, она углубилась в лес и исчезла за кустом, и ее так и не нашли. Шофер к тому времени развел уже полные пары и, не желая, чтобы движок остыл, погнал машину дальше в Шеллефтео, где ей предстояло пересесть на автобус до Умео.
Но она исчезла.
Ее искали. Однако мы со Свеном Хедманом сразу смекнули. Поздно вечером, когда уже начало смеркаться, потому как уже наступил август, мы отправились на велосипеде к Мелаон. Там мы ее и обнаружили.
Альфильд сидела у кромки воды, глазела на рыбешек и была совершенно спокойная, но валенок не нашла. Туфли она потеряла. Ноги были в жутком виде. Когда мы приехали, Альфильд обрадовалась, просияла и чуток всплакнула.
Автобусы уже никакие не ходили, так что она смогла переночевать там.
Это была последняя ночь на Мелаон. Свен Хедман сидел за кухонным столом, перед ним лежала черная Библия, но его взгляд был устремлен на Русский остров. Я уже лег, потом встал и предложил почитать тайком Библию. Но как мы ни старались, на этот раз не сумели найти там ничего интересного. Точно ее заколдовали.
На дворе было пасмурно, почти темно. Лето в общем-то подошло к концу, и мы не могли различить ни одного островка.
Назавтра ее забрали.
Проследили, чтобы она помочилась перед поездкой, и она даже и не пыталась снова убежать.
Невероятно, как она нашла дорогу. Ведь туда было около десяти километров.
Сперва Альфильд доставили в Умедален, но потом перевели в Браттбюгорд, между Умео и Виндельном. Месяц спустя мы со Свеном Хедманом поехали на автобусе в Браттбюгорд навестить ее.
Там было немало жутких типов. Вонь стояла страшная. Было несколько монстров, один с крокодиловой кожей, и полно идиотов. Их собрали со всего Весгерботтена. Альфильд лежала в кровати.
Она не издала ни звука. Только беспрерывно водила рукой по своим черным волосам. На меня смотрела твердо, как будто вот-вот что-то скажет, но мы-то знали, что не скажет.
Больше я ее не видел. 14 ноября с ней случился третий удар. Мы навестили ее всего один раз. Это было жутко.
Необходимо, чтобы во всем этом был какой-то смысл. Иначе можно прийти в полное отчаяние.
Мы навестили ее один-единственный раз. На обратном пути в автобусе я маленько разнюнился. Тогда Свен Хедман взял меня за руку, под локоть, осторожно-осторожно, и я в конце концов перестал.
Со Свеном и Альфильд Хедман обошлись несправедливо.
Иногда мне кажется, что какое-то время я был близок к тому, чтобы понять, что за жизнь у нее была. Но я так и не успел.
III. ПРИБЫТИЕ НА ОСТРОВ ПОСРЕДИ МОРЯ
1. Открытие муравейника
Ээва-Лиса затихает,
точно рыба в тенетах.
На полу снежок сверкает,
рыбка плачет, как дитя.
Не того ждала младенца,
нет, не рыбу на снегу.
Никуда ей уж не деться,
от позора не сбегу.
1
Главное – начертить точные карты.
Остров с горой Франклина находился на расстоянии шестнадцати морских миль к югу от побережья Нюланда; из дальних финских шхер можно было различить вершину вулкана. Иногда он курился. Никто на остров не ездил – из-за страха перед убитыми русскими, похороненными там, и из-за страха перед водившимися на острове в изобилии гадюками.
Остров располагался на 61,15 градуса северной широты, а долготу не вычисляли. Этим, наверно, объясняется, что его так долго не могли найти. На острове росли ели, которые не рубили много столетий, настоящие великаны, ветви до тридцати сантиметров в диаметре. По ним можно было идти довольно далеко. Когда вулкан ворчал, ветви дрожали, словно Божьи пальцы.
Но с них было видно далеко окрест.
Там, в заполненном водой кратере вулкана, «Наутилус» встал на вечную стоянку. Судно мирно покачивалось в нутре вулкана, и там спрятался Юханнес, чтобы в библиотеке найти себе укрытие.
Нюланд с его пальмами, зачастую непроходимыми джунглями и опасными песчаными блохами, где на мать Ээвы-Лисы, парализованную и беспомощную, напали в ее последние часы крысы, этот материк, откуда родом многие из самых близких мне людей, о котором я мечтал и которого боялся, – туда мне не суждено вернуться никогда.
Но недалеко от побережья я обнаружил остров, последнюю стоянку «Наутилуса», где Юханнес нашел себе прибежище в библиотеке капитана Немо.
«Если бы врага не было, его надо было бы создать», – написал он в одной из своих записок.
Это словно мимолетная улыбка, чуть ли не презрительная, и все-таки дружелюбная. Как будто он хотел сказать: Вот, возьми, теперь ты должен свести все воедино. А сведя воедино, ты покинешь судно, откроешь краны и дашь ему уйти на дно. Всю твою жизнь мы с тобой этого избегали. Но сейчас я даю тебе это знание в дар. Мешок с камнями, который тебе предстоит таскать остаток жизни.
Итак, сведи воедино, если успеешь.
Пригожий?
Последние часы его жизни я не сводил с него глаз. Пригожий? Скорее как недоступная часть моей жизни, и тогда слово «пригожий» не годится.
Посмертные карточки. Папин блокнот. Возвращение найденного мертвым ребенка.
Живой Юханнес, мертвый я. Или, может, наоборот.
Тысячи клочков с записями. Странная библиотека, в таком случае.
«Ээва-Лиса вычеркнула мою жизнь, когда я вычеркнул ее. Если кто-то вычеркивает жизнь, значит, он – палач жертвы. Но если оба?»
«Но о смерти, о смерти ты не знаешь ничего. Ничего!»
Самое прекрасное и человеческое: жить как монстр, далеко-далеко, и быть тем, кто делает человеческое видимым. Сросшиеся из Браттбюгорда.
Альфильд стала ведь лошадью, а Свен все равно точно чокнулся, когда она умерла. Быть может, люди срастаются, находясь в крайней опасности и нужде. И если другой умирает, то ты остаешься сросшимся с трупом.
Поэтому посмертные карточки ставили на комод?
2
Великий грех являлся в деревню каждую Страстную пятницу вместе со свидетельницей Иеговы, торговавшей своим товаром, несмотря на страдания Спасителя на кресте, когда всем вменялось сидеть тихо и чувствовать, как это ужасно.
Малый грех явился вместе с Ээвой-Лисой. Может, она прятала его в чемодане. Вообще-то за малым грехом скрывалась такая благородная мысль: чтобы Юханнес перестал нервничать. И чтобы Юсефина вновь обрела утраченного однажды ребенка. И поэтому она сжалилась над Ээвой-Лисой.
Но дети ведь вырастают. И коли они носят в себе заразу греха – похоже, становятся людьми. Поэтому люди такие чудные. Хотя Юсефина этого не понимала, и деревня тоже. Нет, словно чума греха, росло в ребенке что-то пришлое, хотя в приходе уверяли, что она вовсе не из пришлых, а скорее валлонка, но родом из царства джунглей Нюланда, в котором, как говорили, есть пальмы, и загадочные болезни, и обезьяны, лазающие по деревьям, и где не знали, что совсем близко находится таинственный остров с вулканом, а на нем громадные ели с ветками, похожими на Божьи пальцы, а вершина вулкана напоминает Костяную гору, и зимой она покрывается снегом и снежным сверканьем, и можно в валенках по твердому насту подняться наверх, и кругом сплошная чистота.
Первый раз я увидел ее как-то в октябре.
Подморозило. Они с Юханнесом, взяв коньки, сделанные дедом, спустились на лед. Дедушка сделал коньки для меня, пока он еще оставался моим дедом, он был деревенским кузнецом и умел мастерить подобные штуки. К деревянной подметке он приделал загнутый полоз из каленого железа с зубчиками впереди и подарил мне на день рождения. Но я так и не успел ими попользоваться.
Потом они, вполне естественно, перешли к Юханнесу.
Я видел их с дороги. Ээва-Лиса каталась на Юсефининых финских санках с шипами, Юханнес – на коньках, они хохотали. Все озеро было затянуто льдом, но они держались ближе к берегу, кромки незамерзшего устья, как обычно, были желтого цвета. Я стоял наверху, на дороге, и смотрел. Они были похожи на маленьких муравьев, хотя Ээва-Лиса чуть больше.
Через час я ушел домой. Тогда-то я и увидел Ээву-Лису впервые.
Вернувшись домой, если можно так сказать, я начал думать об Ээве-Лисе, какая она. Целый вечер думал. С такого расстояния ведь хорошенько не рассмотришь, а мы с Хедманами в первое время после обмена к молитве не ходили, потому что им казалось, будто все на них глазеют. Но хоть я и не видел Ээву-Лису вблизи, было проще простого представить себе, какая она.
У нее бледные щеки, красивые раскосые темные глаза, кошачье лицо и волнистые черные волосы, собранные на затылке в хвост. И ничто из того, что я увидел позднее, не смогло изменить эту картину, которая оказалась абсолютно верной.
Они вроде бы часто играли вместе.
Я начал шпионить за ними, потому что мне казалось важным знать, часто ли они играют. Когда пришла весна, стало полегче, ведь уже не было снега, на котором остаются следы. После мая наступило то самое лето, когда Альфильд превратилась в лошадь, но в сентябре я возобновил слежку.
По-моему, Ээва-Лиса понимала, что надо защищать лягушек, потому что я ни разу не видел, чтобы, набирая воду, она прихватила хоть одну.
Когда я впервые увидел их у строгальни, было лето. Может быть, май. Снега я не помню. Или август? Они сидели на мостках, там, где я обычно мыл пиявок и где вода черная и нельзя купаться из-за пиявок. Я прошел мимо по мосту. Они сидели на мостках. Когда я проходил мимо, они замолчали, но Ээва-Лиса подняла глаза. Я убедился, что она такая, какой я ее себе представлял.
Я без всякой зависти позволил Юханнесу там сидеть. Зависть, согласно пророку Иезекиилю, чуть ли не смертный грех. Я часто повторял это себе в последующие годы. И все равно мне было нелегко, когда я проходил мимо, а они сидели на мостках и болтали, замолкнув при виде меня, и Ээва-Лиса подняла глаза.
Можно было вообразить себя пиявкой. Иногда можно было. Вот ты лежишь там, свернувшись, на илистом дне, потом начинаешь двигаться, распрямляться и всплываешь. Ну, как пиявки плавают, волнообразными движениями. И вот достигаешь поверхности воды и видишь их испуганные, онемевшие лица. Совершенно ошеломленные. Потом, не вымолвив ни слова и бровью не шевельнув, поворачиваешь и уплываешь, назад, в глубину, чтобы опять зарыться в ил.
Но справедливости не существовало. Одни были одиноки, другим присуждали и дом, и Ээву-Лису, и кошку, а иногда и собаку. Почему нет справедливости?
Это все из-за Бога. А у Сына Человеческого, этого кутенка, который все таскался по дорогам Палестины, времени хватало лишь на тех, кто и так не был одинок.
Дело в том, что она доверилась Юханнесу. Я это упустил. А он не сумел сберечь доверенные ею тайны или правильно распорядиться ими.
Разбирая библиотеку, видишь, сколько всего она ему доверила. Она ясно и недвусмысленно рассказала – ему – о загоне для телят. Хотя он не понял, что она ему говорила.
«О двух годах, проведенных у Элона Ренмарка из Лонгвикена, она бы предпочла не рассказывать, но в ответ на просьбу сделать это все-таки как бы мимоходом изложила суть. Ей было одиннадцать, когда она попала к Ренмаркам, которые сжалились над нею, и тринадцать, когда она их покинула. Вполне солидное семейство. Элон Ренмарк был высок ростом, имел крутой нрав и часто бурно рыдал. Будучи очень чувствительным человеком, он нередко поколачивал своих детей, но несильно и недолго. Плакал он от бешенства или душевного волнения: например, он много раз рассказывал историю о том, как его брату во время поминок по первой жене Ренмарка, которая умерла от рака, – как этому брату на десерт досталась груша из варенья. Были поминки. Груша плавала в сиропе. Брат ложкой попытался поднести грушу ко рту, но она соскользнула с ложки, и когда он начал ловить эту грушу из варенья – это было похоже на скользящую по льду неподкованную лошадь, – у него ничего не вышло. Он понапрасну гонялся за грушей по всему поминальному столу под беспокойными взглядами гостей. Они от ошеломления не могли пошевелиться. На столе образовался совершеннейший беспорядок, а груша довольно-таки сильно замызгалась.
Жена умерла от рака, много месяцев у нее были сильные боли, и под конец она орала что есть мочи, убийственная история. Элон Ренмарк был человек такого склада, что, рассказывая эту историю, он начинал дико хохотать, обливаясь при этом слезами. Все лицо бывало залито слезами. Считалось, что он слезлив и хороший рассказчик. Своих детей Ренмарк бил, чтобы преподать им урок, но сердце у него, как считалось, очень доброе, и по натуре он был человек чувствительный. Например, когда рассказывал занимательные истории.
Он легко нравился, потому что у него были такие сильные чувства и чуть что он начинал плакать, и, как считалось, из-за любви.
Досуг он посвящал тому, что по поручению прихода подкарауливал браконьеров, особенно тех, кто охотился на лосей, но его лишили этого поручения, оставив, однако, ружье, после того как он пальнул в подозрительного охотника и совсем незначительно ранил Фрица Хедлюнда из Гамла-Фальмарка в плечо. Хедлюнда признали невиновным, но можно думать что угодно.
Таким образом, ему было тем не менее отказано в его самом любимом досуге. Сказать, что он с самого начала невзлюбил Ээву-Лису, неверно, это могло быть неправильно истолковано.
Элон Ренмарк жил в Лонгвикене, и у него было четверо детей, все мальчики, и отчасти из-за мальчиков он жалел, что Ээва-Лиса – девочка. Тут она особо в подробности входить не захотела. Как-то ночью, приблизительно через год после того, как она попала к Ренмаркам, у нее страшно разболелся зуб. Всю ночь она не сомкнула глаз и назавтра не могла закладывать сено в ясли, как раньше. Поэтому в основном она занималась тем, что чистила граблями канавы или стояла без дела и распускала нюни. Следующую ночь она тоже не спала и иногда громко кричала, и утром вторая жена Элона Ренмарка, спокойная по характеру – первая умерла от рака, но в конце была буйного нрава, – так вот, она, чтобы обрести дома покой, поехала с Ээвой-Лисой на велосипеде к зубному врачу Эстлюнду в Бурео. Эстлюнд был родом из Мьодваттнета, но обучался на зубного врача в Стокгольме и имел хорошую репутацию, поскольку у него были ловкие пальцы.
Он прославился еще и тем, что на шкафу у него стоял череп, в котором были целы все зубы. Как бы пример для подражания. Обычно говорили, что это единственная целая челюсть в этой комнате.
Ээву-Лису усадили в кресло, и Эстлюнд произвел осмотр. Он остался очень недоволен ее зубами, но все-таки спросил, где болит. Когда она показала, он кивнул, подтвердив, что так оно и должно быть. После чего взял щипцы и выдернул плохой зуб, который болел, и заодно еще три плохих зуба, которые наверняка бы скоро разболелись. Необходимо, сказал он, – хотя ни Ээва-Лиса, ни вторая жена Элона Ренмарка, спокойная по характеру, может, вовсе и не считали их уж такими плохими.








