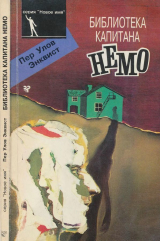
Текст книги "Библиотека капитана Немо (Роман)"
Автор книги: Пер Энквист
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Вообще-то она была красивая, я всегда так считал. Но ведь красивым быть необязательно. А когда умер папа, она точно онемела. Была по-прежнему красивая, но немая. Таким образом, я от одной мамы, красивой, но немой, попал к другой, к Альфильд, не такой красивой, но тоже немой, хотя и по-другому.
Поскольку Юсефина была немая, она не любила расточать ласки. И не любила, чтоб ее ласкали. Все это ни к чему, этот урок я выучил.
Может, потому-то я так и испугался в тот раз, когда долговязая тетка обняла меня у автобуса.
Юсефина села на кипу газет и вроде бы жалобно заныла, но не вслух.
Интересно, сколько ей тогда было лет.
Она молчала. А что она могла сказать. Все решено, все давно решено.
Хотя ведь я у нее прожил больше шести лет.
Просидев так довольно долго, как бы жалобно ноя, но не вслух, – я уже перестал хлюпать носом, и стало так тихо, что не слышно было даже осин за окном, – она поднялась с газетной кипы, на которой я лежал. Ни словечка не вымолвила. Пересекла чердак и подошла к сахарной голове в углу. Взяла сахарные щипцы и отщепила кусок. Зажав его в руке, осторожно положила щипцы и вернулась ко мне.
Интересно, сколько же ей было лет. Мне всегда казалось, что она красивая.
Юсефина поднесла сахар ко рту и лизнула, чтобы он стал помягче. После чего прижала его к моим губам.
Я не знал, что мне делать. Я ждал.
Она прижимала кусок сахара к моим губам. Я перестал хлюпать носом. На чердаке было совсем тихо.
Она не отнимала руки, просто ждала. Я буду помнить это всю жизнь. Помню выражение ее лица. В конце концов я понял, что надо сделать: я раздвинул губы и кончиком языка коснулся белого сахарного излома.
Меня перевозили с помощью прокурора.
Я видел фотографию. Была напечатана в газете.
Идет снег, фотография не в фокусе, может, на линзу камеры попал снег. Фотография не в фокусе, но все равно видно, как они несут меня и как я, в объятиях прокурора, захожусь в отчаянном крике.
7
Зачем мне обвинять его в пожаре. Я и не обвиняю, больше уже не обвиняю.
У него, очевидно, не сошлись концы с концами, или же он и не пытался свести все воедино. Наверно, чересчур долго просидел взаперти в библиотеке подводной лодки. От этого делаешься словно бы чокнутым.
Никогда я не расскажу, как он пытался наказать зеленый дом.
Палачи, жертвы и предатели.
Сигнал.
От него ко мне, с края вселенной, доносится тиканье, таинственные послания о жизни. «Сигналы с мертвых звезд», писал он, когда хотел быть особо обстоятельным. «По-моему, тогда-то я и умер» – о той, которую у него отняли.
Поразительная фиксация на смерти в живом человеке.
Он сбежал из больницы, проделал весь путь и попытался сжечь дом и себя самого. Хотя вышло не так удачно, как он надеялся.
«Я стоял у окна спальни и смотрел на долину. Все было так, как и должно было быть, снег и луна сияли белизной. Повалил дым. Я представлял себе это иначе – вроде как бы гореть, чтобы это не причиняло боли, укутанным в снег, словно в вату, под завывание телефонных проводов на морозе, песню, идущую с края вселенной, а перед глазами заснеженная рябина и птицы на ней. Но песни не было, только дым валил, и меня спасли, хоть я этого не хотел и сопротивлялся. Все получилось не так, как мне хотелось.
Казалось, я все запомнил неверно. Пригорок, спускавшийся к роднику, плоский, как блин, лягушек, которых надо защищать, нет, чердак с „Норран“ опустошен. Нельзя наказать дом и нельзя заставить его перестать жить, если он того не хочет. Коли кто не заслуживает смерти, ему в ней отказывают. И приходится продолжать. Необязательно заслуживать милость. Но, может быть, смерть надо заслужить, иначе бы ты не мог жить. Всегда есть что-то получше смерти, сказал осел. Идем, Красный Гребешок, продолжим путь. Поэтому-то они пришли и спасли меня».
Шторм кончился.
Во время шторма мимо моего окна медленно пролетали чайки, их сдувало ветром, а они смотрели на меня с легкой печальной улыбкой и что-то, почти беззвучно, шептали.
Ты помнишь нас, говорили они. С покрытой лаком спинки кровати. Мы все еще пытаемся, не сдаемся. Шторм отшвырнул нас назад, но мы продолжаем полет.
Сейчас море дышит.
Нынешние лето и зиму я живу у моря, на самой южной границе Швеции. Подальше от всего, что случилось, но в границах. Так можно подытожить.
Словом, я свожу воедино, в пределах, но у границы.
Проснулся ночью с высокой температурой, видел нехороший сон. Тело ходило ходуном, но через несколько минут я успокоился. Как тогда, перед обменом, когда у меня подскакивала температура. Ночью я обливался потом и звал Юсефину. И она на цыпочках пробиралась ко мне в темноте, чуть ли не хныча от жалости, потому что в такой темноте ей не надо было стыдиться.
Простыни от жара – хоть выжимай. И она зажигала лампу, меняла простыни, кальсоны, тоже намокшие, и нижнюю рубаху. Делалось сухо, и она гасила свет. И я лежал совершенно спокойно и смотрел в потолок, где белым бесшумным тихим пожаром полыхал снежный свет. Лесные звери на спинке кровати спали, ввинтившись в свои сны, как птицы на воде. И я тоже засыпал.
Может, вот такой будет и смерть в конце: не та смерть, что приходит в жизни, а в самом конце. Мама поменяла простыни, снова стало сухо и тепло, птицы спят, греет снежный свет, и я могу заснуть.
Я был довольно спокоен с тех пор, как нашел его в библиотеке капитана Немо. Несколько не в себе, именно потому, что спокоен.
Спал долго.
К вечеру накатил с юга черный дождь, он навалился быстро растущей стеной над горной грядой побережья, нещадно хлеща, прибил к земле траву и бесшумно уполз вверх и на север; небо очистилось, воцарилась тишина.
Я поднялся на гряду. Далеко на юге, словно тенью закрывая горизонт, виднелся Борнхольм. Медленно-медленно дышала вода, странно черная, почти как в кратере вулкана Франклина.
В тот вечер я гулял несколько часов. Нашел котенка, без признаков жизни. Здесь полно диких кошек. Котенку было, наверное, не больше месяца от роду. Он неподвижно лежал в траве, мордочкой к морю, с закрытыми глазами. Шубка промокла насквозь.
Я чувствовал, как бьется и бьется сердце.
Я отнес котенка в дом. Глаза закрыты, он упрямо отказывался открывать их, хотя по возрасту и мог бы. Вот так же спали и кошки со спинки кровати, но они просыпались, когда я звал их. Чаще всего они звали меня. Мне до сих пор не хватает тех кошек.
Из глаз котенка сочился гной. Я попытался открыть их – и преуспел. Птицы успели раньше, глаза были выклеваны.
Вот так.
Перевалив гряду, я спустился на берег.
Наступили сумерки, из прибрежных камней я выстроил для котенка последнюю норку, положив на дно плоский камень. И на этот плоский камень опустил котенка, вот как надо бы убивать котят. И я бы тогда тоже понял, какой бывает смерть: практичной, без сантиментов, быстрый безболезненный конец.
Тут не идет речь о выборе. Быстрая смерть и внутренняя смерть незнакомы друг с другом. Они не знают друг о друге и не несут друг за друга вину. Котенок, крепко зажмурив глаза, сидел на дне ямы.
Я смотрел на котенка. Сколько же лет прошло. Как трудно было все свести воедино, и как необходимо. Взяв камень, я выронил его над котенком.
Как я постарел, убегая от зеленого дома. Поверх большого камня я набросал другие камни. Холмик был почти не заметен.
Я двинулся на запад через гряду, к камням Але. Над морем повисла юная ночь, Борнхольма не видно. В траве полно улиток, я слышал, как они хрустели под моими подошвами. Юханнес не захотел остаться со мной и не вернулся. В конце получилось не так, как надо. Под ногами хрустело, и сумерки были наполнены невероятной красотой и совершенно обычной смертью.
Все началось с обмена.
Сегодня ночью я подведу итог. Юсефина была такая пригожая, когда меняла простыни, а когда я вернулся после обмена, не захотела разговаривать со мной.
Знаки.
Послание: «Нам надо намного дальше».
Сигнал.
До чего тиха сегодняшняя ночь.
Там, на просторе, спят птицы. Звери со спинки кровати еще не зовут меня. Может, не нуждаются в благодетеле, потому что пока не приспела крайняя нужда.
II. ПРОИСШЕСТВИЕ С ЛОШАДЬЮ
1. Альфильд
Бог всех деток приголубит,
мой не хуже, пусть ублюдок.
В церкви я на днях была,
живота скрыть не могла.
Ээва-Лиса враскорячку,
на полу – как в леднике.
Хоть Спаситель бы родился
в этих яслях-нужнике.
1
Когда прокурор принес меня в мой новый дом, на мне были новые валенки, а его сопровождали фотограф из «Норран» и еще один из стокгольмского иллюстрированного еженедельника, который только ради этого приехал поездом из Лулео. Прокурор нес меня не всю дорогу, лишь первые пятьдесят метров вниз с пригорка. Потом я шел сам.
Нас встретил в кухне один Свен Хедман. Альфильд хоть и была дома, но она совсем притихла и пропела, на мелодию «Когда засияет заря Рождества», что не хочет показываться на глаза фотографам.
Четверть часа спустя мы остались втроем. Мне положили на плоскую тарелку каши из ржаной муки, густо приправив ее мелассой. Ели только мы со Свеном Хедманом. Он эдаким добреньким голосом уговаривал меня поесть. Ясное дело, они мне не понравились.
Он небось был напуган и приготовил то, что умел. В зеленом доме мы никогда не ели мелассу, она считалась кормом для коров, и зря, меласса ничуть не хуже патоки и дешевле. Юсефина и есть Юсефина, сказал много позднее Свен Хедман, чересчур благородная для мелассы. На что я ничего не ответил.
А вообще-то он старательно избегал говорить гадости о ней. Единственный раз сорвался, по поводу мелассы.
Ясное дело, он был напуган.
Верховный суд, высшая юридическая инстанция государства, постановил, что он, бывший случник, совершил ошибку, и приговорил его ко мне. В этом, наверно, есть что-то торжественное – когда Верховный суд приговаривает тебя к ребенку. Ему бы заважничать, а он лишь замолк. Альфильд еще раньше замолчала. Кроме тех моментов, когда пела. Но у нее, верно, были не все дома.
Многие, пожалуй, считали, что для такого торжественного несчастья Свен Хедман и Альфильд слишком уж худые хозяева. Оно было им не совсем по чину.
Я уверен, что Юханнес был ему куда больше по душе, он же такой пригожий.
Свен Хедман прежде занимался в деревне случкой, очень почетная должность, особенно если учесть, что у него и коровы-то ни одной не было; зимой он валил лес, а летом уходил в море в Буре и, собственно, даже крестьянином не считался. Через несколько лет его лишили этой почетной должности – случника, значит, – и он стал молчалив.
В свое время он женился на Альфильд потому, что она была красивая. Альфильд приехала с юга.
Теперь она растеряла былую красоту. По общему мнению деревенских, она, может, и была красивой в самом начале, когда Свен Хедман только привез ее сюда, но потом усохла и перестала быть красивой. Скорее даже, превратилась в уродину. В ее фигуре было что-то лапландское, может, не в самой фигуре, а в походке, а про лицо и говорить нечего. Волосы красивые, а лицо прямо как печеное яблоко.
У Свена Хедмана, пожалуй, когда-то было собственное мнение по этому вопросу, но нынче уже нет. Может, ему в глаз попал осколок стекла, вот она и казалась ему уродиной или, во всяком случае, усохшей. Остальным тоже так казалось. Когда Альфильд родила ребенка и одновременно с ней случился удар, она стала еще безобразнее.
Красивее Юханнеса он, верно, ничего не знал.
Меня ему присудили. Сперва он небось и меня видел так же, то есть через осколок стекла. Мы с Альфильд были для него чем-то уродливым. Но когда меня принесли к ним, встретил приветливо и сварил кашу из ржаной муки с мелассой. Вывалил кашу на плоскую тарелку, в середине сделал ямку для мелассы и дал мне ложку, и мы начали есть, каждый со своей стороны. Так обычно принято в семье, можно сказать. Ему, пожалуй, хотелось меня таким образом приободрить – не давая отдельной тарелки, и я заметил, что под конец ямку с мелассой он оставил мне. Наверно, он был расстроен, что потерял своего любимчика, но взял себя в руки, хотя вокруг все стало таким уродливым.
Когда, вернувшись домой из леса, он входил на кухню и видел нас, то есть меня и Альфильд, то замечал наверняка лишь одно – какие мы уродливые.
Поскольку он нас боялся, я мало разговаривал с ним. Он был долговязый, лысый, по части женского пола, как говорили, не слишком-то ловкий и непрерывно жевал табак. Многие удивились, просто-таки поразились, когда он привез в деревню Альфильд.
Некоторые еще хорошо помнили, как она выглядела по приезде. Странно как-то. Ну, а потом и языком чесать стало не о чем.
Мне выделили кухонный диванчик. Сами они спали в горенке.
На спинке кухонного диванчика не было ни одной кошки. И рябину я не видел. И на той рябине, которой я не видел, ни птиц, ни снега. Я видел только Альфильд и Свена Хедман. Они не разговаривали друг с другом.
Сейчас мне думается, что они грустили. А чего тогда разговаривать. Между ними и без этого было все решено. Что случилось, то случилось. Юханнеса нет. Все вокруг – точно блестящий лед без солнца. Я лежал на кухонном диванчике. Я тоже был точно блестящий лед.
Вот как обстояло дело, когда Альфильд Хедман превратилась в лошадь.
2
Через год и три месяца после обмена у Альфильд Хедман случился второй удар.
Она выжила и на этот раз. Но сделалась уже совсем другой, даже не такой, как прежде.
Иногда я спрашиваю себя, а кем, по их мнению, она должна была для меня стать. Своего рода матерью, очевидно. Может, они думали, что она будет сидеть, в черном платье и с черными волосами, и петь мне псалмы из «Сионских песнопений»; уж чего-чего, а петь-то она умела. Будет сидеть и, закрыв лицо руками, петь о Божьей любви своему дорогому, вновь обретенному сыночку.
Но единственное, что я по-настоящему разглядел тоща, придя к ним, было ее уродство, и тишина. Самое странное, что я вроде бы даже забыл, как важно защищать лягушек. Меня настолько поразила тишина и царящее вокруг уродство, что я забыл то немногое, чему сумел научиться.
По-моему, я старался как можно больше спать. Хотя спать столько, сколько мне хотелось, было, конечно, невозможно.
Второй удар случился с ней в среду.
Сперва она лежала в больничке, той, где оплошали со мной и Юханнесом; там ей приходилось самой ухаживать за собою. Потом она вернулась домой, и здесь ухаживать за ней пришлось мне. Ее привезли в конце февраля; она приехала на автобусе, ее посадили в сани, лошади свободной мы не нашли, но она почти ничего не весила, и мы со Свеном сами запросто довезли ее до дома.
Мы поместили ее на кухонный диванчик. Обложив подушками.
И потом все то время, которое нам еще оставалось, мы провели одни – она, Свен и я. Тогда-то Альфильд и стала лошадью. Хотя это произошло только летом.
Она частенько задремывала. Может, у нее тоже были свои коричневые кошки на лаковом покрытии, которых она, закрыв глаза, звала в своей тьме.
Если не они ее звали.
Я спрашивал себя, после, как у нее со Свеном Хедманом все на самом деле вышло.
Наверно, это была своего рода любовь. Иначе зачем бы он подыскал себе такую, похожую на пришлую или на валлонку. Должен же он был понимать, какими мучениями это обернется. Но он небось боялся остаться в одиночестве, и кто знает, о чем они говорили, пока Альфильд еще умела говорить. Может, она тоже боялась. В деревне болтали, что Свен и Альфильд первые годы были словно тот зверь с двумя головами из Книги Откровения. Но Свен и Альфильд, возможно, и сами не знали, что жили в мученье. А коли ты не сознаешь мученья, значит, его и нет.
Так что то, должно быть, была любовь. Если живешь в мученье, не понимая этого, причина одна – любовь.
В начале мая наступило ухудшение. Свен не хотел выносить сор из избы. Пожалуй, из-за этого-то и возникли сложности.
Сперва ухудшение было настолько незначительное, что мы его почти и не заметили. Вроде как когда большая беда перерастает в огромную. Альфильд не только онемела, но и стала задумчивой. Мы поняли: что-то случилось. Дальше – больше: она оставалась задумчивой, но не совсем немой. И тут кое-что начало проясняться.
Хуже всего было не то, что она перестала быть немой. Она еще и ходила под себя.
Свен Хедман справлялся в основном сам, но иногда и я помогал. Иногда, когда Свен был в лесу, убирать бы следовало мне, но я плохо поддавался. Она сидела не шевелясь и воняла, задумчиво глядя на меня. Порой взгляд ее теплел, как будто она наконец-то поверила в решение Верховного суда. И тогда я уходил в дровяной сарай и делал вид, будто столярничаю.
Той весной она частенько сидела, гладя себя по черным волосам. Стояли холода. Помню северное сияние однажды, когда в ее глазах светилась ласка и я пошел в сарай. Как-то раз я прошел полдороги к зеленому дому, с непокрытой головой, при свете северного сияния.
В нижнем окне горел свет, а наверху было темно. Юханнес небось уже лежит в моей кровати. По-моему, я захлюпал носом.
Они не хотели, чтобы я называл их мамой и папой. Я называл их Альфильд и Свен.
Как будто так и надо было.
Состояние Альфильд все ухудшалось, и через какое-то время она начала кричать.
Сперва мы не понимали, что она говорит. Раньше-то она молчала, когда псалмы не пела, но стихи напечатаны, так что слушать надобности не было. А теперь она пела все новое. Или, скорее, кричала. Сидела на кухонном диванчике, рука на черных волосах, лицо сморщено, то ли от отчаяния, то ли от радости, не поймешь, и ревела.
Щеки у нее когда-то, верно, были совсем детские, а сейчас точно печеное яблоко, но, когда она ревела, иногда проглядывали ее прежние, хотя она их и морщила. Она ревела, или мычала, но не так, как от боли, просто чуть меланхолично или задумчиво ревела в ожидании, когда же решится заговорить с нами. Она ничего такого плохого не кричала, я имею в виду, никаких ругательств, скорее, словно бы хотела сообщить что-то важное, над чем долго размышляла. Чуть ли не небесную весть. Ну, вроде ангелов с трубами из Книги Откровения.
Это напоминало песнь телефонных проводов морозными зимами, я тогда думал, будто это арфа, подвешенная к звездам; но звук был глубже, не совсем небесный, больше звериный. Грозный и теплый, она мычала в общем-то удивительно глубоким голосом, сперва низким – мммммммммммм, потом повыше – ммммм, потом – оооооооооооооооооууууууууууууууууооохххмммммммммммммммммммммммммммммммммммммм… и все стихало, но ее, казалось, это ничуть не огорчало. Точно она сказала что-то важное, а теперь обдумывала сказанное.
Сперва мне ни чуточки не было страшно. Потом стало немножко боязно. После того, как Свен Хедман коротко бросил:
– Теперь нам надо приглядывать за твоей мамой.
Голосом зовущего она пела. Мне надо приглядывать за своей мамой.
Позднее я изредка думал: точно корова, зовущая своего теленка. Я пытался себя утешить мыслью, что теленком, верно, был Юханнес.
На обдумывание у нас ушло несколько недель. Обдумав, мы пришли в замешательство.
Не столько из-за Альфильд. Ведь у нее после родов случился удар. Второй удар случился, наверно, из-за обмена. Вроде бы как ей пришлось рожать два раза, а такое запросто может вызвать удар. И не из-за самих себя мы пришли в замешательство. Мы испугались, что ее услышат в деревне и тогда деревенские, или пастор, человек важный, но не слишком сообразительный, или прокурор придут, заохают и отберут ее у нас.
Деревенские, правда, были туговаты на ухо. И что стало с Альфильд, когда-то в общем пригожей и всем симпатичной, никто не знал.
Иногда у меня возникала мысль, что это из-за меня она сделалась такой чуднóй. Но я отбрасывал ее: прочь! Прочь! И тогда думал, что в этом виноват Юханнес.
Я начал размышлять над тем, как легко Юханнес умудрялся перекладывать вину на других.
Двух мам я потерял, и одного папу. В общем-то, довольно много.
Один покоился в могиле, и я знал его лишь по посмертной карточке (блокнота в то время я еще не видел). Одна обитала в зеленом доме, и лицо ее делалось как печеное яблоко при виде меня. А Альфильд, ну, она была такой чуднóй, что волей-неволей приходилось считать ее потерянной.
Свен Хедман прогулялся по деревне, вынюхивая, не слышал ли кто чего. Вроде бы нет. Удивлялись только, что мы не ходим к молитве. Тогда мы со Свеном, собрав военный совет, решили, что один из нас будет ходить к молитве регулярно.
Ежели вокруг дома бродил какой-нибудь доброжелательный сосед, мы тщательно запирали двери. Или уводили Альфильд в горницу, то есть в горенку, где клали перед ней кальку и карандаш и я учил ее чертить карту Швеции. В основном только контуры, но я всегда отмечал точкой Хьоггбёле, чтобы она знала, где находится.
Тогда она не ревела.
А вообще она отличалась постоянством. Ревела по утрам, пока Свен Хедман укладывал еду в коробку и наполнял термос, и потом вечером. В какие-то дни рев продолжался в общей сложности три-четыре часа, не больше. Когда у нее бывало грустное настроение, она ревела и подольше.
К весне в ее мычанье мы стали различать слова. Тут-то и возникли проблемы.
У Альфильд и раньше были проблемы. Не только то, что она, возможно, была из пришлых, но и кое-что другое. До меня она родила еще одного мальчика. Тогда она лежала дома, и Свен Хедман вызвал акушерку, которая приехала, однако очень спешила. Как ни странно, но с ней произошла такая же история, что и с Юсефиной. Во всяком случае, ребенок лежал неправильно, Альфильд орала как чокнутая, и в конце концов соседи не выдержали и позвонили акушерке, которая примчалась со своим колоколом-присоской, и на третьи сутки, под непрекращающийся крик, удалось извлечь младенца.
Его задушило пуповиной. Он умер как раз в тот момент, когда должен был бы начать жить. Они ему дали то же имя, которое потом дали мне, положили в гроб, но не сфотографировали.
У всех имелись посмертные фотографии, у Юсефины тоже была фотография ее первенца. Хорошо бы и Альфильд или Свен Хедман сняли бы на карточку и своего. Интересно, похож ли я на него, но доказательства погребены, карточки нет, и ни один врач не изучал его ушные раковины.
В тот раз Альфильд тоже ревела.
К весне пошли слова, слова словно бы сочились из нее. И тут-то возникла проблема.
То были почти связные предложения. Нам стало совсем скверно.
Изба Хедманов стояла, вжавшись в лесную опушку, напротив зеленого дома, в полкилометре от него, снег в тот год сошел поздно, хотя лету все равно никуда было не деться, но мы со Свеном Хедманом не могли думать ни о чем другом, кроме как о словах Альфильд.
Чудные были слова. Вроде бы как она сейчас, попав в безвыходное положение, начала говорить на тайном языке, который когда-то знала. Точно ее жизнь была своего рода огромным котлом, и его черное содержимое булькало и пузырилось, почти как в бочке на дедушкиной смолокурне, на поверхности время от времени появлялись пузыри, и шли они снизу, оттуда, где пряталась ее прежняя жизнь. Даже страшно становилось. Но вместе с тем ты начинал приглядываться к ней, чего не делал раньше. Со дна поднимались пузыри. Сперва с трудом, одна чернота, а потом появились волосы, и черные глаза, и певучий голос, и что-то вроде одиночества в глазах.
И все это в чудных, тайных словах.
Можно было подумать, что смоляная бочка – это ее жизнь, а пузыри – она сама, и Альфильд словно бы ярилась, что мы раньше ее не слушали. И потому пользовалась тайным языком.
Точно как дед Ээвы-Лисы, которого обвели вокруг пальца. Если то, что рассказывала Ээва-Лиса, правда.
С ними ведь обходятся иногда несправедливо. И тогда в виде протеста они пользуются тайным языком. Я научился понимать кошек на спинке кровати, хотя они и были покрыты лаком. С животными я умею обращаться.
Но об Альфильд я никогда не заботился. Неудивительно, что она вроде бы как впала в раздумье.
Она начала петь слова и по ночам.
Ночью были по большей части песни, днем – тайны. Ночью – в основном небесная арфа, днем – тайны. В общем-то, разницы почти никакой. Поэтому настоящего страха я не испытывал.
Свен Хедман делался, пожалуй, все задумчивее. Иногда даже чуть ли не в уныние приходил.
У меня было две мамы. Одна ни разу меня не обняла, но протянула кусок сахара. Другая пела как кошка, хотя совершенно тайно.
Да, скажу я вам. Скажу я вам.
Позднее мне пришло в голову, что на тайном языке она пыталась рассказать о своем детстве. А для этого ведь нельзя пользоваться обычными словами, только тайными, обычными пользоваться никто не может.
Кто способен рассказать, каково это – быть ребенком. Никто. Хотя, пожалуй, надо пытаться. А иначе-то как же.
Юханнес пытался, в библиотеке капитана Немо. Но и у него ничего не вышло, хоть он и пытался.
Мне бы ей объяснить: хорошо, что она пытается. Но и этого я не сообразил. А потом Альфильд разъярилась настолько, что посыпались крепкие словечки.
И я, и Свен Хедман были совсем ошеломлены, когда поняли. Стыдоба-то какая.
3
Поскольку мне мало-помалу стало ясно, что Нюланд, южная Финляндия, и есть то место, откуда пришли они, то есть те, с тайным языком, или похожие на меня, и либо очень красивые, либо уроды, с юга и издалека, хотя не со стороны Стокгольма, я про себя решил, что Альфильд именно оттуда.
Нюланд – и это четко явствовало не только из «Таинственного острова», «Робинзона Крузо» и «Книги джунглей», но и из Большой семейной Библии с изображением невинных женщин, которых засасывает в огромную водяную воронку, – край земли с пальмами и вулканами с кратерами и запертыми в них подводными кораблями.
Однако Свена Хедмана я об этом не спрашивал. Он наверняка встретил Альфильд, когда она была совсем юная, и тоже не поинтересовался этим. Я хочу сказать: когда она перестала быть уродиной.
Интересно, почему так важно быть красивым.
После того как Альфильд Хедман превратилась в довольно-таки пригожую лошадь, я часто размышлял, какая она была в юности. Вполне можно предположить, что она приехала сюда на пароходе, вдоль побережья. И приехала затем, чтобы сообщить нам некую тайну. Тайны ведь есть у всех, нужно только сообщать их так, чтобы другие не просто поняли, чтобы заставить их уразуметь. Между «понять» и «уразуметь» большая разница. Но у нее была очень важная тайна, и она отправилась так далеко не просто сообщить нам ее, а так, чтобы мы уразумели.
Но ежели Верховный суд прав, то я, следовательно, тоже родом из царства джунглей Нюланд с пальмами и кратерами вулканов, в которых находятся подводные корабли, а в них замурован Благодетель.
Как же трудно осознать это. Иначе я мог бы покинуть зеленый дом давным-давно, без всякого сожаления. Но я же этого не хотел.
Сперва шла песня, потом тайный язык, потом рев, потом крепкие словечки.
– Паааааааапааааааааша птриииииишиииихоодит доооооооооомой… сооооовввсееем сооооооввсееем ооооон кооооосой. – И это было просто и понятно. Она пыталась спеть нам притчу. Кое-какие есть в Библии, но не все. Сын Человеческий разбросал их по разным местам, и одну из них Альфильд и пыталась поведать нам. Как в поучительных историях «Синей ленты». Тяжелое детство, и он приходит домой, а ребенок смертельно больной и прозрачный… – Ууууудааааааааааарился яяяяйцааааааааами оооооооооб ссстооооооооол… – Но затем следовало кое-что похуже, мы вовсе не так пели в Войске надежды. И еще несколько ужасных слов, просто невыносимо. Жутко. Но потом пение переходило в нежное бормотание, ее обычное, в жалобу, словно бы опять издаваемую телефонными проводами, голос делался чистым, ясным и глухим, и вдруг это жуткое: – Хуууууууууууууууууууууем ууууууууудааааааааарился ооооооооб ссстоооооооол.
Я смотрел на Свена, а он все мыл посуду, одну и ту же тарелку, точно хотел показать, как тщательно надо мыть посуду. Долго-долго. Обычно он такой тщательности не проявлял.
В конце концов он настолько смутился, что пошел рубить дрова.
Альфильд, улыбаясь своей загадочной улыбкой, замолчала, но кончиком языка осторожно провела по нёбу сверху вниз, точно проверяя, остались ли какие-нибудь следы от этих неприличных слов.
На лице у нее появилось чуть ли не выражение счастья. Не будь она такой чокнутой, мы могли бы с ней даже немного поболтать. Когда она вот так улыбалась, все становилось на свое место. Помню, что в такие минуты я чувствовал себя в общем совершенно счастливым.
Когда я был ребенком, думал по-детски, мечтал по-детски и разум имел детский, я любил рисовать по цифрам. Игра эта печаталась в «Норран». Соединяешь карандашными линиями цифры, и получается животное. Обычно это бывали либо слон, либо птица.
А может, это из журнала «Адлере». На чердаке в зеленом доме хранились и «Норран», и «Адлере».
Вот так можно линией соединить цифры. Альфильд – цифра. Не надо было мне спешить, чтобы получился слон, надо было помедлить у каждой цифры, чтобы уразуметь, что такое именно эта точка.
В том-то, верно, и вся беда. Она была не слон, а лошадь. Вообще много чего было связано с животными, так получается, ежели нет уверенности, что ты сам настоящий человек. Как-то раз, до обмена, к нам в дом залетела птица, она билась, размахивая крыльями, и тогда Юсефина закрыла ее между зимней и летней рамами, там, где лежала вата и дохлые мухи.
Я закричал, и она выпустила птицу. Жутко было видеть прижатые к стеклу крылья.
Она, верно, боялась, что птица нагадит, как кошка нагадила на плиту. Юсефина строго следила, чтобы в доме было не загажено. Потому-то, наверно, я и мыл пиявок в ручье, так что под конец они делались совсем-совсем чистыми. И лягушки, которые очищали воду родника. Хотя их она ведром вычерпывала из воды.
Иногда я не могу уразуметь.
Взять хотя бы эту самую чистоту. Не то что у Хедманов. Но ведь все было по-разному. Зеленый дом тоже не похож на джунгли Нюланда. Пришлось уразуметь, что многое было по-разному.
В полной оторопи я смотрел, как птица пытается освободиться, а потом закричал. Но она не нагадила на вату между рамами. Это же видно.
В июне Альфильд кричала по пять часов в день. Если появлялся кто-нибудь из соседей, Свен Хедман выходил на улицу, чуть ли не на сто метров от дома уходил, и разговаривал, там, совершенно естественно, на расстоянии, чтобы никто ничего не услышал.
Мы жили, все больше, с ее криком. Одно это почти и имело значение. Мы и не думали сдаваться. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что в общем-то Альфильд была нам далеко не безразлична.
Может, и не так дорога, как Ээва-Лиса Юханнесу. Но она уже не была нам противна.
Это трудно объяснить. Но возникла, пожалуй, своего рода любовь.
4
У Хедманов был летний домик, оставшийся после отца Свена, который умер на вырубках, даже, скорее, бревенчатая избушка. Она стояла у речки Мелаон, соединявшей болота Хольмсвасстрэскет и Хьоггбёлетрэскет.
В конце концов мы отвезли Альфильд туда.
В Хьоггбёлетрэскет было пять островков и поросшее камышом дно с мелкими березками, которые не считались. Один из островков назывался Русский остров, и там были похоронены семь русских: Они были солдатами русской армии, которая бесчинствовала тут в начале XIX века, забрели каким-то образом в Хьоггбеле, а деревенские их прикончили и похоронили. На Русском острове в изобилии водились гадюки и росли высоченные ели. Их не рубили из-за русских и гадюк, наверно, и из-за их высоты. Поэтому туда никто никогда и не высаживался. Это всем было известно и вполне естественно.








