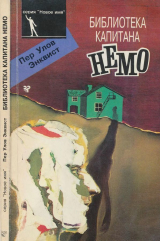
Текст книги "Библиотека капитана Немо (Роман)"
Автор книги: Пер Энквист
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Но я ведь знаю, что он любил ее. А когда было уже слишком поздно, когда на ее щеке уже зажглась первая звезда, ему только и осталось, что запереться в библиотеке капитана Немо, дабы воссоздать заклинания.
Мы обнаружили пещеру мертвых кошек в тот самый день, когда убили птенцов. Это случилось за год до обмена, пока Юханнес еще был моим лучшим другом.
Птичье гнездо мы нашли в лесу, рядом с тропинкой, которая вела на вершину Костяной горы. Мы нашли гнездо с правой стороны, если стоять лицом к горе. А потом, углубившись на пятьдесят метров в лес, обнаружили пещеру мертвых кошек.
Кошки во времена моего детства вели себя как слоны: чувствуя приближение смерти, они уходили с глаз долой. О слонах нам было известно все – они скрывали от мира свою смерть, прятали свою смерть от жизни. Вот так же обстояло дело у нас с кошками. Таким образом, смерть представляла собой две противоположные вещи, никак друг другу не соответствовавшие или говорившие одно и то же, но по-разному. С одной стороны, было страшно важно сфотографировать покойника в гробу. Посмертные карточки имели громадное значение. Их вставляли в рамку и водружали на комод в горенке перед кухней. Где потом можно было сравнивать себя с покойником, к примеру, с собственным отцом, и, ежели вдруг казалось, что это ты сам, тебя обдавало волной холода. Но зато все становилось на свои места – ты был частью трупа. Но в то же время смерть была похожа на умирающего слона. Человек удалялся от жизни и умирал, хоть и продолжал жить – правда, в уединении.
Так многие жили.
Гнездо находилось почти у самой вершины горы, там, где стояла лосиная башня. Птенцы только-только вылупились, они были живые, и их клювики не закрывались. Они упрямо требовали чего-то, а у нас ничего не было. Все же птенцы показались нам славными, и мы решили положить их на листья, ну, почти как на овчину, чтобы они не замерзли в ночную стужу.
Тельца у них на ощупь были чуть липкие.
Мы вернулись туда через два дня. Листья лежали нетронутыми. Мы смахнули их. Птенцы были мертвы. Они не поняли, что мы – благодетели. Человек источает своего рода убийственный запах, вот птенцов и бросили.
И ничего тут не поделать. Мы убили птенцов. Перенесли на них человеческий запах смерти.
Помню, как нас затрясло от возмущения. Мать птенцов просто-напросто их бросила. Это случилось за год до обмена, пока Юханнес еще был моим лучшим другом и не переселился в зеленый дом.
В тот же самый день мы обнаружили пещеру мертвых кошек.
IV
В детстве у меня не было ни одной книжки, но после обмена Юханнесу подарили целых двенадцать, и одну из них он отдал мне – «Таинственный остров».
Все свои детские годы мы учились толковать путеводные нити и посылать сигналы. «Таинственный остров» был сигналом. Оставалось только расшифровать его. На это ушла почти вся жизнь, однако в конце концов мне это удалось.
Самым важным был последний лагерь Благодетеля-. Благодетель, как называл себя капитан Немо, разбил свой последний лагерь в центре вулкана Франклина. У него было время для попавших на остров поселенцев, потерпевших крушение, тех, кто уже почти потерял веру в то, что они еще люди. Примером служил Сын Человеческий, но у того вечно не хватало времени. На Благодетеля можно было положиться.
Как все было бы просто, если б я понял с самого начала. Юханнес будет ждать меня в библиотеке «Наутилуса». Капитан Немо покажет мне дорогу. И там я наконец все сведу воедино, открою краны и выплыву на открытую воду.
В этой истории речь идет обо мне, Юханнесе, Ээве-Лисе, об Альфильд и маме из зеленого дома. Но я понял это только после того, как вновь нашел Юханнеса в библиотеке капитана Немо.
Вот как было дело.
Остров с горой Франклина находился недалеко от побережья Нюланда.
Капитан Немо оставил указания. Мне надо было лишь, двигаясь вдоль тонкого металлического провода, пройти через полуобвалившийся туннель, который вел в кратер вулкана.
Так написано в книге. Совсем просто.
Тонкий провод исчезал в воде. Я причалил лодку у подножья скалы, будто птичьим клювом клевавшей морскую гору, но, останься я там навсегда, не прошло бы и секунды вечности. Вот это и значит быть человеком по отношению к Богу: Бог – ужасающая вечность, а задача человека – срыть гору вечности своим птичьим клювом, чтобы добраться до Благодетеля. Так я, ребенком, понимал связь вещей.
Что-то твердое и огромное, что было Богом и что называло себя вечностью. И что-то маленькое и упрямое, что было человеком, с птичьим клювом, и что однажды уничтожит Бога – черную гору посреди моря. Это немыслимо, почти невозможно. Но надо же попытаться. Неудивительно, что в этой безнадежной борьбе с Богом ничтожному человечишке требуются помощь и руководство благодетеля.
Вода закрывала вход в туннель. Придется ждать. Начнется отлив, и вход обнажится.
Я сидел под выступом скалы. Лил дождь, разыгрался и затих шторм, наступила тишина, уровень воды опустился. Я подумал, что скоро все разъяснится. Нельзя объяснить любовь. Но если можно уничтожить ту гору посреди моря, которая есть Бог, и это делает человека человеком, почему же нельзя объяснить любовь?
Я вновь сел в лодку и начал грести к центру кратера.
Пещера медленно расширялась. И наконец я увидел ее целиком.
Округлый свод уходил в высоту метров на тридцать. Гигантская пещера, исполинский собор с бело-синим сверкающим потолком, где украдкой проступали краснобелые оттенки, величественной аркой вздымалась над водами озера, покрывавшими пол: точно ты проникал внутрь человека.
В человеческом чреве – вот где я находился. Как бы внутри самого себя: я рассматривал простейшую тайну загадки изнутри, где она всегда и таилась, но где ее никак нельзя было ожидать найти.
Свод пещеры, казалось, покоился на колоннах, на десятках, а может, сотнях практически неотличимых друг от друга колонн, созданных самой природой – возможно, во времена возникновения Земли. Мне нравилось думать, что Земля возникла одним мановением руки, была создана внезапно, как в акте любви.
Эти базальтовые столбы уходили в блестящую, неподвижную водную гладь, в черную, похожую на ртуть, воду; да, эта вода представлялась мне именно такой, блестящей черной ртутью, которая не пожелала иметь ничего общего с морем вокруг острова и потому решила замереть в неподвижности, неподвластная жизненным бурям. Здесь царил покой. К такому покою стремилась эта ртутная рука.
Из нутра вулкана вздымалась рука черной воды, черная гигантская рука тянулась вверх, отсюда, из центра жизни.
Из центра жизни.
Лодка неспешно заскользила вперед и остановилась. И там, посередине, я увидел корабль.
С палубы судна вырывался свет, шедший из двух источников, возможно двух прожекторов. Снопы света, узкие, концентрированные, ослепительные у основания, дальше несколько рассеивались. Свет, натыкаясь на стены пещеры, превращал каменные глыбы в кристаллы; несмотря на бесчисленные блики, свод по-прежнему был погружен в темному. Вода – черная ртуть. Впереди, в сотне метров – судно, я тихонько скольжу ему навстречу. И блики, звезды в вышине, на высоте тридцати метров.
Это как поздние зимние вечера моего детства. В то время еще пылали северные сияния. Это было до того, как у нас отобрали северное сияние, и звезды еще были редкие, теплые и колючие. Ты замирал, стоя в снегу, и глядел на световые сигналы в вышине: там был мир, населенный черными дырами звезд и привязанными к ним ниточками. Юханнес, до того как стать предателем, говорил, будто это небесная арфа. Музыку можно было услышать зимними ночами, когда трещали морозы, – тогда таинственный мир, который мы с ним себе создали, начинал петь: мир, полный звезд, струн, музыки и тайных сигналов. Все служило для того, чтобы указать тайные тропинки, ведущие в глубь пещеры Франклина, где скрывался пока еще наш благодетель, тот, кто в конце концов укажет нам путь, сделает так, чтобы все совпало, все свелось воедино, все наконец свелось воедино. То был мир доверенных нам таинственных знаков, в котором никого не бросали на произвол судьбы.
И сейчас я знал, что он там. Под искусственными звездами, сотворенными прожекторами. Здесь он нашел уединение. Сюда призвал меня, как и обещал когда-то.
Источники света находились на расстоянии кабельтова. Я заработал веслами.
Повернувшись, я оглядел судно, видимое теперь во всех мельчайших деталях.
В середине вулканической пещеры покоился, поддерживаемый гигантской черной ртутной рукой, длинный предмет веретенообразной формы. Он имел около девяноста метров в длину и возвышался над водой на три-четыре метра. Я не мог с уверенностью определить, из какого материала он сделан, но это было не дерево, скорее какой-то металл, алюминий или вороненая сталь.
Моя лодка медленно приближалась к судну. Я его сразу узнал. Сходство с иллюстрациями из книжки, подаренной мне Юханнесом, было настолько разительно, что сомнений не оставалось: это тот самый корабль, я его видел, а Юханнес о нем мечтал.
Я подплыл к левому борту судна. Все было подготовлено как следует. Борт корабля отливал черным металлом. Я привязал лодку и взобрался наверх. В центре палубы меня ждал раскрытый люк.
Я начал спускаться в нутро подводной лодки.
Сперва у Юханнеса совсем не было книг. Потом он стал читать их в лавке Сельстедта, где имелись тома библиотечки, выпускавшейся «Синей лентой»[1]1
Общество трезвости в Швеции. – Здесь далее примечания переводчика.
[Закрыть]. Заметив, что он любит читать, ему подарили первую книжку. Всего, вплоть до событий в дровяном сарае с Ээвой-Лисой, Юханнес получил двенадцать книг.
И то, что одну из этих двенадцати – «Таинственный остров» Жюля Верна – он отдал мне, стало быть, вовсе не случайность. Он мог бы дать мне «Загадку пещеры» (о приключениях в стране басков во время игры в пелоту и о пещере, которая была глубже, чем пещера мертвых кошек) или «Кима» Киплинга, которого я читал столько раз, что под конец перестал понимать содержание, знал лишь одно – когда-нибудь и я погружусь в реку знания, надо только набраться терпения. Или «Триста рассказов для детей» Мии Халлесбю. В одном из них рассказывалось о черной исполинской горе посреди моря, куда раз в тысячу лет прилетала птица поточить клюв. И когда от горы, в десять километров длиной, десять шириной и десять высотой, ничего не осталось, прошла лишь одна секунда вечности. То была греза о борьбе человека против Бога. Жуткая греза. В иные ночи я не мог заснуть, потому что эта необъятная вечность наполняла меня ужасом. Да, не исключено, что на самом деле именно эта его маленькая библиотека в двенадцать книг и сформировала мой мир, что сказки, образы и страхи были заложены уже там и с тех пор останутся неизменными. Но я долгое время не сомневался в том, чем это кончится: меня приведут в последнюю библиотеку, где мифы развеются ясностью, страхи – объяснениями и где все наконец будет сведено воедино.
Юханнес сперва подумывал о «Робинзоне Крузо», признался он потом, о книге, над которой работал много лет («работал» было его любимым словом для обозначения того, что занимало его мысли) и из которой, я видел, он переписывал множество раз бесконечные списки спасенных с потерпевшего крушение корабля вещей; переписывал и расширял, точно все эти вещи (четыре мушкета, один бочонок пороха, восемь фунтов вяленой козлятины, пять топоров, пять маленьких топориков) были заклинаниями, успокаивающим ритуалом и он мог, по примеру одинокого островитянина, переправить их в надежное укрытие и тем самым обрести уверенность в этом мире.
Но он дал мне другую книгу – «Таинственный остров», – в которой отчеркнул самый конец, там, где Благодетеля обнаруживают в его библиотеке в чреве судна.
Потому-то я и нашел его.
Кстати: неправда, что я когда-то любил Ээву-Лису.
Неправда. В противном случае это была бы весьма странная любовь. И такая любовь вызывает чувство стыда, и вины.
Я спустился вниз, в люк, тщательно задраив за собой крышку, точно готовился к отплытию, хотя на уме-то у меня было другое.
Внизу от лестницы шел длинный, узкий коридор. Он был освещен электричеством и заканчивался дверью. Я подошел к ней. И открыл.
Я очутился в громадном зале. В музее, таком богатом и огромном, что даже в детстве, со всеми своими детскими представлениями и фантазиями, я не мог вообразить ничего подобного. В этом музее были, казалось, собраны все сокровища царства минералов. А еще там были кое-какие сокровища с севшего на мель корабля, об этом свидетельствовала составленная им опись спасенных вещей. Он не забыл ни одного предмета в этой своей описи, той самой, которую он многократно переписывал и уточнял; и настолько тщательно он это проделал, что теперь все это смогло обрести место в его последнем музее.
Я ведь прекрасно знал Юханнеса. Тут, в музее, ему наконец-то удалось собрать все воедино, в действительности: бочонок с порохом, вяленую козлятину, бочонки с солью, мелассу, мушкеты, пять топориков. Все, как и должно было быть. Все расставлено по своим местам в этом музее.
Долго, без всякого удивления я разглядывал хорошо знакомые предметы. Подошел к стене, на которой висели топорики. На ум пришло слово «испытующе», и я пальцем испытующе провел по лезвию одного топора. И, вспомнив пещеру мертвых кошек, улыбнулся испытующей, но печальной улыбкой.
Потом отворил следующую дверь и вошел. И там была библиотека.
Он лежал на диване и спал, не слышал моих шагов. Я узнал диван. Это был кухонный диванчик.
Капитан Немо привел меня туда, куда надо. Я нашел Юханнеса.
Я подошел к нему. Он спал у себя в библиотеке, он долго ждал меня. Спал легко, как птица, чуть раздвинув губы, легким, бесшумным, детским сном. Казалось, он улыбается, и его дыхание было похоже на дыхание птицы. Мне вспомнилось, как я увидел Юханнеса в тот раз, когда попытался вернуться в дом после обмена: его заперли в прихожей. Он стоял по другую сторону оконного стекла, говорить со мной не мог и царапал стекло ногтем, словно желая оставить на нем невидимый знак. И я тогда подумал, что там, за стеклом, он напоминает птицу, птицу, касающуюся окна кончиками крыльев: ибо так беззвучно было его бурное дыхание, так неразличим его плач, что я слышал лишь звук скребущегося о стекло ногтя, словно птица билась об окно, отгораживавшее ее от свободы, которой, как я внезапно понял, был я сам.
Теперь он спал. Пригожий на вид. Никак не ожидал, что этот предатель окажется таким пригожим. Но до чего ж постарел. Как и я. Мне-то сколько лет.
– Юханнес, – тихо произнес я. – Юханнес, это я. Я здесь.
Его дыхание изменилось: он вырвался из объятий сна, открыл глаза.
До чего ж постарел. Мы молча смотрели друг на друга. Он не проронил ни слова. Я повторил:
– Юханнес?
Может, он первый раз не расслышал. Да нет, расслышал.
Совсем старик. Но на вид довольно пригожий. Вокруг – его книги. Уже не двенадцать, как тогда, когда он мне подарил одну из них. Сотни, может, тысячи книг. Я сразу сообразил – все эти книги он написал сам. Он замуровал себя, как и обещал мне однажды в юности, в своей библиотеке.
И Юханнес, слегка повернув голову, с эдакой пригожей улыбкой сказал:
– Да никак ты? Сподобился, значится.
Судно было подводной лодкой. Называлось оно «Наутилус».
Так мы вместе задумали.
Была у нас тогда одна мечта – конец должен точь-в-точь напоминать последнее погружение капитана Немо. Он умрет, запертый в кратере вулкана. Я, последний гость, не спеша, торжественно открою краны и покину корабль. Камеры наполнятся водой. И начнется погружение. Одна только герметически запечатанная библиотека с плотно задраенными дверями, библиотека со всем утраченным, с последними отчетами и защитительными речами, останется нетронутой. И пока еще будут гореть прожектора, подводная лодка, называвшаяся «Наутилус», медленно опустится в наполненный водой кратер вулкана. И там, уже после того, как исчезнут последние искорки света прожекторов, он будет жить в глубине милосердного мрака. Там, в своем гробу, в фантастической подводной лодке, он, мертвый, будет жить, без воздуха, без пищи и без боли, во веки веков.
Так мы себе представляли тогда, так задумали: жить без боли, вечно, глубоко-глубоко, в библиотеке капитана Немо.
Слова нам были не нужны, и мы молчали.
Через час он снова забылся сном.
Я понял, что он болен и скоро умрет.
Наступило утро.
Я заметил это, но не по проникшему сквозь круглые окошки свету. Ведь в пещеру свет не проникал. Нет, я увидел его часы, те, что когда-то висели на кухне, те, что его отец купил перед смертью. Стрелка часов двигалась очень медленно, и один ее оборот составлял не двенадцать часов, а двадцать четыре. В полдень, стало быть, то есть в двенадцать часов, стрелка оказывалась в самом низу циферблата, а утром она смотрела точно вправо.
Я разглядывал часы без удивления, поскольку они были знакомы мне с детства.
Около восьми утра я прошел во внутреннее помещение.
Это была кухня, вокруг плиты, вернее, умело встроенной железной печи, по стене были выложены мраморные плитки с замысловатым орнаментом, скорее всего индийского происхождения. Печь первоклассная, конфорки снимались специальным крюком. Сбоку – медный бачок с водой для поддержания определенного уровня влажности воздуха. Он опорожнялся с помощью маленького краника на передней стенке.
Печь топилась дровами. Огонь погас.
На плите стояла сковорода с остатками еды. Я подошел поближе, чтобы рассмотреть содержимое. Ну, ясное дело – тюря. Тюря готовилась так: тонкую высушенную лепешку из крутого теста ломают на небольшие кусочки и поджаривают в растопленном масле, добавляя с четверть литра молока. Я знал, он обожал тюрю и ел ее чаще всего с селедкой или просто с кусочком сливочного масла.
Я взял сковородку и вывалил остатки тюри в глубокую тарелку. И съел, не разогревая. Вкусно и так. И запил стаканом кваса.
После чего вернулся обратно.
Помню, мы оба обожали тюрю.
Теперь он спал крепче.
Я положил руку ему на лоб – лоб был в испарине. Он беспокойно заворочался, но не проснулся.
Я обвел взглядом библиотеку. Здесь мне придется провести какое-то время, я это понимал.
На полу валялись последние записи, над которыми он работал. Я прочитал их. Там было всего несколько строк.
«У меня перед глазами все еще стоит дом со своей довольно высокой лестницей, спускавшейся на тропинку, которая вела к строгальной мастерской. Пониже луговины бежал ручей, через который проходила дорога. Рядом были устроены мостки. Мне тогда, помнится, было три или четыре года. Распластавшись на мостках, я палочкой тыкал в ил, где шевелились пиявки, и помню, что в тот момент у меня впервые пробудилось осознание собственного существования. Я отчетливо помню, как внезапно поднял голову, сгорая со стыда, вытер пальцы и подумал: если тебя кто тут увидит… тебе… тебе… будет стыдно. Я часто лежал вот так на мостках, уставясь в воду, наблюдая, как, неспешно извиваясь, всплывают черные пиявки, а может, лошадиные пиявки, поворачиваются и возвращаются обратно в тину. Я не понимал, чего они там в тине ищут, и считал, что совершают они свои долгие подводные прогулки, чтобы помыться. И, желая помочь им, насколько это было в моих силах, я вытаскивал этих черных пиявок, которые, как я потом узнал, были лошадиными пиявками, из тины, а они, свернувшись в кольцо, цеплялись за свои илистые ложа, и клал на мостки. Потом я мыл эти существа из ручья так осторожно, с такой любовью, что они в конце концов делались совсем… чистыми».
Здесь он, похоже, остановился, перечеркнул последние строчки, словно бы хорошенько подумав, и перешел к совершенно другому событию, случившемуся, очевидно, намного позднее.
Вот как звучит этот пассаж целиком – в нем описывается происшествие на лестнице:
«Мы шли на чердак, и тут нас окликнула моя мать.
Ээва-Лиса уже поднялась ступенек на десять, может, меньше, а я стоял внизу, еще не успел даже поставить ногу на самую нижнюю ступеньку. И тут моя мать начала говорить, поэтому мы все трое остановились там, где были, и так и остались стоять.
Я хорошо видел лицо матери. Она вышла из спальни со строгим, почти отсутствующим выражением на лице, и это выражение, пока она говорила или, скорее, кричала, все громче и громче, менялось – постепенно и совершенно необъяснимо. Как будто волна долго сдерживаемого бешенства исказила черты ее лица, сделала его почти нечеловеческим – так, что обычно строгие, правильные (а иногда нежные и почти красивые) черты словно бы свело яростной судорогой, чуть ли не болью.
Она бросала слова, которые я сперва понимал, а потом не захотел понимать. Поначалу в словах можно было различить смысл, но потом длинная череда справедливых и метких обвинений – кое-какие я уже слышал раньше и понимал – сменилась вовсе непонятными мне обвинениями, и только выражение страшного гнева оставалось неизменным. Или ненависти. Да, к своему ужасу, я вдруг осознал, что ею владеет ненависть, но не обычная, понятная ненависть, а что-то другое. И она с ненавистью и бешенством крикнула Ээве-Лисе, чтобы та убиралась, раз и навсегда, все было ошибкой, и теперь вон из этого дома.
Тогда-то, признаюсь, я и заорал».
Дальше зачеркнуто, но прочитать ничего не стоит:
«Я написал признаюсь, потому что хорошо помню, как мне было стыдно своего крика. И я признаюсь в этом со стыдом, потому что именно в этот миг я увидел в лице своей матери то, чего мне не забыть никогда: невероятное одиночество, и страх.
Ни за что бы не подумал, что она может испытывать страх. Раньше она никогда не боялась. И пока я орал от отчаяния и ужаса, я все яснее понимал – и это поставило точку на одном периоде моей жизни и бросило меня в другой, – что в эту минуту у меня отбирают и Ээву-Лису, и мою мать, точно так же, как у меня однажды, при обмене, уже отняли все, и Ээва-Лиса, и моя мать бросят меня, точно пустую раковину, и ничто никогда не сможет вернуть мне их обратно. И потом я пойму, что этот миг в моей жизни будет повторяться раз за разом – миг, когда тебя бросают, когда у тебя отбирают.
Она крикнула это сверху вниз Ээве-Лисе и мне. И тогда я заорал. И внезапно Юсефине стало ясно, что она тоже с этой минуты будет очень одинока.
Никогда, никогда не освободиться мне от этого мига. Сколько ни суждено мне прожить, я буду помнить, что именно в этот миг меня посетила смерть, часовая стрелка, указывавшая на 24, остановилась. Вот как Ээва-Лиса покинула меня, и вот как моя мать тоже в конце концов оказалась покинутой. Я видел ее лицо, когда она обернулась ко мне. И потом подумал: странно, что могущественный и карающий Бог может страшиться быть покинутым.
Хотя в тот раз я больше думал об Ээве-Лисе. Мне следовало бы подумать о своей матери. Ее лицо стало похоже на птичье гнездо; когда, подняв листья, прикрывающие гнездо, обнаруживаешь мертвых птенцов, застигнутых внезапной смертью и одиночеством.
Вот как все было, когда их отняли у меня».
Я, наверно, читал много часов подряд. И заснул на кровати в комнате, прилегавшей к библиотеке «Наутилуса».
Комната, в отличие от зала-музея и библиотеки, была не прибрана и почти без мебели. В одном углу стоял знакомый, наполовину заколоченный ларь, где хранились старые газеты, старые подшивки местной газеты «Норран».
Я лежал, натянув на себя ветхую овчину. Мне представилось, будто овчина та же, какой была накрыта умирающая бабушка, но я отбросил эту мысль, потому что не могла та овчина оказаться здесь, в подводной лодке «Наутилус»: ведь ее отдали Никанору Маркстрёму из Оппстоппета.
Я вошел в библиотеку.
Часы на стене, те, что показывали 24 часа вместо 12, похоже, сделали круг-другой, но теперь я уже не мог отличить утро от вечера. Да какая разница. Точность, которой я прежде так жаждал, превратила меня в пленника часов. Теперь же я свободен, теперь я лишь пленник библиотеки, и Юханнеса.
Таким вот образом я в конце концов взял в плен самого себя.
Я подошел к нему. Глаза у него были закрыты, лоб в испарине, он тихо стонал, и я понял, что он во сне испытывает боли.
Рот приоткрыт. Одна рука судорожно сжата. Я попытался разжать его пальцы, чтобы он чего не повредил себе, но, похоже, силы в нем еще достаточно.
Он болен, страдает. Я понял, что он скоро, совсем скоро умрет.
Он часто в своих посланиях писал мне о болевых точках. То, что он сейчас испытывал, было физическими болевыми точками: с ними можно жить или умереть, но без боли как таковой. Внутренние болевые точки он каталогизировал здесь, в своей библиотеке; здесь, в своей библиотеке, которая вскоре скроется в недрах вулкана.
Я принес плед и накрыл его. Его движения становились все спокойнее, и наконец он затих, как будто боль на время отпустила его. Ладонь разжалась, судорога ослабила хватку.
Мне, собственно говоря, следовало бы начать работу с библиотекой, но я все никак не решался. Просто сидел и глядел на него.
Скоро Юханнес умрет. Наконец.
Я, верно, заснул.
Проснувшись, несколько часов почитал. Он опять застонал. Я попытался напоить его, но он не хотел пить.
Он всегда был пригож с виду. Так говорили о нем, когда он был ребенком. Но как же он постарел.
По-моему, он меня узнал. Он же спросил, я ли это. Вернулся ли я домой навестить его.
В таком случае, должно быть, если кто и вернулся домой, так это я.
Помню солнечные часы на полу в пещере мертвых кошек.
Капитан Немо позаботился о кухонных часах из зеленого дома и теперь хранил их тут, в подводной лодке.
Часы на стене двигались, нет, не часы, а стрелка, так, мне думается, идет время. Каждый раз, когда стрелки смотрели точно вверх, наступала ночь. И тогда часы имитировали прошедший миг, сутками раньше; это вполне могло бы быть и сейчас. Ведь у часов нет памяти, они не в состоянии помнить двадцать четыре часа – только ту секунду, которая длится сейчас.
Собственно говоря, эта краткая секунда вечности абсолютно никчемна. У нее нет памяти. Зато память есть у меня, и у Юханнеса, и у нашей библиотеки.
Иногда я ощущал слабую дрожь, сотрясавшую корпус «Наутилуса», как будто там, глубоко внизу, вулкан переворачивался во сне и снова засыпал.
Интересно, могут ли вулканы испытывать боль во сне, за мгновенье до того, как проснуться и умереть.
«Пещера мертвых кошек», написал он на полях одной страницы.
Словно короткая, обращенная ко мне молитва.
V
Сейчас, скоро.








