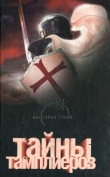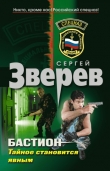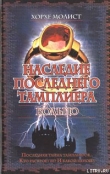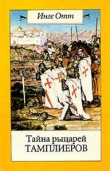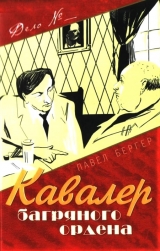
Текст книги "Кавалер багряного ордена"
Автор книги: Павел Бергер
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Благодаря работе у Ежи появилось много знакомых среди чекистов и пошедших на службу к большевикам офицеров Генштаба. Он осторожно начал возрождать свой былой проект уже под крылом тайных служб новой власти. Новорожденная республика отчаянно нуждалась в средствах и с поистине детским доверием хваталась за любую возможность их приумножить. Множество фантастических и абсурдных проектов воплощалось и рушилось в ту грозную и романтическую пору – какие с великой помпой, а какие под покровом тайны.
Именно тогда, в 1924-м, молодой ученый Ковальчик пригласил своего студента, третьекурсника факультета востоковедения, достойно овладевшего тюркскими языками, Алексея Субботского принять участие в научной экспедиции в Туркестан. Экспедиции с невразумительными научными и практическими целями – отыскать древнее сокровище, с пестрым и молодым составом, конечно же, окутанной глубочайшей секретностью, блюсти которую был приставлен к участникам комиссар Савочкин. Вооруженная большей частью личным энтузиазмом и сознательностью группа запечатлела свою решимость на фотографии, которую и видит сейчас перед собой Прошкин, – Субботский кивнул на фотографию 1924 года, где среди группы молодых ребят были и он сам, и гражданин, известный Прошкину как Ульхт, он же Ковальчик.
Основываясь на сегодняшних своих знаниях и опыте, Алексей должен повиниться – мероприятие было обречено с самого начала. Никакого опыта экспедиционной работы ни у кого из участников не было. О поисках древних сокровищ они знали не больше, чем Том Сойер и Гекльберри Финн, пытавшиеся откопать клад на городском кладбище при помощи садовой лопаты. О существовании специального инструментария, надлежащем инвентаре или экипировке начинающие путешественников даже не подозревали. Карты их были весьма и весьма приблизительны, маршруты разработаны на основе теоретических умозаключений без учета географических реалий местности, а о том, чтобы нанять проводников, не могло быть и речи. Средства группе выделили весьма скудные. Оружия, кроме карманных ножей, пары стареньких охотничьих ружей да наградного браунинга комиссара Савочкина, у отважных исследователей не было. А в Туркестане месяц за месяцем то вяло тлела, то разгоралась во всю силу самая настоящая жестокая война, о которой в московских властных коридорах вспоминать очень не любили…
Правда, поначалу путешествие происходило весело и оживленно. Сборище неофитов, гордо именовавшее себя «научной экспедицией», погрузилось на нескольких мулов и отправилось в горы. Они то забирались вверх, то снова спускалась в предгорья, впрочем, без всякой системы. Конечно, на клад и намека не было, но все же появились первые научные плоды: геолог Миша Левкин складывал в холщовый мешок камушки, указывающие на близкие залежи серебра, сам Ковальчик чертил уточненные карты гористой местности и делал фотографические снимки некоторых участков, пока для этого имелись чистые дагерротипные пластины, ботаник и по совместительству зоолог Курочкин собирал гербарий и ловил бабочек, даже засунул в большую банку со спиртовым раствором маленькую желтую змею, покрытую отвратительно вонявшей слизью, объявив, что это совершенно новый подвид…
Общее веселье продолжалось до той поры, пока у экспедиции наличествовали съестные припасы. Когда они закончились, выяснилось, что социализм остался в Москве. А тут, в Туркестане, советские деньги совершенно не считают платежным средством, казенную бумагу с печатями Наркомата обороны лучше вообще спрятать подальше и никому не показывать: неровен час, и голову саблей снесут или, того хуже, свяжут и посадят в яму, чтобы потом обменять на плененных Красной армией сподвижников… Именно такая судьба запросто могла постигнуть Субботского и Савочкина, когда они, взгромоздившись на ленивого ослика и прихватив пустой мешок, оправились в ближайшее селение за продуктами. Спасло их только то, что Субботский, совсем немного знавший таджикский и чуть лучше – фарси, пропел местному беку невразумительную историю про то, что они-де, несчастные гимназисты-сироты, разыскивают в восточных краях единственного родственника (дядюшку) – поручика Черниговского полка, который сражался раньше под знаменами атамана Семенного, а кожанку Савочкина, браунинг и документ, на котором стоит печать со звездой, нашли по дороге… Вряд ли эта история звучала убедительно, но худющий Субботский в потертой студенческой тужурке и молоденький Савочкин в разномастном рванье очень мало походили на воинов, а на ученых – еще меньше, и местный бек, посовещавшись со своим ишаном[19]19
Ишан – наименование духовного наставника в суфийском направлении ислама, распространенное в Средней Азии, Татарстане и Башкирии.
[Закрыть], их отпустил, экспроприировав предварительно и ослика, и браунинг. Казенную бумагу сознательный Петя Савочкин умудрился стащить обратно.
Обретя свободу, оба незадачливых исследователя со всех ног помчались в направлении городка, где, как понял из разговоров местных жителей Субботский, квартировало подразделение Красной армии. Но и в Красной армии Савочкину с Субботским тоже мало обрадовалась. Им связали руки ремнями и отвели их в пыльный сарай – «до выяснения». После двухдневного «выяснения» голодные и совершенно измученные пленники попали наконец к комдиву Дееву. Надо отдать должное просвещенности и многообразным талантам покойного Дмитрия Алексеевича. Он выслушал их заинтересованно, в словах о принадлежности двух оборванцев к научному племени нисколько не усомнился, хотя и распорядился дать телеграмму в ведомство, официально отрядившее экспедицию, и даже задал несколько узкопрофессиональных вопросов, поразив Субботского уровнем своей компетентности…
– Так ведь Дмитрий Алексеевич до революции готовился себя синологии посвятить и, как говорят, подавал большие надежды, в экспедициях своего приемного отца фон Штерна участвовал неоднократно, – не удержался и похвастался информированностью Прошкин.
Алексей сдвинул очки и потер переносицу:
– Да, это, конечно, объясняет его заинтересованность, но тогда я был просто приятно удивлен. Тем более товарищ Деев совершенно не упоминал о своей причастности к востоковедению…
Субботский продолжал.
Просвещенный комдив распорядился помочь экспедиции – предоставить ученым продукты питания и конвой из конармейцев. И даже выразил желание лично посетить лагерь, чтобы познакомиться с руководителем этого мероприятия, а также подробнее узнать о результатах. Бывших «задержанных» отмыли, выдали им армейскую форму, коней, накормили и с почетом препроводили к дому Деева – дожидаться, когда комдив завершит неотложные дела и проследует с ними в лагерь.
Пока Савочкин с головой зарылся в свежие газеты на веранде дома, наивный Субботский решился зайти внутрь. И тут состоялось его первое знакомство с Баевым. Конечно, сейчас Александр Дмитриевич утверждает, что этот знаменательный эпизод совершенно изгладился из его памяти за давностью лет, ведь сам он тогда был сущее дитя! Дитя, надо заметить, злобное, надменное и очень агрессивное. Хотя Субботский сам был не больше чем четырьмя-пятью годами старше Баева, но помнит все случившееся ясно и отчетливо, а разговоры готов передать дословно!
Итак, Субботский зашел в комнату и удостоился лицезреть отрока лет двенадцати или около того, возлежащего на огромной горе шелковых подушек и пушистых ковров с царственностью настоящего падишаха. Отрок был закутан в расшитый восточный халат, на пальцах его сияли кольца с разноцветными каменьями, на тоненьких запястьях – паренек был весьма хрупкого сложения – позвякивали многочисленные браслеты. А его глаза, обведенные сурьмой, казались неправдоподобно огромными. Мальчишка чистил ногти на холеных пальчиках при помощи изящного серебряного кинжала. Субботский сперва поздоровался по-русски, а затем старательно перебрал все известные ему тюркские языки и диалекты, пытаясь установить контакт с этим высокомерным созданием, но молодой человек сохранял глубоко оскорбленный вид и изображал, что ни слова не понимает. Потом вдруг неожиданно вскочил, в мгновение ока скинул халат (под которым оказалась армейская форма, хорошо подогнанная по фигурке), попрятал в карманы украшения, куда-то растолкал подушки и вытянулся в струнку… Через минуту в комнату вошел Деев и тотчас принялся строго отчитывать мальчишку, указав на его накрашенные глаза:
– Александр, как долго я буду наблюдать эту азиатчину? Немедленно пойдите и умойтесь!
Надо отдать должное Сашиному упрямству: идти умываться он даже и не подумал, а вместо этого совершенно нагло ткнул пальцем в сторону Субботского и поинтересовался на вполне литературном русском:
– Кто этот гражданин? Вломился в помещение, я уже караульного звать хотел…
– Он сотрудник научной экспедиции, молодой ученый, товарищ Субботский, – официально представил Лешу Деев.
Саша издевательски рассмеялся:
– Он – ученый? Вы шутите? Это просто смешно! Что он может изучать? Какой-то недоумок… Его, должно быть, из университета выгнали. Он не знает совершенно персидского и едва связывает слова на фарси… А его таджикский… – и тут Саша добавил в высшей степени по-русски фольклорную фразу, которую интеллигентный Субботский даже сейчас постесняется повторить, а услыхав тогда из уст столь юного создания, был жутко шокирован.
– Это выходит за всякие рамки, – заорал Деев и залепил Саше такой силы подзатыльник, что, по скромным ожиданиям Субботского, голова его обидчика должна была отлететь и катиться до самой древней Хивы. Саша уселся на пол, стал плакать, тереть виски руками и громко причитать на незнакомом диалекте.
– Прекратите скулить, вы не собака, – назидательно сказал Деев, поднял Сашу за воротник с пола и сильно встряхнул. – Умойтесь и ступайте готовить коня: я еду к Гиссарскому хребту[20]20
Гиссарский хребет – горный массив на территории Туркмении и Таджикистана.
[Закрыть] в Другое ущелье, осмотреть лагерь экспедиции.
– А я? – сквозь слезы пролепетал Саша.
– Вам там совершенно нечего делать! – сухо сказал комдив.
Тут, к вящему недоумению Субботского, мальчишка с сомнением покосился на него и перешел на абсолютно правильный, даже академичный французский, который сам Алексей знал не слишком уверенно, но достаточно, чтобы понять этот странный разговор:
– Мой господин, вам не следует туда ездить. Это Другое ущелье – скверное место. Проклятое. Никто из слуг моего дяди, да продлит Аллах милостивый и милосердный его дни, оттуда не вернулся… Ни разу! А в дальнейшем даже за большие деньги люди отказывались ехать туда на поиски пропавших… Вы не можете так рисковать собой! У вас нет преемника…
– Какая ерунда! Это всего лишь страшная сказка. Чтобы отпугнуть глупых людей от места, где ваш достопочтенный родственник спрятал золото. Не более того. Вам давно пора перестать руководствоваться сельскими суевериями! И Аллах здесь совершенно ни при чем. Аллах – частная разновидность суеверия…
– Хотя бы возьмите меня с собой, – не унимался Саша.
– Об этом не может быть и речи. Седлайте коня, и хватит причитать!
– Это приказ, мой господин?
– Да, приказ. Вы не можете ослушаться.
Все это время Деев отвечал Саше тоже на довольно сносном французском. Саша, продолжая жалостно всхлипывать, поплелся в сторону конюшни.
Субботский не был опытным наездником. В тот день он взгромоздился на коня второй раз в своей молодой жизни. И был очень горд собой, пока… злокозненный Саша не вылетел из конюшни на черном жеребце и, проносясь мимо Субботского, не хлестнул изо всех сил его пегую животину. Конь всхрапнул и понесся во всю прыть в туманные дали. Субботский инстинктивно сжал повод и закрыл глаза… То, что он тогда не расшибся на смерть, – настоящее чудо! Сашу за эту проказу Деев лично отстегал и, несмотря на его истерические вопли, велел запереть в сарае, гордо именуемом «гауптвахтой».
…Рассредоточившись, группы всадников метр за метром прочесывали ущелье и прилежащие окрестности. Поиски продолжались уже несколько суток. Лагеря экспедиции обнаружить так и не удавалось. Даже следов никаких. Ни колышков от палаток, ни пепла от костров, ни обглоданных, мулами кустарников, ни утоптанных тропок к речушке…
Савочкин и Субботский поочередно тыкали пальцами в карту. Радостно узнавали одинокие деревца и безошибочно указывали, где обнаружатся валуны или пещерки, которые они прекрасно помнили, но все тщетно. Казалось, экспедиция растаяла вместе с туманом. В то недоброе утро, когда они вдвоем пошли в поселение за продуктами…
Потом поиски продолжались уже без непосредственного участия Савочкина с Субботским. Они были отправлены в ближайший городок, где дислоцировался штаб округа, рассажены в разные комнаты бдительными особистами и в течение полутора месяцев строчили длинные описания работы экспедиции, чертили маршруты, перечисляли имена участников, цели и скромные научные достижения, вспоминали ведомства, которые могли знать об этой затее, знакомых и посторонних, которые смогли бы подтвердить их личности. Но на казенные телеграммы с запросами отовсюду однозначно отвечали, что такой экспедиции никогда не было. Похоже, все сведения об экспедиции исчезли вместе с ней самой. Не значится в университетском отделе кадров доцент Ковальчик. Нет такого студента – Субботского, и никогда не было. Он не проживал и не проживает по указанному в запросе адресу. Никто не знает, кто такой Савочкин Петр Саввич и кто его уполномочил. Вдобавок пленные нукеры на вопросы о том, что они сделали с попавшими к ним учеными, утверждали, что про ученых слышат впервые, а молодые люди перед ними – родственники белогвардейского офицера из банды атамана Семенного… Ситуация была куда как безрадостной.
Снова спасло их только заступничество Деева.
Сам Деев за полтора месяца, что прошли с их последней встречи, сильно изменился. По слухам, он был серьезно болен, несколько недель провел на госпитальной койке. Поговаривали о злокачественной лихорадке, которую комдив подхватил в дальнем горном ущелье, когда лично руководил поисками злополучной экспедиции, и даже о том, что герой пребывает в земной юдоли последние дни. Действительно, хотя Деев держался в седле привычно прямо и даже гордо, выглядел он скверно. Постарел, осунулся, волосы его поредели и стали совершенно белесыми. На руках перчатки, а шею и подбородок скрывал шелковый шарф. Щеки ввалились, а вокруг глаз обозначились глубокие черные тени. Хотя сами глаза были прежними – удивительные, лучащиеся ясным внутренним светом, чистые, словно горный хрусталь. Никогда, ни у одного человека, ни до, ни после встречи с комдивом не видел больше Субботский таких пронзительно ясных глаз!
Деев велел под свою ответственность отписать по инстанциям, что с инцидентом разобрались. Савочкина оставил работать при своем штабе, а Субботскому по-отечески присоветовал забыть о сгинувшей экспедиции как о страшном сне, написал рекомендательное письмо и отправил Лешу с инспектировавшим фронт правительственным поездом в Москву, строго наказав сразу же по приезде с этим самым письмом нанести визит одному его хорошему знакомому – востоковеду, который непременно поможет Субботскому без скандала восстановиться в университете, только уже в Москве. Письмо было адресовано фон Штерну.
Тут Алексей перешел к длинным и совершенно безынтересным для Прошкина описаниям своей учебы и тех подковерных интриг, что царили в научных кругах, при этом все чаще зевал и потирал переносицу. Поэтому пока Субботский еще совершенно не уснул, Прошкин поспешил задать вопрос, вертевшийся у него на языке уже добрых полчаса:
– А у кого сейчас медальон? Тот, что сделали по рисункам из летописи?
Субботский озадаченно посмотрел на Прошкина:
– Понятия не имею… Я его последний раз видел у Александра Августовича. Собственно, ведь он мне эту историю про пилигрима, а потом и про Ковальчика рассказал… У кого он сейчас, даже предположить затрудняюсь, – Субботский взбил подушку и, зевая, принялся облачаться в полосатую пижаму.
А вот Прошкину не спалось. Он даже не ложился – сперва просматривал содержимое папки, на обложке которой каллиграфическим почерком было начертано: «Магия в быту». Но это занимательное сочинение требовало вдумчивого чтения на свежую голову. Потом размышлял о том, где бы лучше спрятать сабли… Кстати, сами сабли оказались совершенно обыкновенными. Одна – банальная казачья, какой в Гражданскую разве что у ленивого не было. Единственное, что отличало ее от других, совершенно таких же, – надпись на клинке: «Упокойся с миром». Судя по старорежимному написанию, с твердым знаком, сабля была изготовлена в предреволюционные времена, скорее всего, еще в империалистическую войну.
Вторая сабля тоже не представляла собой ничего особенного. Она, по всей видимости, была наградной: по ее эфесу струилась сильно затертая гравировка с надписью. «Ком… у – хранит… рев… бдительности, 1921», не без труда разобрал Прошкин. Тут и думать нечего: комдива Деева наградили за проявленную революционную бдительность. Текст надписи бежал по кругу, а ниже был написан год. Поэтому было не совсем понятно, с какого слова надпись начинается: то ли со слова «комдиву» и содержит благодарность за эту самую бдительность, и тогда не совсем понятно, кто именно благодарность вынес, то ли словом «ком…» заканчивается, и тогда можно предположить, что благодарность за бдительность Дееву вынес командарм. Но хотя Прошкин неоднократно бывал на Туркестанском фронте, он, хоть убейте, не мог припомнить, чтобы в начале двадцатых в Красной армии были высшие офицеры в таких должностях. Нет, положительно, звания командарма тогда еще просто не существовало…
Прошкин отложил решение этого ребуса до лучших времен вместе с самой саблей, каковую снова аккуратно спрятал в кладовой. А вот для второй сабли он уже придумал весьма остроумное убежище – фамильный склеп фон Штернов на местном кладбище! Покойный Александр Августович при жизни был хранителем множества тайн и загадок – что ж, пусть продолжает оставаться таковым и после упокоения!
За окном уже робко серело предрассветное небо, а сна так и не было. Если бы Прошкин жил в деревне, уже вовсю бы пели петухи. Значит, можно совершенно безопасно отправляться на кладбище!
17
С удовольствием вдыхая прохладный рассветный воздух, Прошкин бодро возвращался домой из своей кладбищенской экспедиции и вдруг с огромным удивлением заметил Борменталя – нынешнего, Георгия Владимировича. То ли бдительному Прошкину показалось, то ли Георгий Владимирович действительно перемещался крадучись, стараясь оставаться в утренней тени, которую отбрасывали городские сооружения… Но когда тяжелая рука Прошкина, пусть и в сугубо профилактических целях, все-таки опустилась на плечо доктора, тот вздрогнул.
– Георгий Владимирович, вы где сейчас должны находиться? – резко спросил Прошкин.
– В каком смысле? Я иду с дежурства…
– Вы же должны у Александра Дмитриевича ночевать! – возмутился Прошкин.
Борменталь брезгливо поморщился. Ох уже эти интеллигентские штучки! Прошкин повторил вопрос, уже с профессиональным привкусом в голосе.
– Извольте, я отвечу… – процедил Борменталь.
– Сделайте одолжение! – Прошкин довольно ощутимо сдавил Борменталю плечо.
– Вы уж простите мою откровенность, Николай Павлович, я слишком устал, чтобы сочинять эвфемизмы, – Борменталь повел плечом, пытаясь высвободиться, но его попытка не увенчалась успехом. – Так что скажу прямо: мне Александр Дмитриевич мало симпатичен, да и он сам от необходимости со мной соседствовать вовсе не в восторге. А раз так получилось, я, чтобы не обременять ни его, ни себя, вызвался подменить одного доктора в вашей больнице – медицинских специалистов сейчас очень не хватает!
Прошкин не стал слушать дальше, он ухватил Борменталя за запястье, потащил за собой, быстро, почти бегом, ринулся к дому, где квартировал Баев, взлетел на этаж, толкнул дверь – конечно, она была открыта! В комнате глаза Прошкина невольно остановились на большой и пустой нише в стене. Он нехотя и опасливо перевел взгляд на кровать…
В абсолютно пустой комнате, на широкой кровати, накрытой зеленым исламским флагом, который раньше скрывал нишу в стене, лежал Александр Дмитриевич. В новенькой полной форме и в новых сапогах. С аккуратно скрещенными на груди руками – так только в гроб кладут! Да и сам Баев больше походил на покойника, чем на живого человека. Прошкин в ужасе замер в дверях. Он даже не представлял, что теперь делать. Звонить Корневу? Требовать следственную бригаду из прокуратуры? Вызывать «скорую»? Подойти к Баеву и убедиться, что тот мертв?
Его опередил Борменталь. Решительно подошел к Саше, поискал пульс, глянул зрачки; обернувшись, крикнул Прошкину, чтобы тот вызывал без промедления «скорую», – есть, мол, слабая надежда, что Александр Дмитриевич жив, – и принялся делать Баеву искусственное дыхание.
Корнев и Прошкин расположились на крашенной зеленой краской лавочке в тенистом углу больничного двора и сосредоточенно курили – они уже много чего знали. Знали, что Баев останется жив и скоро поправится. И что Сашу пытались отравить сильным опиатом. Что сам едва пришедший в себя Александр Дмитриевич о своих трагических приключениях и даже о вечернем визите к Прошкину с Субботским совершенно ничего не помнит. Что Борменталь действительно подменял приболевшего доктора из клиники всю ночь. И даже то, что, прибеги они с Прошкиным хотя бы через десять минут, было бы слишком поздно, а через полчаса – квартира просто взорвалась бы: на кухне во всю мощь открыли газовый кран и оставили горящую свечу. Что в ту же ночь в Прокопьевке мирно почил отец Феофан, согласно диагнозу сельского фельдшера – от острого приступа сердечной недостаточности. Что особняк фон Штерна ранним утром пытались поджечь, но оставленные дежурить у дома сотрудники НКВД своевременно вызвали пожарных, заметив огонек в окне. К сожалению, задержать вредителей не удалось. Словом, много печальных и необъяснимых совпадений имело место в ту памятную ночь.
– Владимир Митрофанович, готовить распоряжение, чтобы отложили похороны Феофана, царство ему небесное? – деловито спросил Прошкин, пытаясь хоть как-то отвлечься от тревожных мыслей.
– Пусть хоронят в срок, чтоб покоился с миром, славный был старик. И так понятно, без всякой экспертизы: Феофана отравили, так же как и Баева…
– Я вот чего, Владимир Митрофанович, понять не могу: ну зачем Баева, раз уж его хотели убить, да потом еще и квартиру газом взорвать, в казенную форму переодели?
– Что у тебя, Николай, память девичья? – Корнев строго взглянул на Прошкина. – Ты ведь сам лично мне рассказывал, что Баев, когда к тебе в гости заходил вечером, кофе облился. А он чистюля известный: как пришел к себе, небось первым делом гимнастерку сменил… Кому ж нужно было его переодевать?
Прошкина продолжал глодать червь сомнения, и избавиться от него он надеялся, прибегнув к интеллекту своего начальника, как всегда делал в сложных ситуациях:
– Но ведь на нем обыкновенная форма была – со склада, как у нас у всех, и даже сапоги казенные – не совсем по размеру, хотя и совершенно новенькие… А вообще-то, он все носит на заказ сшитое, и в шкафу у него было полно такой вот подогнанной одежды и сапог с каблуками… Куда же вся эта его амуниция делась?
– Ты бы, Прошкин, такую наблюдательность проявлял, когда Александр Дмитриевич у тебя из гостей поздней ночью один-одинешенек уходил! – замечания Прошкина не на шутку разозлили начальство. – А еще лучше проявил бы бдительность и пошел, проводил его, вместо того чтобы с Субботским сказки на ночь друг другу рассказывать! И вообще, что он у вас целый вечер делал и во сколько ушел?
Прошкин ответил честно – насколько мог. Он действительно не знал, что делал в его квартире Баев и о чем он говорил с Субботским до его возвращения.
– Не знаю, Владимир Митрофанович! Когда я приехал, было двадцать часов пятнадцать минут; сколько он до этого с Субботским просидел и о чем они говорили, лучше у самого Алексея Михайловича спросить. Вот… А ушел он около двадцати трех, и провожать его было незачем: он же поехал на машине Управления! Я сам лично ключи ему дал!
– И молчишь! – взвился Корнев. – А сейчас где машина?!
– Во дворе Управления стоит… – Прошкин чувствовал себя виноватым: действительно, получалось, что Баев, перед тем как попасть к себе домой, аккуратно загнал автомобиль во двор Управления и пошел пешком. Хотя ему было едва ли не вдвое ближе от дома Прошкина до собственного жилья, чем до здания Управления.
– Пойдем полюбуемся – может, по километражу сообразим, куда он ездил…
По километражу выходило, что некто ездил на казенном автомобиле в Прокопьевку. Кроме того, в шинах застряли сельская грязь, травинки и соломинки.
– Вот видишь, Николай, как все просто разъяснилось! – обрадовался Корнев. – Я ведь так сразу и сказал, что Феофана отравили, так же как и Баева. То есть дело было так: Баев взял у тебя машину и поехал в Прокопьевку, там о чем-то посудачил с многоумным старичком. Да только ничего хорошего из этого не вышло: обоих отравили. А чтобы скрыть факт их встречи, Баева доставили домой, а затем злоумышленник, воспользовавшись его формой, отогнал автомобиль на стоянку перед Управлением…
На душе у Прошкина было скверно: он никогда не вводил руководство в заблуждение по существенным вопросам и сейчас сильно страдал, наблюдая, как на этот раз из-за недостатка информации Корневу не удается своим привычным – дедуктивным – методом выстроить одну из тех безупречных логических цепочек, которые всегда приводили Прошкина в восторг. Поэтому Николай Павлович рискнул сообщить начальнику возможный максимум информации – в конце концов, мог же он умолчать кое о чем без всякого умысла? Например, в суете просто забыть про эти дурацкие сабли, которые Баев ему принес, ведь он лично убедился, что в саблях нет ничего мистического, опасного или антисоветского! А папка с записями Деева – вещь сугубо частная и к делу никакого отношения не имеет.
Приняв такое решение, Прошкин, конфузясь и краснея, сознался начальнику, что не кто иной, как он сам, Прошкин, имел неосторожность нанести визит отцу Феофану в Прокопьевку, и, мысленно попросив у покойного прощения за частичное искажение фактов, присовокупил: мол, у бывшего служителя культа было накануне видение. И привиделось отцу Феофану, что жизнь Александра Дмитриевича будет подвергаться угрозе до тех пор, пока этот достойный молодой человек не отправится в длительное заморское путешествие…
От таких новостей Корнев плюхнулся прямо на сиденье автомобиля, раскраснелся и расстегнул верхнюю пуговицу на гимнастерке; отдышавшись, устало спросил:
– И что тебе Баев на такую новость выразил?
– Туманно высказался в том смысле, что он уже уехал из Москвы сюда, в Н., а судьба его вовсе не изменилась к лучшему. Он в пророчества не верит, Владимир Митрофанович, и в Прокопьевку ездить не стал бы из-за этого. Тем более бензина оставалось на донышке – ему до дома добраться едва хватило бы… Вон, – Прошкин постучал ногтем по приборной доске, – бак совершенно пустой!
Корнев погрузился в размышления, потом резко велел заправить машину и вызвать Субботского, но не в Управление. Встреча была назначена через полтора часа в особняке фон Штерна.
Прошкин сидел за рулем и раскатывал по пыльным улицам с максимально возможной скоростью, а Корнев с серьезным видом щелкал секундомером и записывал минуты и километры в блокнот. Экспериментальный заезд подтверждал, что на этот раз дедукция не подвела Владимира Митрофановича. Действительно, Саше как раз хватило бы бензина доехать до дома фон Штерна, а затем вернуть автомобиль во двор Управления. Чтобы добраться до собственного жилища, у него уже не оставалось топлива, а заправить машину ночью было негде. Посоветовавшись еще раз, Корнев и Прошкин решились все-таки осмотреть тело отца Феофана до выяснения всех обстоятельств и, направив на утверждение соответствующие документы, отправились в особняк фон Штерна, где их уже дожидался Субботский.