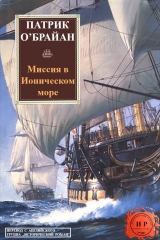
Текст книги "Миссия в ионическом море (ЛП)"
Автор книги: Патрик О'Брайан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
"Киллик находится в ужасном настроении, к сожалению" – написал Джек, – "и никак не может утешиться, пока мы снова не вернемся на линейный корабль. Со своей стороны, меня абсолютно не волнует, если я никогда больше не увижу линейного корабля: после этих месяцев блокады хорошо оборудованный фрегат кажется мне идеальным кораблем, и то же самое я могу сказать обо всех моих офицерах.
Я отобедаю с ними сегодня, и у нас будет грандиозное поэтическое состязание, своего рода скачки, результаты которых решит тайное голосование". – Киллик, – окликнул он, – налей мне рюмку битнера, будь добр. И себе одну, раз уж ты там. – Обед в кают-компании начинался раньше, чем у Джека, и он хотел почтить их пир.
– Его не осталось, сэр, – впервые за день довольным голосом отозвался Киллик, – разве вы не помните, что шкафчик упал в трюм, потому что люк в орлоп оказался сдвинут, о чем нам не сказали, и разбился. Так что ничего не осталось – все профукано, даже не понюхано, все ухнуло в трюм.
Всё профукано,
даже не понюхано,
Все ухнуло в трюм, – напел то же самое он грустным голосом.
– Ну что ж, – решил Джек, – я прогуляюсь по квартердеку – эффект будет тот же самый.
Эффект оказался даже лучше. Матросы уже расправились со своим обедом и выпили грог, но мичманская берлога все еще поедала гороховое пюре и свиные ножки с поджаренной копченой селедкой, закупленной в Валетте, и запах с камбуза плыл на корму, вызывая слюноотделение.
Тем не менее, копченая селедка действительно не была так уж необходима: счастье всегда придавало Джеку Обри аппетит, а в настоящее время его наполняло бессмысленное ликование, которое удвоилось от того, что он стоял на этом знакомом ему квартердеке, гораздо ближе к поверхности моря, чем на "Ворчестере", наблюдал впечатляющий набор парусов, толкающий "Сюрприз" к осту на встречу с "Дриадой" со скоростью почти в три узла при ветре настолько слабом, что многие корабли даже не набрали бы скорости, достаточной, чтобы слушаться руля, в то же время, Джек чувствовал гибкий подъем и спуск корабля на волнах с зюйда – более пластичное движение, чем у любого другого корабля из тех, что он знал.
Это было, в основном, бессмысленное и абсолютно поверхностное счастье: стоило только мысленно сдвинуться вниз на один слой, чтобы столкнуться с крайне сильным разочарованием в адмирале Торнтоне, еще на один – с шокирующим расстройством от битвы, ускользнувшей от них – битвы, которая, возможно, стала бы в один ряд с Сент-Винсентом и битвой на Ниле, и которая почти наверняка бы сделала Тома Пуллингса коммандером (продвижение, особенно близкое сердцу Обри), еще один слой – с его собственной глубокой озабоченностью провалом в Барке, а если нырнуть глубже – там всегда таились личные юридические и финансовые проблемы и беспокойство об отце.
Газеты на Мальте сообщали, что генерал Обри прошел сразу не менее чем в двух округах, и, казалось, что старый джентльмен теперь стал в два раза говорливее.
Он выступал против министерства чуть ли не каждый день, и теперь делал это исключительно в интересах крайне радикальных сил, увы, к вящему смущению министерства.
И глядя вперед, не так уж много возможностей для разумной радости видел Джек, а, скорее, перспективу чрезвычайно сложной ситуации, в которой потребуется скорее дипломатия, чем ожесточенная битва, ситуации, в которой он был точно уверен в отсутствии какой-либо поддержки от своего командующего, ситуации, в которой ошибочный выбор может привести к краху его карьеры на флоте.
Тем не менее, Джек пребывал в радостном настроении. Скука блокады на урезанном рационе на тяжелом, плохо построенном корабле, который мог публично опозориться в любую минуту, осталась позади, по крайней мере, на ближайшее будущее, утомительная и в некоторой степени болезненная передача дел, возня с бумажками и споры с властями Мальты закончились. "Ворчестер", этот ходячий труп, стал общей головной болью уже верфи, а не его, и, хотя он оставил там ораторию, там же оставил и больных ветрянкой, этой смертельной болезнью.
Джек разогнал самых бесполезных мичманов и всю молодежь, кроме двоих – Кэлэми и Уильямсона, за которых чувствовал особую ответственность и находился на борту породистого фрегата, корабля, насквозь ему знакомого и который он искренне любил, не только за его выдающиеся качества, но и потому, что корабль являлся частью его юности, совершенно независимо от его командования в Индийском океане, где "Сюрприз" проявил себя весьма похвально. Джек служил на нем давным-давно, и даже запах тесной и неудобной мичманской берлоги снова возвращал ему молодость.
Фрегат был довольно небольшим (на флоте всего парочка еще меньше) и довольно старым, и хотя его значительно укрепили, почти перестроили на верфи в Кадисе, Обри никогда, никогда не поставил бы "Сюрприз" на пути тяжелых американских фрегатов, но, к своему удовольствию, обнаружил, что ремонт ни в коей мере не ухудшил мореходных качеств – корабль остался удивительно быстрым для тех, кто знал, как с ним обращаться, и мог скользить как куттер и забрать ветер у любого корабля в Средиземном море.
Для миссии подобного рода и для восточного Средиземноморья в целом, "Сюрприз" оказался именно тем, что он только мог желать (за исключением веса бортового залпа), а прежде всего, ему необычайно повезло собрать команду отборных моряков, где даже ютовые могли убирать паруса, брать рифы и стоять у штурвала.
Все еще оставалось много таких, кто не плавал с ним до "Ворчестера", но удивительно большая часть из двухсот человек экипажа фрегата плавала с ним – например, все первые и вторые наводчики орудий и почти все старшины, и куда бы он ни посмотрел, то видел знакомые лица.
Даже если это и не старые товарищи, Обри мог назвать имя и дать характеристику, в то время как на "Ворчестере" слишком многие оставались неизученными. И Джек заметил, что матросы выглядели невероятно веселыми, как будто на них распространилось его собственное хорошее настроение. Конечно, они только что получили свой грог, погода стояла хорошая, и объявлено каболкино воскресенье, но даже с учетом этого, редко он видел более жизнерадостный экипаж, особенно старых сюрпризовцев.
– Удивительное соотношение старых сюрпризовцев, – пробормотал Джек про себя и хохотнул.
– Удача капитана снова при нем, – пробормотал Бонден, сидя на трапе и вышивая "Сюрприз" на ленте своей парадной шляпы.
– Ну, надеюсь на это, и уверен в ней, – отозвался его двоюродный брат – тугодум Джо. – Её не видно уже достаточно долго. Убери свою толстую задницу с моей новой рубахи, шлюхино отродье, – обратился он негромко к другому своему соседу – морскому пехотинцу.
– Надеюсь только, что не даст по голове, вот и все, – сказал Бонден, вытянув руки и коснувшись деревянной станины орудия номер восемь.
Джо кивнул. Хотя и тугодум, он прекрасно понял смысл бонденовской "удачи". Это не случай, банальная удача, вовсе нет, но другое понятие вообще, почти мистического свойства, как милость какого-то божества или, в крайнем случае, как нечто вещественное, и если она привалит слишком большой, это может оказаться фатальным – слишком жаркая благодать. В любом случае, к ней следовало относиться с большим уважением, почти не называя, с помощью намеков или иносказаний, никогда не объясняя.
Не имелось какой-либо явной связи удачи с моральными качествами или с красотой, но её обладатели, как правило, бывали всеми любимы и довольно привлекательны и частенько замечали, что удача сопутствует определенного рода счастью. Именно это качество, гораздо больше, чем захваченные им призы, являлось причиной, а не следствием, заставившей нижнюю палубу заговорить о Счастливчике Джеке Обри в начале его карьеры. И именно благочестие на этом древнем языческом уровне заставило сейчас Бондена возражать против «излишков».
Капитан Обри, глядя поверх поручня наветренного борта, улыбался, вспомнив незамысловатую забаву, что была у него на этом самом корабле еще юнгой, когда услышал скрип сапог барабанщика морской пехоты, поднимающегося на корму.
– Так держать, Дайс, – сказал он рулевому, бросил последний машинальный взгляд на колдунчик и пошел вниз за своим лучшим шейным платком и завязывал его, когда барабан пробил "Ростбиф старой Англии", затем, низко пригнувшись под бимсами, вошел в кают-компанию, едва только Пуллингс занял свою позицию у двери, чтобы его поприветствовать.
– Что ж, это намного уютнее и по-домашнему, – сказал Джек, улыбаясь дружелюбным лицам, числом восемь, плотно сгрудившимся вокруг кают-компанейского стола. Хотя "по-домашнему" это было для тех, кто воспитывался в морских трущобах, и, возможно, намного уютнее, чем хотелось бы, поскольку у каждого за спинкой стула стоял вестовой, а день выдался необыкновенно теплым и тихим, и воздух вниз не поступал.
Пища тоже оказалась домашней: как главное блюдо – жареная говядина из Калабрии, здоровенный кусок одного из итальянских буйволов, известных на флоте как серые монахи, и отправлявшихся на Мальту, когда уже не годились для работы. Говядина сопровождалась пудингом на свином сале с изюмом и смородиной.
– Вот это то, что я называю действительно хорошей основой для литературы, – заявил Джек, когда убрали скатерть, выпили за короля и поставили на стол новые графины. – Когда начнем состязание?
– Немедленно, – ответил Пуллингс. – Томпсон, раздай бюллетени, поставь урну, собери ставки и передай песочные часы. Мы договорились, сэр, чтобы каждый джентльмен ограничил себя четырьмя с половиной минутами, но может дополнительно по-быстрому пересказать оставшуюся часть поэмы в прозе. И мы договорились, сэр: никаких аплодисментов, никаких возгласов, чтобы они не могли повлиять на исход голосования. Все должно быть честно, как в Хабеас корпус[29]29
Закон о неприкосновенности личности.
[Закрыть].
– Или "Ныне отпущаеши..." – вставил казначей. Но, хотя мистер Адамс и проявил себя крайне активно в разработке правил, и он, и остальные в последний момент как-то застеснялись, и флотские перлы в качестве ставок собрали только пол-гинеи, кучку английского серебра и три песо – вклад остальных участников, Моуэта, Роуэна и Драйвера – нового офицера морской пехоты, присоединившегося на Мальте (весьма обеспеченного, румяного и любезного молодого человека с неважным зрением, подшучивающим над собой). Его способности оставались пока еще неизвестны кают-компании.
Они бросили жребий. – А сейчас, господа, – начал Роуэн, – часть поэмы о "Кораджесе", капитан Уилкинсон, налетевшем ночью на риф Анхольт, ветер с зюйд-веста, двойные рифы на марселях и фоке, скорость восемь узлов.
– Переверните часы, – Пуллингс перевернул песочные часы, и ни капельки не изменив тон, темп или хотя бы интонацию, Роуэн начал декламировать, его веселое круглое лицо прямо-таки сияло.
Уныние наступило, и многих отчаяние вмиг охватило, Поскольку затопление уж где-то рядом было, Корабль крепко сел и мачты закачались,
И следом за форштевнем за борт намеревались. Скрежет ужасный от клотика до киля и резкий рывок, Команде дал мощнейший пинок, От давления и качки руль перекосился, Но вскоре ко дну пошел, поскольку отвалился.
Чтобы корабль через риф протащить, парус поставленный, Тягу дал сильную, но силы – неравные, Мгновенно был порван, и заново поднят со звуком шипящим, Командой доблестной, рвением горящей, Но отдан приказ горький приготовиться Бросать пушку за борт. Как тут не отчаяться!
Офицер, по счету третий, рискнул возопить, О благородный вождь, молю, не надо торопить! (– Мне посчастливилось нести ту вахту, сэр, – мимоходом пояснил он Джеку.)
Этот третий сказал, – попомните, сэр, С должным почтением, прошу, послушайте мой пример, И ваш собственный опыт подобных шагов Ведет к крушениям у крутых берегов. Ведь на песке лежащие пушки тверды как скала,
И днище корпуса пробьют "на ура", И вот задувает ветра порыв, Что сделает невозможным "все к шлюпкам" призыв.
"Всем стоять" – отважный капитан команду отдал, "Ветер в лоб", – и экипаж марсели вновь распускал, Паруса обстенили в ожидании ветра дуновения, Узри ж поразительный знак Провидения!
Несмотря на правила, послышался гул одобрения, что корабль снялся с рифа, потому что из стихов Роуэна, да и его личного присутствия среди них, следовало, что "Кораджес" снялся с рифа, но также отчетливее прозвучал скептицизм по поводу слов, сказанных третьим лейтенантом своему капитану, поскольку Уилкинсон слыл джентльменом вспыльчивым, и Роуэн это почувствовал. – Слова о "благородном вожде" – дань поэзии, ну, вы понимаете, – заметил он.
– Не думал я, что ты уложишься в срок, – удивился Пуллингс, – осталось не более трех песчинок. Следующий.
Моуэт глотнул портвейна и слегка побледнел. – Я прочту фрагмент кое-чего эпического в трех песнях, о людях, плывущих в этих водах, или, если точнее, несколько к осту, около мыса Спадо.
Их настигло ненастье, марсели свернуты, брам-реи спущены на палубу, нижние паруса зарифлены – вот какова ситуация. Но этому предшествует сравнение, польщу себе, сравнение, которое лучше даст описание места: Теперь на север от Африки берегов знойных, Где курс пересекла их стая дельфинов свободных, но, сомневаюсь, что мне это удалось, и может показаться немного странноватым без объяснения, но, так или иначе, начну отсюда. – Он кивком дал Пуллингсу знак перевернуть часы и, не отрывая взгляда от падающего песка, глухим стенающим голосом начал.
Подброшенный на волне, корабль принимает бури удар, Страшится мести и врага давнего чар, Как гордый конь в дорогостоящей сбруе во мраке, Ликуя, дыбится в кровавой драке, От земли оттолкнувшись, славой блистает, Он в хороводе битвы кружится и пылает, Так окутанный гордыней кричащей, На волне танцует корабль дрожащий.
Моуэт быстро окинул аудиторию взглядом, ища реакцию на своё сравнение, но не увидел ничего, кроме выражения глубокой, вселенской тупости, но это могла быть и маска сдержанности, оговоренная правилами. В любом случае, он поспешил перейти к части, где все ощутили бы себя в своей тарелке.
Все свирепей и свирепей южные демоны ревут, Все яростнее дыбящиеся волны растут. Корабль больше не может марсели сохранить, А надежды на ясное небо давно бегут во всю прыть. Фалы и булини снова провисли, Гитовы отданы, и паруса трепещут так быстро, Марсели на гитовы взяты, и реи брасопят прямо: Матросы наверх лезут упрямо.
По ветру встали и паруса свернули, Рей-талями рей затем подтянули. А по кораблю в это время боцман лихой мчит, Как хриплый дог сквозь шторм он рычит, Салаг он быстро поправляет, Умелых хвалит, а робких ободряет. Теперь спускать брам-рей принялись: А также к наветренным бакштагам отправились, Другие на салингах топрепы закрепляют.
Ловкие моряки из верхних реях бейфуты, стрелы, и брасы убирают, Затем заводят наверх и к шкивам привязывают, Занятые парусами вниз по бакштагам соскальзывают. Вот паруса свернуты, и такелаж убран, Теперь экипаж может отдохнуть от трудов бранных.
– Но потом становится хуже, – сказал Моуэт, – солнце заходит, – я закат пропускаю, какой позор – я пропускаю луну и звезды – Но корабль больше не может паруса нижние нести, Зарифить их – капитана обязанности: Моряков на палубу зовут – бесстрашных отряд!
Держать, а затем вязать гитовы ждут его команд. Но он, стремясь бурю разоружить быстрее, Никогда не возьмет первыми гитовы на подветренном рее.
Матросам к наветренной стороне и приказа ждать, Они наготове стоят, чтобы галс отдать, У паруса и наветренного браса напряженно взывают, На подветренные гитовы и бык-гордень налегают.
И вот все готово – распускай – он кричит... – Время, – проговорил Пуллингс. – Ох, Том, – огорчился Моуэт, падая в кресло, вдохновение покинуло его.
– Мне жаль, приятель, – ответил Пуллингс, – но правила есть правила, да и у морской пехоты должен быть шанс.
Мистер Драйвер, всегда румяный, под стать цвету своего мундира, но непонятно, была ли в том вина портвейна, смущения или духоты – неизвестно. Он дал собравшимся понять, что его стихотворение – не фрагмент, о нет, не кусок чего-либо большего, если они правильно его поняли, но нечто завершенное, так сказать.
Внимательным слушателям, стало понятно, что произведение о парне, подумывающем о женитьбе, советах этому парню от опытного друга, тертого калача, кое-что повидавшего в свое время, но мистер Драйвер так часто смеялся и говорил настолько тихо и невнятно, опустив голову, что они почти ничего не поняли, пока тот не произнес:
Черты ее лица прекрасны и добродетельны, Изъянов врожденных в них нет. Пусть года её твои не превысят или будут равны - Привлекательность женская быстро угаснет. Ее состояние пристойно и, если это возможно Удостоверься, что оно праведно.
Если ж достаточно и твоего, ее может быть уменьшено: Не стремись сам к богатству избыточному, Ибо то, что делает нашу жизнь уверенной, Так это любовь и достаток умеренный. – Очень хорошо, – воскликнул казначей, чиркая в своем бюллетене для голосования. – Скажите, сэр, что бы вы посчитали умеренным достатком? Я имею в виду человека, у которого есть только его жалованье?
Мистер Драйвер засмеялся и прохрипел под конец: – Две сотни в год в казначейских билетах в ее собственном распоряжении.
– Никаких замечаний, господа, если позволите, – произнес Пуллингс, кивнув в сторону профессора Грэхэма, который, очевидно, намеревался что-то сказать.– Никаких замечаний до голосования, – он пустил урну для голосования по кругу (её роль исполнял футляр из-под секстанта), поставил её перед Джеком и обратился к Грэхэму, – я перебил вас, сэр, и прошу прощения.
– Я только хотел заметить, что стихотворение капитана Драйвера напомнило мне стих Помфре "К другу, намеревающемуся жениться".
– Но это так и есть, – удивленно сказал Драйвер: и среди общего протеста заявил, чтобы все слышали, – мой опекун заставил выучить его наизусть.
Осаждаемый со всех сторон, он обратился к Джеку: – Как можно ожидать, что это будут собственноручно написанные стихи? Собственноручно написанные стихи, ради Бога! – Драйвер считал, что приз полагается за лучшее прочтение.
– Если бы приз полагался за лучшее прочтение, – сказал Джек, – то, осмелюсь сказать, мистер Драйвер сорвал бы первый приз, но, поскольку условия совсем другие, его следует вычеркнуть из списка соревнующихся и вернуть его ставку, а бюллетени в его пользу не учитывать.
Что касается остальных конкурсантов, – сказал он, изучая бюллетени, – то считаю, что мистер Роуэн победил в номинации "поэзия в классической манере", в то время как мистер Моуэт победил в номинации "поэзия в современной манере".
Посему призовой фонд следует разделить на две равные половинки или доли. И думаю, что не искажу чувства собравшихся, если настоятельно рекомендую обоим господам вступить в переписку с каким-либо уважаемым книготорговцем с целью публикации своих произведений, как для удовольствия своих друзей, так и на благо службы.
– Внемлите ему, внемлите, – воскликнули остальные, стуча по столу.
– Мюррей, вот тот, кто нужен, – сказал Грэхэм со значительным видом, – Джон Мюррей с Альбемарль-стрит. У него отличная репутация, и, могу заметить к его чести, что отец его, основавший магазин, был сыном, законным сыном, лейтенанта морской пехоты.
Мистер Драйвер же довольным не выглядел. Он заявил, что если у сына этого парня нет особых талантов или личной привлекательности, тогда парень вполне прав, запихав сына в магазин: семье не пришлось возиться с ним после того, как он вырос, пока тот не сделает себе состояние или, по крайней мере, более чем пристойный джентльмену достаток.
И вообще книготорговец – это не обычный лавочник – многие, кого знал Драйвер, умели читать и писать, а некоторые и изъяснялись довольно гладко.
– Именно так, – подтвердил Грэхэм, – и этот мистер Мюррей особенно хорошо воспитанный экземпляр, более того, даже сравнительно не подвержен омерзительной скупости, привнесенной в Дело, как его подчеркнуто называют, этой незавидной репутации. Мне сказали, он дал пять сотен фунтов, Пять Сотен Фунтов, господа, за первую часть "Чайльд-Гарольда» лорда Байрона.
– Боже, – произнес Стивен, – а что бы принес в совокупности весь Гарольд?
– Чайльд – это архаичный термин для обозначения молодого человека из хорошей семьи, – вмешался Грэхэм.
– Я и не ожидаю столь многого, – сказал Роуэн, – я не лорд, но хотел бы видеть свои труды напечатанными.
Вечером, когда фрегат очень медленно скользил в тумане, поднимающемся от теплой поверхности моря, тумане с глубоким розовым оттенком от заходящего солнца, Джек произнес: – Даже не могу выразить, насколько я счастлив вновь оказаться на дорогом мне "Сюрпризе".
– Вижу, – согласился Стивен, – и рад за тебя. Он говорил немного отрывисто – кончик смычка виолончели недавно развалился на куски прямо в руке, и раздражение все еще кипело внутри. На Мальте он спал на берегу, и мальтийские клопы, блохи и комары так сильно его искусали, что даже сейчас Стивен чесался с головы до ног, и погода оказалась намного жарче, чтобы считать её приятной.
Однако Стивен не вредничал и размышлял над поведением друга. Имелись ли у него любовные похождения в Валетте, или (Джек не столь предприимчив, как Баббингтон) какая-то гнусная потаскуха хитростью завлекла его, нежно подталкивая, на языческий алтарь, убедив, что он – герой-завоеватель?
Нет, Джек так не выглядел: не видно в нем ничего от мужского самодовольства. Тем не менее, налицо какое-то языческое состояние благодати, в этом Стивен был уверен, а когда Джек, зажав скрипку под подбородком, извлек странный дерганный аккорд, а затем начал импровизировать дальше, уверился в этом еще сильнее.
С его техникой самоучки и разнообразными ранами, Джек никогда не являлся приличным скрипачом, но в этот вечер прямо-таки заставлял скрипку петь, и слушать его доставляло истинное наслаждение. Это была дикая, отрывистая песня, выражающая скорее ликование, чем соблюдающая правила, но ликование, весьма и весьма далекое от легкомысленности, и, созерцая Джека, пока тот играл у кормового окна, Стивен задумался, как покрытый шрамами и побитый жизнью пост-капитан весом в шестнадцать стоунов, джентльмен с зарождающимся вторым подбородком, может играть с таким изяществом, такой веселостью, выдавать такие удивительно блестящие и оригинальные вариации и выражать их настолько хорошо.
Застольный Джек Обри, находящий удовольствие в остром словце, являлся другим существом, но все же оба уживались в одном теле.
Смычок для виолончели починен, скрипичная импровизация завершилась эльфийской трелью почти за гранью человеческого слуха, и они перешли к своему старому, размеренному Скарлатти до-мажор, играя до ночной вахты.
– Помнит ли Уильям Баббингтон о моей мастике, вопрошаю я себя, – сказал Стивен, когда уходил. – Он достойный молодой человек, но при виде юбки все остальные соображения вылетают у него из головы, а Аргостоли славится не только мастикой, но и красивыми женщинами.
– Уверен, что помнит, – отозвался Джек, – но, сомневаюсь, что мы встретимся с ним в первой половине дня. Даже мы едва делаем два узла, а эта жалкая, позорная посудина, голландское корыто по прозвищу "Дриада", вообще бесполезна при слабом ветре. Кроме того, если этот туман завтра не разойдется, мы тоже можем вообще заштилеть.
Стивен истово верил в мастерство Джека как предсказателя погоды, моряка и высшего морского божества, но случилось так, что укусы и нехватка воздуха (роскошные двадцать квадратных футов "Ворчестера" заставили его позабыть о промозглой, непроветриваемой конуре под ватерлинией "Сюрприза") помешали заснуть, и Стивен находился на палубе с первыми проблесками рассвета, когда бледный туман истончался, а ручные помпы качали наверх воду для ритуального мытья палубы.
– Ахой, парус! Парус слева на скуле, – раздался окрик впередсмотрящего. Стивен посмотрел в указанном направлении, увидел смутно маячивший упомянутый парус, но не настолько смутно, чтобы не смог различить, что это бриг. – Ошибся, ошибся ты, Джек Обри, – проговорил он.
– Я получу свою мастику в конце концов, – с этими словами, почесываясь, прошел вперед, пробрался среди песка и струй воды и подошел к помощнику вахтенного офицера, который, расположившись на карронаде, и закатав брюки от брызг, смотрел на призрачный бриг.
– А вот и мистер Баббингтон, возможно, он придет к завтраку, – произнес Стивен, но молодой человек, по-прежнему глядя на бриг, ответил рассеянным смешком. Стивен прошел до вант-путенсов правого борта, снял колпак и ночную рубашку, засунул их под юферс и какое-то время усердно почесывался, опершись о выступающий привальный брус, затем, зажав нос левой рукой и перекрестившись правой, с плотно закрытыми глазами нырнул в море, бесконечно бодрящее море.
Пловец из него так себе, на самом деле, по обычным стандартам, его вряд ли вообще можно назвать пловцом, но путем бесконечных мучений Джек научил его держаться на воде и барахтаться, проплывая за раз пятьдесят или даже шестьдесят ярдов.
Плавание вдоль борта корабля от вант-путенсов до лодки, буксируемой за кормой, было вполне в пределах его сил, особенно, поскольку корабль еще и сам понемногу двигался вперед, что делало относительное продвижение в сторону лодки немного быстрее.
Поэтому он без малейших опасений нырнул, хотя прежде никогда не делал этого в одиночку, и когда пузыри поднялись мимо его ушей, подумал: "Я скажу Джеку "Ха-ха, я поплавал сегодня утром" и увижу его изумление".
Но, когда Стивен вынырнул на поверхность, задыхаясь и мигая от воды, то увидел, что борт корабля от него странно далеко. Почти сразу же он понял, что "Сюрприз" поворачивает влево, и Стивен изо всех сил заколотил по воде, крича всякий раз, когда волна поднимала его голову над водой.
Но всех матросов вызвали на палубу, постоянно свистели дудки боцманов, раздавались крики и беготня по палубе, пока "Сюрприз", распуская парус за парусом, продолжал разворот, а поскольку все, у кого имелось время отвлечься от немедленных задач, смотрели в сторону левого борта, ему невероятно повезло, что Джон Нюбай, обернулся плюнуть через поручни правого борта и увидел его страдальческое лицо.
Начиная примерно с этого момента, точная последовательность событий ускользнула от него: Стивен пребывал в уверенности, что наглотался морской воды, а также что на какое-то время погрузился под воду, а затем обнаружил, что потерял ориентацию, все силы и ту небольшую плавучесть, которой обладал, но вскоре он, казалось, очутился в постоянно меняющемся настоящем, в котором события происходили не последовательно, а словно бы наблюдал их с разных точек зрения.
Громоподобный голос, кричащий где-то высоко над головой "обстенить фор-марсель", новое погружение в глубины, теперь потемневшие из-за тени, создаваемой корпусом корабля; руки, грубо схватившие его за ухо, локоть и левую голень и перекидывающие через планширь шлюпки, беспокойство мичмана "Вы в порядке, сэр?", всё это могло происходить и одновременно.
Это продолжалось до тех пор, пока он не задумался над происходящим, хватая воздух на кормовой банке – что произошедшие события, такие как "навались, навались, ради Бога" предшествующее удару шлюпки о борт, и просьба подать вниз конец, следовали друг за другом, но вполне пришел в себя, не без тревоги, когда услышал тихий шепот носового загребающего своему соседу "Ну и всыплют же ему, если капитан упустит этот приз, из-за того, что доктор упал за борт. Тот еще дельфин."
Бонден, почти потерявший дар речи от негодования, привязал его и поднял на борт, накинулся на него как сердитая нянька, призывая спуститься вниз, но Стивен проскользнул у него под рукой и прошел вперед, где капитан Обри стоял вместе с Пуллингсом и старшим канониром у погонного орудия левого борта, в то время как расчет наводил эту прекрасную бронзовую девятифунтовку на летящий по волнам бриг, теперь уже в полумиле от них и под впечатляющей грудой парусов.
Все, кроме Джека, быстро отвели взгляд, приняв застывшие, отсутствующие выражения лиц, когда Стивен подошел и сказал: – Доброе утро, сэр. Прошу прощения за причиненное неудобство. Я плавал.
– Доброе утро, доктор, – холодно взглянув, ответил Джек. – Я и не знал, что вы в воде, пока шлюпка не оказалась рядом с вами, благодаря хладнокровию мистера Кэлэми. Но должен напомнить вам, что никто не имеет права покидать корабль без разрешения: более того, вы не в той форме одежды, в которой надлежит появляться на палубе.
Мы поговорим об этом в более подходящее время. В данный момент я хочу, чтобы вы отправились в свою каюту. Старший канонир, одолжите доктору ваш фартук, найдите мне самое округлое ядро, зарядите три с четвертью фунта пороха и два пыжа, и давайте попробуем зону досягаемости.
В своей каюте Стивен услышал, как орудие открыло расчетливую, тщательно выверенную стрельбу. Он чувствовал себя замерзшим и опустошенным: по пути вниз он не встретил ничего, кроме неодобрительных взглядов, а когда позвал вестового, не последовало никакого ответа. Если бы не этот несчастный приз – возможность этого несчастного приза – если бы не их жадность, их пресмыкающаяся алчность, его бы окружала любовь и забота, все бы его обласкали и поздравили со спасением.
Кутаясь в одеяло, Стивен провалился в неправдоподобную дремоту, затем глубже, глубже, в полную отрешенность, из которой его выдернул (и весьма грубо) Питер Кэлэми, пронзительно проревевший, что "старый Боррелл на тысяче ярдов им срезал фалы грот-марселя – все разом упало – Боже, как они ревели от восторга! Сейчас приз находился рядом, и капитан думает, что доктор захочет на него взглянуть".
С тех пор, как доктор Мэтьюрин вылечил его от свинки, Кэлэми очень к нему привязался: эта любовь выражалась странными личными обращениями – когда, например, мистера Кэлэми приглашали отобедать в кают-компании, он мог с утра пораньше отозвать Стивена в сторонку и спросить: "Из чего будет пудинг, сэр? Ой, да ладно, сэр, уверен, вы знаете, что на пудинг", и предположением, что во многом он старше из них двоих, предположением, существенно усиленным событиями этого утра. Теперь же мичман вынуждал Стивена одеться подобающим образом. – Нет, сэр, наденьте бриджи. Только капитан может носить брюки, но после сегодняшнего утра бриджи и рубашка с оборками – наименьшее из возможного.
Поэтому, когда доктор Мэтьюрин снова появился на палубе, то оказался облачен фактически в соответствии с требованиями службы, и сейчас палуба полнилась доброжелательными, улыбающимися лицами – Вот и вы, доктор, – сказал Джек, пожимая ему руку. – Думаю, вы бы хотели увидеть наш приз прежде, чем я отошлю его прочь.
Он отвел его к борту, и они смотрели на захваченный бриг, конечно, не "Дриаду", даже отдаленно не похожий на нее, за исключением наличия двух мачт, но истинный ходок – длинный и узкий, с отличным профилем корпуса, высоченными мачтами и бушпритом необычайной длины с тройным мартин-гиком – "Боном Ричард", хорошо известный прорыватель блокады.








