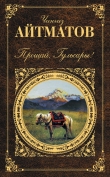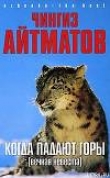Текст книги "Чингиз Айтматов"
Автор книги: Осмонакун Ибраимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
БИТВА ТИТАНОВ
Токомбаев против Айтматова
Кто-то из умных людей говорил, что ничто не меняется так быстро, как прошлое. Мы с высоты сегодняшнего дня видим, как наше историческое прошлое, всё больше отдаляясь от нас, переворачивается, меняя свои привычные контуры, обнаруживая какую-то новую грань, восхищая или пугая своими опасными зигзагами.
Недавние советские годы. Они только на первый взгляд кажутся стабильными и идеологически одномерными. Как теперь выясняется, в их недрах накапливалась вулканическая энергия, происходили идейно-политические и социальные извержения, шла постоянная борьба, возвышающая одних и столь же стремительно низвергающая с пьедестала других.
Не будем говорить о 1920—1930-х годах прошлого столетия, когда новая советская власть силой оружия и массовыми репрессиями самоутверждалась, обретая свой окончательный идеологический профиль. Но даже в период хрущёвской «оттепели» и в поздние годы СССР нашу тихую и мирную киргизскую республику сотрясали свои идейно-политические конфликты, нередко отзываясь гулким эхом в масштабах большого Союза. Таким получился ставший почти легендарным идеологический диспут, можно сказать, жёсткий конфликт между классиком киргизской литературы Аалы Токомбаевым и Чингизом Айтматовым. Было это в 1987 году, в закатный период Советской империи.
Суть конфликта сводилась к тому, что Токомбаев выступил категорически против так называемого орозбаковского варианта великого киргизского эпоса «Манас», вышедшего под редакцией Айтматова. В этом издании, по мнению классика, слишком рельефно проступал националистический пафос, чуть ли не захватническая идея, что, с одной стороны, не свойственно эпосу, с другой – может негативно отразиться на международных, прежде всего советско-китайских отношениях. Аксакал киргизской литературы, выросший в атмосфере «классовой борьбы» 1920—1930-х годов, явно направлял стрелы критики, в которой отчётливо проступали идеологические мотивы, против Айтматова, действительно продвигавшего «Манас» во всём мире, открыто выступая при этом радетелем киргизского языка (да и вообще всех нерусских языков, ставших маргинальными). Чингиз Торекулович сделался как бы выразителем культурных интересов всех малых народов СССР, ничуть не отрицая при этом выдающейся роли русского как языка межнационального общения, как языка-объединителя. Мастер литературы, одинаково свободно пишущий на двух языках, он лучше многих осознавал эту сложную диалектику.
Следует иметь в виду, что в 1980-е годы Айтматов-романист, в чьём мощном воображении соткался образ манкурта, почти открыто шёл наперекор генеральной линии Коммунистической партии, а идеологический «вред» произведения киргизского писателя наносили ничуть не меньший, нежели выступления тех же диссидентов. Но его спасала горбачёвская политика демократизации и гласности, а иногда, когда писателю грозила реальная опасность, Михаил Сергеевич выступал в его поддержку лично.
Одним из первых Чингиз Айтматов заговорил об униженном положении национальных языков, об отсутствии школ на местных языках даже в столицах союзных республик. Его выступление на дискуссии об орозбаковской версии «Манаса» вызвало огромный резонанс прежде всего в тех же республиках, да и в Европе отозвалось эхом, что ничуть не обрадовало официальную Москву. Впервые Айтматов, который считался баловнем Кремля, чьё имя систематически упоминалось с самых высоких трибун как символ достижений национальной политики СССР, ощутил повеявший из столицы холодок.
В те годы мы все считали этот эпизод киргизской истории, то есть конфликт Айтматова с Токомбаевым, неким досадным недоразумением, объясняя его лишь амбициями двух грандов киргизской культуры. Но потом выяснилось, что это далеко не так. За этим конфликтом стояли слишком большие интересы – интересы большой политики, интересы всей советской империи.
Теперь, спустя почти 40 лет, обнаружилось, что терпение верхов тогда всё-таки лопнуло, и власть намеревалась каким-то образом приструнить Айтматова, заставить замолчать. И, судя по всему, собиралась сделать это руками его же соотечественника – Аалы Токомбаева, одного из зачинателей киргизской советской литературы, пользовавшегося заслуженным авторитетом и у себя дома, и далеко за его пределами. За аксакалом стояли местные секретные службы и такие всесоюзно популярные газеты, как «Правда», «Известия», «Комсомольская правда». А тайно направляли этот нешуточный идеологический диспут союзные структуры безопасности, всесильный КГБ.
Со временем нападки на писателя только усиливались, постепенно принимая характер продуманной идеологической компании. В Киргизии сформировалась группа рьяных защитников Токомбаева, выступавших в печати с ведома местных спецслужб и партийных организаций. Чингизу Торекуловичу приходилось всячески отбиваться от этих атак. Тем временем и во всесоюзной прессе начали появляться острые критические статьи о его творчестве, авторы которых тоже не особенно жаловали вчерашнего фаворита.
И всё-таки главным оппонентом Чингиза Айтматова оставался Аалы Токомбаев, признанный классик киргизской литературы, писатель и поэт действительно въедающийся. Он обвинил Айтматова в «национализме», в неуместном, на его взгляд, возвеличевании «Манаса». У него нашлось немало сторонников, но у Айтматова их оказалось значительно больше. Получилось так, что спор вокруг родного языка разделил киргизов на два лагеря – тех, кто настаивал на широком преподавании этого языка во всех школах, и тех, кто считал этот вопрос несвоевременным и надуманным, используемым только для разжигания националистических чувств. На стороне последних негласно стояло местное партийное руководство. Интересно отметить, что и теперь спор вокруг судеб киргизского языка не утихает. Насколько можно судить, продолжится он и в обозримом будущем.
Кульминацией соперничества двух маститых художников стало общественное обсуждение позиции Токомбаева в Союзе киргизских писателей. Собралась вся национальная элита, «весь цвет киргизской интеллигенции», как заметил Айтматов. Он же, как председатель Союза писателей Киргизии, открыл собрание краткой вступительной речью. И начал предоставлять слово тем, кто, по всей видимости, заранее подготовился и намеревался дать старейшине киргизской литературы крепкий отпор. Многие выступали по бумажке, почти все однозначно поддержали Чингиза Торекуловича. Атмосфера в зале накалилась, все ощущали, что участвуют в событии крупного, чуть не исторического масштаба. Да так оно, наверное, и было.
Собрание длилось почти пять часов. К его чести, аксакал, пришедший на собрание со своими взрослыми детьми, вёл себя весьма достойно. Иные выступления сверстников по перу, таких же как он «зачинателей национальной литературы», вызывали у него усмешку. Да и то сказать: обвинения против него выдвигались порой совершенно абсурдные. Вполне возможно, другой человек попросту не выдержал бы такого шквала прямых нападок и издевательств. А Токомбаев держался. Вот тогда и подумалось, что в зале сидит человек, который пережил времена похуже – времена Ежова и Берии, массовых арестов 1937—1938 годов. Только потом выяснилось, что за ним стоял – не выдавая себя и занимая позицию стороннего наблюдателя – Центральный комитет партии. Так что олимпийское спокойствие Токомбаева реально подкреплялось негласной поддержкой местной власти.
Выступали минимум человек двадцать, в их числе и признанные аксакалы литературы, такие как Т. Сыдыкбеков, Т. Уметалиев, представители более молодого поколения, – Т. Касымбеков, М. Борбугулов и другие. Держали речь учёные, критики, а также люди кино и театрального искусства.
Напряжение в зале достигло своего предела, когда основные ораторы исчерпали свои аргументы и следовало предоставить трибуну главному обвиняемому – Аалы Токомбаеву. Он просил дать ему возможность выступить. В зале сразу поднялся шум, – большинство слушать аксакала не желало. Особенно рьяно протестовал профессор М. Борбугулов, известный в стране литературовед и близкий товарищ Айтматова: мол, и без его слов всё ясно. Зал одобрительно загудел, и Токомбаеву высказаться не дали. Создавалось впечатление, что он и сам особо на трибуну не рвался, сказав лишь несколько слов с места в том смысле, что не сошёл с ума, чтобы выступить против «Манаса», за который отдал полжизни. Видя, что зал его не поддерживает, патриарх поднялся с места и пошёл к выходу.
Таким образом, победителем вышел Чингиз Айтматов – потому, главным образом, что его выступления в защиту позиций родного языка оказались созвучны нарастающей волне киргизского патриотизма.
Победителю этот успех только добавил популярности, побеждённый же сделался чуть ли не изгоем. Зазвучали выступления ряда литературоведов и критиков, утверждавших, что Токомбаев вовсе не был зачинателем национальной литературы, что таковыми следует считать, например, К. Тыныстанова и С. Карачева. Оказалось – по суждению критика А. Эркебаева – что его знаменитая ода «Время прихода Октября», считавшаяся образцом новейшей киргизской литературы, опубликованная в первом номере только что возникшей киргизской газеты «Эркин-Тоо» 7 ноября 1924 года, на самом деле была написана под сильным влиянием стихотворения «Сегодняшний день» Тыныстанова.
Но особенно агрессивно прозвучал «Ответ А. Токомбаеву», напечатанный в еженедельнике «Киргизстан маданияты». «Ответ» был построен на системе контраргументов по всем пунктам, по которым Токомбаев обвинял Айтматова, особенно в связи с геополитическим спором с соседним Китаем. В нём, в частности, говорилось: «Достаточно одного упоминания, промелькнувшего в устах одного из персонажей эпоса, слова о Китае (Кытай), причём упоминания в форме сомнительного предположения, сводящегося к тому, а не станет ли, мол, вдруг Китай оспаривать такие-то и такие земельные пределы, название которых представляет ныне интерес разве что с точки зрения этимологической расшифровки давно устаревшей туземной топонимики, как Токомбаев тут же делает неотразимый вывод о том, что эта мимолётная фраза из стародавнего сказания кочевников непременно, самым непосредственным и страшным образом повлияет на современные официальные межгосударственные устои. Осенённый такой уникальной детской догадкой, Токомбаев потрясает трибуны, предвещая чуть ли ни мировую войну в масштабах чуть ли не всего восточного полушария. Караул! Китай отхватит наши земли! Удивительно, что слушатели при этом ещё не падают со стульев от таких откровений уважаемого аксакала.
Но если уж всерьёз вдаваться в сие открытие, то, собственно о каком Китае идёт речь? Какой Китай, в какой его ипостаси имеется в виду Токомбаевым – этнический, родоплеменной, географический, государственный? Ведь “Китаев” в прошлом было много, ведь с тех пор Китай много раз возникал и распадался как конгломерат враждовавших империй; в таком случае, Китай какой династии, какой эпохи, какого императорского девиза, в какие времена? Понятие Китая для древности достаточно аморфное, поскольку в этом регионе эклектика множества племён и народностей способствовала возникновению самых различных феодальных образований, так же быстро появлявшихся на свет, как и исчезавших бесследно. Вместо беспочвенных нападок пусть вначале Токомбаев обнаружит и кодифицирует в “Манасе” именно тот Китай, который он имеет в виду, выдвигая свои “устрашающие” претензии. И тогда выяснится: тот ли это Китай, от которого нам необходимо таиться даже во сне. И наконец, в самом составе киргизского народа есть племенные самоназвания “Кытай”. Неужто Токомбаев всерьёз полагает, что только он один бдительный страж территорий, неусыпный провидец всех будущих бед?»
Естественно, у сторонников Токомбаева тоже нашлись свои аргументы и доводы. Сам же Токомбаев отреагировал так: «Так как же повернётся мой язык киргиза против родника, реки, океана, наконец, питающего, обогащающего меня. Мою благодарность русскому языку, который, хотя плохо знаю, некоторые преподносят как национальный нигилизм. Значит, захотели понять именно так и намеренно противопоставляют меня моему народу...»
Нужно подчеркнуть, что достаточно грубый, почти оскорбительный ответ Токомбаеву вызвал у многих людей протест. Например, А. Черёмушкину возмутил, прежде всего, тон: «Давайте допустим предельную крайность: Аалы Токомбаев – преступник, всё его творчество – плод нашей пропаганды, он будет лишён почётнейших званий Народного поэта и Героя Социалистического Труда, но и тогда позволительно ли культурным людям говорить в таком тоне не просто с пожилым, а с очень старым человеком?» И она приводила цитаты: «...Начнём с того, что в образе мышления А. Токомбаева, в его неизменно ЛЕВАЦКО-ПОГРОМНЫХ (выделения в цитатах мои. – А. Ч.) речах, с которыми он позволяет себе выступать публично. Токомбаеву и ЕМУ ПОДОБНЫМ надо отвыкать, наконец, от схоластических идейных обвинений эпоса и в этом ракурсе нападок. Вам бы, т. Токомбаев, сделать для культуры своего народа столько, сколько сделал Сагымбай Орозбаков. Всегда есть возможность осмыслить свои ошибки, пересмотреть свои, не подтвердившиеся взгляды, нежели до конца влачить жалкое и ничтожное бремя посягнувшего на непосягаемое».
Журналистка была права. Действительно, ответ Токомбаеву грешил грубостями и неаргументированными утверждениями. Его авторы явно не сумели совладать со своими эмоциями. Да и поставить заслуги Токомбаева под сомнение было не самым умным ходом, потому что вся страна знала классические тексты поэта наизусть, и никому даже в голову не могло прийти, что он выскочка и самозванец. Точно так же нелепо было заподозрить в Токомбаеве, столь много сделавшем в былые годы для подготовка эпоса к изданию, врага и оппонента «Манаса». Как и Айтматов, он всегда оставался самым решительным пропагандистом величайшего культурного наследия киргизов. Нет, двух крупных деятелей культуры стравливали намеренно, в литературу вмешалась большая политика, а такое ничем хорошим никогда на кончается.
Да, но откуда такое предположение, где доказательства того, что за этим диспутом стояли серьёзные силы? Их можно найти на страницах центральной прессы: в «Известиях» и «Комсомольской правде» печатались статьи журналистов Г. Шипитько и В. Романюк, уличавших «идейное двоедушие» Айтматова, его заигрывание с национальными чувствами народов. Битва двух киргизских грандов стала известной во всём Союзе, а слава Айтматова – защитника местных языков и культур – росла в стране не по дням, а по часам. В то время в Киргизстане он воспринимался чуть ли не живым Манасом.
Как свидетельствует очень близкий к Чингизу Торекуловичу человек, в конце 1980-х секретные службы вплотную подбирались к писателю и даже собирались его задержать, хотя что делать потом с «задержанным», им самим было, кажется, непонятно. Писатель в то время работал в Переделкине под Москвой, ни о чём не подозревая. Вдруг раздался телефонный звонок: близкий знакомый предупредил о предстоящем задержании, которое, вероятно, должны были осуществить с ведома самого Владимира Крючкова, тогдашнего главы КГБ СССР. Ошарашенному столь неожиданным известием писателю тот же доброжелатель посоветовал немедленно найти способ дозвониться до Горбачёва. Айтматову это удалось, и президент пресёк интриги. Хорошо было бы узнать обо всём поподробнее, а пока, в отсутствие достоверной информации, можно лишь предположить, что Михаил Сергеевич, видимо, разъяснил шефу КГБ, какого масштаба разразится политический скандал, если «возьмут» всемирно известного писателя.
Да, Айтматову было тогда нелегко. Он больше жил в Москве, чем в Бишкеке, потом его направили послом в крохотный Люксембург, а с распадом СССР писатель стал представлять суверенный Киргизстан в Брюсселе.
С того времени утекло немало воды. Наступила новая эпоха. Страсти тех лет давно улеглись. Время всё расставило по своим местам, появились новые проблемы с тем же «Манасом», но это уже другая история.
Сама же битва титанов, во многом подогревавшаяся извне, никак не уменьшила творческого веса, исторических заслуг и общенационального авторитета ни одного из этих великих людей. Хотя осадок остался.
Да и для обоих участников диспут даром не прошёл, стоил немало здоровья и нервов. Токомбаев вскоре скончался – этот затянувшийся жёсткий публичный спор всё-таки выбил его из колеи, расшатал здоровье, и столь уважаемый человек покинул сей мир в 1988 году.
Автору же «Джамили» пришлось оставить престижную должность председателя Союза писателей Киргизии и уехать в Москву в качестве главного редактора «Иностранной литературы». Считалось, что позиции Айтматова в Москве почти непоколебимы, но всё оказалось далеко не так. Тем временем политика перестройки захлебнулась в собственной пене, а Горбачёв неуклонно терял в авторитете.
Но история – поучительная и очень драматическая – осталась.
БОГ И ПОСТМОДЕРНИЗМ
В перестроечные годы постепенно начали вслух говорить о Боге, значении религии, душе. Десятилетиями третируемая и почти запрещённая тема вдруг стала вполне легальной, интеллектуально модной. Рассуждать о Боге, о необходимости покончить с атеизмом, особенно воинственным, постепенно стало признаком хорошего тона. Но помимо моды была и глубокая внутренняя потребность в изменении сознания, душевного настроя.
Творчество Чингиза Айтматова ярко свидетельствует об этом. В романе «И дольше века длится день» есть примечательный эпизод, когда Буранный Едигей, простой рабочий, воспитанный в духе советской атеистический пропаганды, хоронит старшего товарища Казангапа.
«Думалось ему о том, что никто здесь не знал молитву. Как же они друга будут хоронить? Какими словами заключат они уход человека в небытие? “Прощай, товарищ, будем помнить?” Или ещё какую-нибудь ерунду? Едигей вспоминал про себя полузабытые молитвы, чтобы выверить заведённый порядок слов, восстановить точнее в памяти последовательность мыслей, обращённых к Богу, ибо только он один, неведомый и незримый, мог примирить в сознании человеческом непримиримость начала и конца, жизни и смерти. Для того, наверное, и сочинялись молитвы. Ведь до Бога не докричишься, не спросишь его, зачем, мол, так устроил, чтобы рождаться и умирать. С тем и живёт человек с тех пор, как мир стоит, — не соглашаясь, примиряется».
Вот так айтматовские герои 1980-х интуитивно, путаясь на пути жизненном, приближались к Богу, пытались понять сокровенную тайну человеческого духа.
Таже тема вновь возникла в новом романе писателя с несколько апокалиптическим названием «Плаха» (1986 год), только теперь Айтматов, используя те же самые приёмы и сюжетные конструкции, что и первом своём романе, пытаясь связать воедино разрозненный, но взаимосвязанный мир людей, мир религий, чувств и страстей, охватить его единым художественным взглядом, ощутить тайные ритмы истории, разворачивает более широкое художественное полотно. Более зримо проявился айтматовский идейно-художественный «глобализм», о котором речь шла выше.
Идейно-проблемный замах киргизского писателя оказался поистине впечатляющим – Айтматов в полный голос заговорил о сущностных вопросах, таких как смысл человеческой жизни, вера в Бога, поиск счастья, история и человек в её контексте. В «Плахе» усилился айтматовский духовный эсхатологизм, вновь появилось предощущение некоего кризиса человечности, заката многих гуманистических ценностей, нравственности.
Новый роман по построению сюжета получился весьма причудливым, многослойным, организованным, как писал выдающийся филолог Сергей Аверинцев, по принципу коллажа. «Плаха», с её разношёрстной стилистикой, во многом похожей на газетно-журнальную, – это симптом, причём симптом, «отражающий общее состояние культуры». А критик и литературовед Владимир Лакшин своё читательское ощущение сравнил со спуском «с горы на горку». В то время все эти замечания прозвучали как достаточно нелицеприятная критика, и Чингиз Торекулович воспринял их весьма болезненно. Реакцию можно понять: стилистическая разношёрстность, коллаж – это не просчёт, а осознанный творческий принцип построения текста. Писатель был глубоко убеждён, что даже очень далеко отстоящие друг от друга явления внутренне сопряжены. Он говорил об этом в одном из интервью «Литературной газете». Иное дело, что не всегда удаётся достичь точности стиля, местами провисает композиция. Так что претензии критиков понять можно.
















Если роман «И дольше века длится день» является вершинным произведением так называемого евроазиатского экзистенциализма, то «Плаха» обозначила новый поворот в творчестве Айтматова, став, как показало время, предтечей нового явления в литературе уже постсоветского периода. В ней происходит смешение стилей и жанров, идейных и художественных воззрений, радикальный уход от всего предшествующего и одновременно возврат к лучшим традициям и обретениям былой литературы. Роман предстаёт некой «разбитой витриной», когда из старых осколков собирается новое целое. В этом плане показательна вставная новелла о волке Ташчайнаре и волчице Акбаре, которую Григорий Бакланов сразу назвал «классикой». Может быть, к тому не стремясь, писатель создал постмодернистский текст.
Что мы имеем в виду, говоря о литературном постмодернизме 1980-х и 1990-х годов? Корни этого явления уходят в то кризисное, переходное время, когда в культуре началась переоценка многих ценностей, а ощущение взаимной связанности мира в его многочисленных проблемах и новых вызовах стало всеобщим. На соцреалистические традиции накладывалась – во многом по принципу ассоциативно-культурной связи – модернистская эстетика; сюрреалистические приёмы и стили тесно соседствовали с фольклорными мотивами, а реализм – с фантасмагорией. Притчи и мифы, почерпнутые из богатейшего киргизского устного народного творчества, мировой мифологии, претендовали запечатлеть возникшую в перестроечные 1980-е и лихие 1990-е атмосферу больших надежд и тревог, всё острее ощущаемую социальную дисгармонию. Радостное ощущение свободы, даже эстетической «вседозволенности», ощущение вселенского хаоса и в то же время попытка этот хаос каким-то образом упорядочить, – вот что такое «Плаха». Трудно было бы найти во всей советской, не говоря уж о киргизской литературе, такого вызывающего и демонстративного смешения всего и вся, как в этом романе.
Временной диапазон произведения охватывает века и зоны – от Христа и Понтия Пилата до Авдия Каллистратова и Бостона, стилистика – от грузинской притчи о погибших солдатах до упомянутой новеллы о волках Акбаре и Ташчайнаре.
Христос и Антихрист, стремление преодолеть цивилизационное и религиозно-культурное разобщение мира, поиск единого духовного корня, какого-то нового пантеизма, представление человека эманацией божественного начала, общий трагический контекст, тема Судного дня придали книге Айтматова необычный масштаб. Автор романа выступил подлинно имперским писателем, жаждущим объять необъятное, одержимым космическими идеями и тревогами.
В романе оказались тесно сплетены художественное и публицистическое начала. Особенно впечатляют поистине эпические описания жизни бесконечных казахских саванн.
Слова «нескончаемый», «незапамятный», «неутомимый», «круговорот», «извечный», «великий», «потоп» звучат чуть ли не как рефрен. «...Люди охотились на сайгаков Моюнкумской саванны. В том утраченном мире, в далёкой Моюнкумской саванне, протекала великая охотничья жизнь – в нескончаемой погоне по нескончаемым моюнкумским просторам за нескончаемыми сайгачьими стадами. Когда антилопы-сайгаки, обитавшие с незапамятных времён в саванных степях, с вечно сухостойным саксаульником, древнейшие, как само время, из парнокопытных, когда эти неутомимые в беге горбоносые стадные животные с широченными ноздрями-трубами, пропускающими воздух через лёгкие с такой же энергией, как киты сквозь ус — потоки океана, и потому наделённые способностью бежать без передышки с восхода и до заката солнца, — так вот, когда они приходили в движение, преследуемые извечными и неразлучными с ними волками, когда одно спугнутое стадо увлекало в панике соседнее, а то и другое и третье, и когда в это поголовное бегство включались встречные великие и малые стада, когда мчались сайгаки по Моюнкумам – по взгорьям, по равнинам, по пескам, как обрушившийся на землю потоп, земля убегала вспять и гудела под ногами так, как гудит она под градовым ливнем в летнюю пору, и воздух наполнялся вихрящимся духом движения, кремнистой пылью и искрами, летящими из-под копыт, запахом стадного пота, запахом безумного состязания не на жизнь, а на смерть, и волки, пластаясь на бегу, шли следом и рядом, пытаясь направить стада сайгаков в свои волчьи засады, где ждали их среди саксаула матёрые резчики – то звери, которые бросались из засады на загривок стремительно пробегающей жертвы и, катясь кубарем вместе с ней, успевали перекусить горло, пустить кровь и снова кинуться в погоню; но сайгаки каким-то образом распознавали, где ждут их волчьи засады, и успевали пронестись стороной, а облава с нового круга возобновлялась с ещё большей яростью и скоростью, и все они, гонимые и преследующие, – одно звено жестокого бытия — выкладывались в беге, как предсмертной агонии, сжигая свою кровь, чтобы жить и чтобы выжить, и разве что только сам бог мог остановить и тех, и других, гонимых и гонителей, ибо речь шла о жизни и смерти жаждущих здравствовать тварей, ибо те волки, что не выдерживали такого бешеного темпа, те, что не родились состязаться в борьбе за существование – в беге-борьбе – те волки валились с ног и оставались издыхать в пыли, поднятой удаляющейся, как буря, погоней, а если и оставались в живых, уходили прочь в другие края, где промышляли разбоем в безобидных овечьих отарах, которые даже не пытались спасаться бегством, правда, там была своя опасность, самая страшная из всех опасностей, — там, при стадах, находились люди, боги овец и они же овечьи рабы, те, что сами живут, но не дают выживать другим, особенно тем, кто не зависит от них, а волен быть свободным...»[39]39
Айтматов Ч. И дольше века длится день. Плаха. Пегий пёс, бегущий берегом моря. Фрунзе: Киргизстан, 1988. С. 290-291.
[Закрыть]
Таков теперь был айтматовский стиль, в чём-то напоминавший стиль Фолкнера периода «Шума и ярости». Таким предстал у писателя мир, который он увидел текучим и неостановимым, эклектически-многослойным, кричаще разнообразным и противоречивым, но всё же единым в своей гуманистической сути. Необычен и внутренний ритм романа, – то созерцательно-философский, то вихреобразный, то нежно-лирический, в духе раннего Айтматова. И лежит на этом мире печать обречённости, фатализма, вечной круговерти, хаоса и безостановочного движения.
Но, может быть, именно в этом и состоит полнота, красота жизни? По художественной логике «Плахи» получается, что нет. Автору-творцу хотелось бы гармонии и некоего вечного жизнеутверждающего порядка, ясности гуманистического смысла. Так ведь нет его. Отсюда и вселенская грусть, трагизм мироощущения. А в последнем, предсмертном романе «Когда падают горы (Вечная невеста)» он только усилился. То были словно бы поминки по утраченным иллюзиям и разбитым надеждам, некий прустовский поиск утраченного времени. Но об этом дальше.