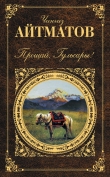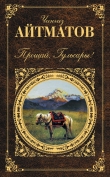Текст книги "Чингиз Айтматов"
Автор книги: Осмонакун Ибраимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
КРЕСТ И ПЛАХА
Айтматов как последний писатель империи
В этой книге неоднократно подчёркивалось, что Чингиз Айтматов как писатель, как гражданин и личность – детище советской эпохи. Да, он её любил, но и жёстко критиковал. Потому что было за что хвалить, чем гордиться, быть глубоко благодарным, но и за что ругать. Но развал СССР как единого государства оказался выше – или хуже – всех его ожиданий и видений. И он стал живым свидетелем, если не соучастником этого грандиозного распада. Нельзя сказать, что он воспринимался писателем как личная трагедия, но издержки этого процесса именно для него были очень чувствительными, если не сказать болезненными – он потерял свою огромную читательскую аудиторию, или, как минимум, она стала намного отдалённее и отчуждённее, чем прежде.
Первые пять лет он был полон скепсиса, разочарования, сомнений. Эти новые государства ему показались не очень удачными политическими игрищами, плохо срежисированными спектаклями. Новые выражения типа «ближнее зарубежье», «дальнее зарубежье» и особенно СНГ – Содружество Независимых Государств вместо СССР – резали его слух. И почти ничего, что творилось в этих новых государствах, не приводило в восторг. Его суждения об историческом процессе, о прогрессе в обществе в сознании людей стали ещё более пессимистичными. Да и прийти к другому умозаключению не было причин – всюду торжествовал эгоизм – и человеческий, и национальный; расцветала клептомания, везде ощущалась наступившая духовная деградация и потеря всяческих нравственных ориентиров. Рушились прежние устоявшиеся представления о жизни и мире; как бы падали поднебесные горы, прежде казавшиеся такими незыблемыми и вечными. И он не мог не чувствовать, что отныне весь в этом уходящем прошлом. В советском прошлом. Айтматов 1990-х воспринимался как человек другой эпохи, уходящей истории. Во вновь зарождающемся мире и обществе он предстал как живой экспонат истории, памятник во плоти. Думается, тогда он ещё раз понял, что это его Крест, его судьба и Плаха.
Став депутатом нового киргизского парламента, он не смог проявить ни активности, ни внести какую-либо новизну в его работу. Когда второй раз проводились выборы, он мудро отказался быть членом этого представительского органа. И надолго осел, с помощью и поддержкой Аскара Акаева, первого президента суверенного Киргизстана, в Европе.
Как показала жизнь, он после развала Союза долго не мог взяться за сколько-нибудь крупное произведение, а дописывать то, что он когда-то начинал, ему уже не хотелось. Новое не рождалось. Его голос публициста почти потух. И по самой естественной логике вещей он стал аксакалом, ветераном культуры и политики, крупным историческим персонажем. То есть человеком, который был весьма значимым, но теперь остался без прежнего поприща.
Я вспоминаю, как в начале бурных 1990-х он открыто говорил и сетовал, что век книги, век литературы закончился. Признаться, и я в определённой мере разделял его взгляды, хотя был убеждён в том, что в данном контексте Айтматов всё равно некоторое исключение, без него киргизам в любом исходе не обойтись, без его книг ни воспитать детей, ни построить новую культуру. Что и получилось.
Таким образом, гибель СССР, крах огромной евразийской империи, которая и вынесла Айтматова на своих мощных крыльях на широчайшие мировые просторы, писатель переживал очень болезненно, о чём так эмоционально и с чувством безысходности потом написал в своём прощальном романе «Когда падают горы (Вечная невеста)». Хорошо было бы именно его назвать «Плахой», хотя такое заглавие предпослано одноимённому роману писателя 1986 года.
Почему? Потому что ценности поменялись, привычный мир вещей и понятий изменился, изменились и люди, а новая эпоха фактически приготовила для своих же детей, особенно для представителей советской интеллигенции, лобное место, некую плаху, нравственный эшафот. Прежний огромный и бескрайний мир, в котором они столь свободно и вольготно себя чувствовали, сузился до размера небольшой республики, на карте очень похожей на осколок чего-то цельного и крепкого. А пришедшая с новыми режимами рыночная система, проще говоря, капитализм, не была их системой, более того, она была им глубоко чужда, о чём с такой тревогой, даже обречённостью написано в вышеназванном айтматовском прощальном романе.
В переживаниях Чингиза Торекуловича постсоветских лет не было ничего субъективно-эмоционального. Речь шла куда о более серьёзных материях и ценностях. Для него, как и для миллионов людей и внутри страны, и за её пределами, распад СССР означал крушение очень многих социальных, политических и духовных иллюзий и надежд. Это была не самая лучшая система в мире, но она очень многое успела сделать опять же во благо людей, их личностного развития, социальных устремлений. Вот только научно-культурная элита страны 1980-х захотела иной судьбы и иного образа жизни. Она была глубоко убеждена в благотворности западного, рыночного пути, который привёл бы к «храму», если вспомнить символические слова из знаменитого фильма Т. Абуладзе «Покаяние».
И всё же с Чингизом Торекуловичем дело обстояло куда серьёзнее и сложнее. Разделяя ценности либерализма и демократии, он в то же время являлся типичным советским писателем. По масштабам мышления и художественных обобщений он был писателем империи. И когда её в конце концов не стало, он собрался с мыслями и решил написать роман-плач, роман-эпитафию, где падение советской державы показано как некий апокалипсис, воплощение злого рока, всемирная и личная трагедия. Мне кажется, что драма Айтматова-человека и писателя состояла в том, что он так и не принял новое общество, за которое как бы ратовал, не смог порвать со своим советским прошлым. Историческая, мировоззренческая амбивалентность стала его личной и общественной судьбой. Она началась ещё в детские годы, а продолжалась вплоть до его кончины. Примирить эту духовную разорванность и преодолеть многолетний морально-этический, философский дуализм ему было не суждено. Кажется мне, что этот исторический дуализм и сейчас не удаётся преодолеть многим и многим людям, жившим в Советском Союзе, выжившим в новых условиях, но так и не принявшим его моральные ценности и поведенческие стереотипы.
Автор «Плахи» никогда прежде не вводил в структуру своих художественных творений образы политиков, но для Горбачёва он сделал своеобразное исключение: в романе «Когда падают горы (Вечная невеста)» Айтматов упоминает Михаила Сергеевича, с которым Арсен Саманчин, главный герой романа, журналист и киносценарист, состоял в якобы дружеских отношениях и «летал в одной стае перестройщиков».
Примечательно, что вопреки желанию автора писать обо всём как бы остранённо, текст получился достаточно личным. Введя в роман имя Горбачёва, Айтматов косвенно указал и на себя как на активного участника перестроечных процессов. Увы! Ни политика, в которую он окунулся с головой с надеждой на лучшее, ни перемены, обещавшие много важного и интересного, не принесли удовлетворения и не наполнили жизнь новым смыслом. В конце концов Арсен трагически гибнет.
Это было достаточно странное, даже спорное художественное решение. Почему герой должен был погибнуть? Почему писатель для героя, воспринимаемого как своего двойника, не смог предложить иную судьбу, кроме смерти и падения? Между тем мы, его читатели, хорошо помним: Дюйшен, первый учитель, всё-таки не погиб, несмотря на неимоверные трудности, не сгинул и Танабай Бакасов, то же самое произошло с Едигеем, даже с верблюдом Каранаром и волком Ташчайнаром. Но Арсен погиб. Лёг на свою плаху. Что это значило для писателя, что он хотел этим сказать – вопрос. Может, хотел показать, что для человека исчезнувшей цивилизации, канувшей в Лету исторической эпохи смерть лучшая и естественная доля? Может быть, это именно та экзистенциальная дилемма, которая никогда не отпускала Айтматова-писателя и которая таким образом себя обозначила.
...Молва приписывает Владимиру Путину слова о том, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, не имеют сердца, а кто хочет его вернуть – головы. Эти слова очень глубокие и правильные, хотя трудно согласиться, с тем, что крушение СССР – величайшая катастрофа XX века. Конечно, это не так. Величайшей катастрофой минувшего столетия были две мировые войны, особенно вторая, когда погибло более 50 миллионов людей, превратились в руины десятки городов и сотни населённых пунктов. Что касается крушения советской империи, то оно ничем не отличалось от постепенного заката, а потом и развала всех известных нам империй. Так канула в Лету Оттоманская империя, до неё – империя монголов, в XX веке – британская. Стремление к свободе и национальной независимости – желание извечное, неистребимое, фундаментальное. Поэтому распад Союза был исторически неизбежен, как неизбежны и последовавшие за ним процессы. Прав был ещё Никита Хрущев, в одном частном разговоре обронивший мысль о том, что в Советском Союзе построили не совсем социализм, «а вот настоящий социализм тот, который у себя построили шведы».
Чингиз Торекулович не громко, но всё же жалея о распаде Союза, постепенно пришёл к пониманию того, что события конца 1980-х – начала 1990-х были вовсе не результат горбачёвской политики перестройки и гласности. Нет, это был, как ни странно звучит, логический итог всех предшествующих десятилетий. Союз проводил колоссальную работу по образованию малых и больших народов страны в течение семидесяти лет, но итогом стало общее желание попробовать пожить самостоятельно. Фигурально выражаясь, дети в семье повзрослели, им дали всё необходимое для самостоятельной жизни и они решили отселиться.
Словом, Чингиз Айтматов последних лет жизни был тем писателем, у которого отняли все темы. Нет, перо и письменный стол у него остались, но он был в своём роде выброшенным на берег пушкинским певцом. Он был тем, кто мог сказать о себе:
...Вдруг лоно волн
Измял с налёту вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.
Айтматов и вправду не знал, как себя вести, что сказать или о чём писать. С одной стороны он, как писатель и общественный деятель эпохи перестройки, никогда не жалел красок и всегда находил соответствующие метафоры и образы, чтобы вскрыть язвы советского общества, но отнюдь не принадлежал к числу тех, кто мечтал о крахе страны или содействовал ему. Однако что получилось в результате вполне благоразумных перестроечных процессов, он увидел своими глазами.
Строительство нового киргизского государства, в возможности существования которого он очень серьёзно сомневался в первые несколько лет, оказалось очень трудной задачей. Люди долго не могли порвать с прошлым, со старыми привычками и стереотипами, а новое приживалось крайне болезненно. Теперь всё кажется далёким, страсти и нешуточные коллизии тех лет лишились былой остроты и драматизма, но метаморфозы «лихих 1990-х» не могли не поражать воображение.
Как известно, любая история – не мостовая Невского проспекта, и история независимости Киргизстана – не исключение. Было тут всё. И массовая бедность, и коррупция, и государственные перевороты. Чингиз Айтматов всё это видел собственными глазами. Но пережито было то, что называется большой историей, которую не удастся ни улучшить, ни поправить, ни тем более переписать. Приходится принять её такой, какая она есть, извлекая, конечно, уроки, проявляя здоровый критицизм и в то же время не забывая, что обретение независимости стало для соотечественников Чингиза Торекуловича очень трудным испытанием.
А он видел, как вчерашние первые лица республик эволюционируют в новых условиях, переживая самые поразительные превращения – от средневековых диктаторов до воров и коррупционеров, каких столетия не видали... Чего стоит один только феномен Сапармурада Туркменбаши. Туркмены избавились от него только благодаря всевышнему. Лицемерные и двоедушные вчерашние руководители Центральной Азии, сегодня уже «лидеры наций», «отцы народов» (всё-таки подсознательный архетип прошлого нашёл себе реальное воплощение), убеждённые в своей непререкаемости и «величии», навряд ли отдадут единоличную власть добровольно, разве что в иной мир перейдут.
Как реагировала на всё это литература? Если иметь в виду киргизскую, то она долго не могла отойти от постперестроечного шока. Как и Айтматов, абсолютное большинство писателей оказались неготовыми к художественному обобщению и осмыслению происходящего. Все были настороже. «Ассенизаторов и водовозов» государственной независимости из числа писателей и поэтов не нашлось. Многим вообще трудно было сориентироваться в складывавшейся ситуации, понять смысл и значение изменений. Но в одном все или почти все оказались едины – в нежелании примириться с тем, что печатать книги за государственный счёт и получать за это соответствующее вознаграждение больше не получится. Новая система не дотировала издания, тем более не платила деньги за литературное творчество из казны. И этого не получилось бы в любом случае, потому что страна погрузилась в глубокий экономический кризис.
Журналы и газеты перестали выходить или выходили намного реже, с перебоями. Многие писатели вообще оставили литературное творчество, поскольку зарабатывать на нём уже не было возможности. В результате оказался подорванным весь литературный процесс, почти исчезла со страниц газет литературная критика, перестали защищаться диссертации по литературоведению. Научная деятельность филологов начала оживать только после открытия новых университетов.
В таком контексте весьма знаменательным стало появление нового романа Айтматова «Когда падают горы (Вечная невеста)». Это само по себе оказалось доброй приметой, хорошим знаком, означавшим оживление литературы. Роман значил собой как бы первый подступ к освоению нового жизненного материала, о котором многие воздерживались писать. И первым абзацем стало рассуждение писателя о судьбе как о свыше предписанном испытании. Но об этом в следующей главе.
ТЕНЬ КАССАНДРЫ
Последние дни патриарха
Учёные утверждают, что у динозавров, несмотря на гигантские размеры, выживаемость оказалась почти ничтожной в условиях изменившегося климата Земли. То же самое произошло и с огромными мамонтами, парадоксально отличавшимися достаточно хрупким здоровьем. Их убило как биологический вид прежде всего наступление холода, начало ледникового периода. А священная весна, вдохновившая, кстати, на создание одноимённого балета Игоря Стравинского, великого реформатора музыки XX века, наступила много тысячелетий после. Но это уже была весна без гигантов; в саваннах и тропических джунглях охотились на меньших своих собратьев юркие вараны, аллигаторы, не умолкали разноголосые суслики и бесчисленные пернатые... А вокруг простиралась воистину сюрреалистическая картина: белеющие под палящим солнцем огромные скелеты, загадочные несоразмерные кости и люди, пытающиеся познать непознаваемое...
Нечто подобное можно наблюдать и в человеческом обществе. Изменившийся климат в привычной среде, понижение общей духовно-нравственной температуры, как показывает жизнь, вернее всего губят именно гигантов духа, но не многочисленных перевёртышей, обладающих высокой степенью адаптивности. Так наступает почти неотвратимый конец целой эпохи.
При втором президенте Киргизстана Курманбеке Бакиеве людям культуры стало тесно и неуютно. Новая власть решила, что все эти гиганты – люди Аскара Акаева, стоявшего у истоков суверенной государственности Киргизстана и ставшего её лицом в мире.
Все думали, что Чингиз Торекулович живёт в благополучной Бельгии припеваючи, греясь в лучах собственной славы, открестившись от реальных проблем страны и наслаждаясь закатным солнцем счастливой старости. Грешен, порой и я думал примерно так же. Да Айтматов и вёл себя соответственно: всё время шутил, смеялся, казался чуть ли не воплощением внутренней гармонии. И мало кто мог догадаться о преследовавших его болезненных переживаниях, порой отнюдь не планетарного, а сугубо личного свойства. Прав был Евтушенко, сказавший сразу после кончины Айтматова, что он «жил очень тяжёлой жизнью». Но упаси меня Бог пытаться заглянуть в интимные сферы, хотя в течение многих лет мы были с Чингизом-ага близко знакомы. Иное дело – подумать о том, что ускорило его внезапный уход, перечитать книги писателя, особенно роман «Когда падают горы».
...Мне посчастливилось быть едва ли не самым первым его читателем – ещё в журнальном варианте, который я «проглотил» буквально залпом. Потом перечитывал некоторые места, пытался глубже проникнуть в суть произведения, уловить его истоки. Заинтриговало уже само двойное название «Когда падают горы» и тут же в скобках – «Вечная невеста».
Впечатление как было, так и осталось глубоким, даже шокирующим. Только шокировала не литература, не текст, а тот трагический контекст, та обволакивающая и всепроникающая грусть, которой веет от книги. Я тогда гнал от себя мысль, что это последняя книга писателя, но не мог не чувствовать, что он предсказывает собственный конец, почти прощается с читателями. Роман как художественный текст получился достаточно сырым и до конца не проработанным. А ведь, казалось бы, само имя обязывало. Но как документ времени, как исповедь великого человека, обманутого историей, лишённого полноценной, полнокровной жизни, – это вещь потрясающая. Я долго не решался набрать номер телефона и поделиться своими впечатлениями с автором – уж больно двойственными они оказались. И вдруг он позвонил сам... Я растерялся. Не мог же сказать, зачем вы, мол, так прозрачно намекнули на собственную смерть. Ограничился общими словами, что задумка очень серьёзная, что уже третий день стараюсь привести в порядок мысли...
Арсен Саманчин, главный герой романа, получился неким литературным двойником Айтматова, что не скрывал и сам автор. Да и гадать не приходилось – никто в Киргизстане, кроме Айтматова, не дружил с Горбачёвым.
Героя уничтожила, буквально искромсала эпоха – жестокая и сокрушительная, с её социально-политическими цунами и страстью к деньгам и богатству. Не пощадила и жизнь – ушла к бизнесмену любимая женщина, ушли слава, признание, всё то, что его окружало в Его время, в Его эпоху. В такой ситуации уход из жизни был предрешённым, смерть – логичной и неизбежной. И Арсен ушёл... Обманутый, оскорблённый, покинутый, он ушёл за своей эпохой, канувшей в Лету.
Сюжет романа постоянно петляет, насыщаясь многообразными параллелями. Особенно впечатляет вставная повесть о Жаабарсе и его любимой самке, покинувшей его, уже старого и немощного, и ушедшей к молодому, любвеобильному самцу. Впервые Айтматов как писатель позволил себе такую меру натурализма, как в этом романе, ведь любовь всегда оставалась у него сферой сакральной и жизнетворящей.
И мы услышали этот шум, этот грохот падающих гор – шум и ярость, какие возникают при тектоническом сдвиге времён, увлекающих за собою в пропасть преданного всеми человека.
Первая, но вполне ощутимая встреча с судьбой, с возможным концом жизни у Айтматова случилась в 2004 году, когда он пережил первый инфаркт. Ситуация была крайне серьёзной, мы все были напуганы и ошарашены, ведь сердце дало сбой на фоне давнего диабета и высокого давления. Опорой и поддержкой были жена Мария Урматовна, младшие дети, талантливые и добрые, как сам Чингиз Торекулович. А буквально спас его академик Мирсаид Миррахимов, без преувеличения лучший врач страны, друг Айтматова.
Вёл он себя в те дни на редкость достойно и мужественно. Никакой паники, никаких жалоб, тем более суеты. Даже при тускловатом освещении больничной палаты лицо его казалось просветлённым и лучезарным, но, самое главное, он был почти весел и бодр духом. Словом, Айтматов оказался действительно олимпийцем. Уходя от него, я поймал себя на мысли, что к возможному концу жизни он относится абсолютно спокойно, даже с некой радостью. Он прекрасно осознавал, что жил не зря и своё земное дело выполнил с лихвой. Знал и то, что его посмертная жизнь окажется не менее славной и интересной. Его уже ничто не беспокоило, он готов был встретить смерть, не только не боясь, но посмеиваясь над её пустой попыткой остановить неостановимое...
И всё же напрасно его отозвали из Европы и вынудили, едва ли не унижаясь, просить должности советника ректора в Киргизско-турецком университете Бишкека. Он бы там спокойно дожил свои дни. Мне уже приходилось отмечать, что по своей культурной организации, по природе своих духовных пристрастий и привязанностей Чингиз Айтматов был европейцем.
Здоровье его для человека, доживавшего седьмой десяток жизни было совсем недурно. И выглядел он хорошо – свои, не вставные зубы, статная, лишь с незаметной горбинкой фигура, гладкая, без старческих морщин кожа. Но всё-таки о смерти, о возможности неожиданного конца он заговаривал всё чаще.
Не думаю, что он боялся смерти, страшился её неотвратимости, как, например, Гоголь, или считал её основным вопросом бытия и философии, как Альбер Камю. Айтматов всегда ощущал её дыхание, близкое соседство и безусловную власть; был убеждён, что она может наступить в любую минуту, встреча с ней может случиться за первым же углом. И смерть действительно настигла его внезапно, будто выскочила из-за угла, подмигивая хитро и заманивая в иной мир, говоря «Пора уже!», как чёрт у Фауста, как бесы у Пушкина, демон у Лермонтова.
Вспоминается один эпизод, которому я стал свидетелем. Дело было во время очередного митинга-реквиема близ исторического мемориала «Ата Бейит», где я затеял, приурочив это к 2200-летию Киргизской государственности, установку огромного Колокола памяти рядом с братским кладбищем. Колокол получился очень красивым, хотя, к большому сожалению, не столь звонким, как того хотелось, – у местных инженеров немного не хватило опыта изготовления такого весьма специфического изделия. Но всё уладилось благодаря настоятелю Бишкекской православной церкви, который передал нам два небольших колокола, и «Реквием» Моцарта в исполнении симфонического оркестра под управлением маэстро Асанхана Джумахматова на фоне звона колоколов произвёл поистине неизгладимое впечатление. Замечателен был и хор Национального радио. И вот я увидел, что Чингиз Торекулович крайне взволнован и никак не может отойти от места, где установлен Колокол памяти. А президент Акаев, всё руководство уже стояли у микрофона, и нужно было начинать митинг, на котором должен был выступить и Айтматов. Я подошёл к нему. А он всё не трогался с места, о чём-то глубоко задумавшись. Только обмолвился, что колокол ему очень понравился. Услышать это было, не скрою, весьма приятно.
Всё было торжественно и в то же время печально. Столько выдающихся людей, и все они в одной братской могиле... Тут и К. Тыныстанов, и Б. Исакеев, и А. Сыдыков, и многие другие, в их числе – Торекул Айтматов, которого сын всю жизнь боготворил, ждал, тосковал, искал место его захоронения и вот, наконец, нашёл. «Мы, дети Айтматова, – сказал он в своём выступлении, – рады, что он найден, что он нашёл место своего вечного упокоения в таком прекрасном, священном месте... Я хочу сказать, что отец наш оказался всё-таки счастливым человеком...» Меня поразили эти слова: красивое место, где похоронен любимый отец. И который, должно быть, стал счастливым человеком, ибо нашёл вечный свой покой в таком удивительном месте, откуда всё видно. Так в чём же счастье?
И когда Чингиз Торекулович сам ушёл в мир иной, оборвав свой земной путь, стало известно, что он завещал быть похороненным именно в Ата-Бейитском мемориале, причём точно на том месте, где тогда стоял со своими глубокими и тяжёлыми думами – возле колокола, там, где раскинулась небольшая полянка и росла пушистая молодая ель.
На следующий день после похорон рано поутру я специально съездил на его могилу, совершил обычную мусульманскую молитву и внимательно осмотрелся. Мне стало, наконец, ясно, почему именно здесь пожелал остаться уже навсегда Чингиз Айтматов.
Вокруг стояла особая, торжественная тишина... Всё было видно, как на ладони. Виден был и Бишкек, любимый город Айтматова. Город его фантастического взлёта, его любви, его друзей, его высоких дум. А рядом с его могилой лежал любимый отец. Ему действительно было здесь так уютно, так спокойно... А Колокол памяти, установленный возле могилы, как бы символизировал то, о чём он – великий сын земли киргизской, наша гордость и национальная слава, гражданин мира и вечный сирота – предупреждал всех – и нас, грешных, и весь цивилизованный мир.
Кончина Чингиза Айтматова по сей день остаётся очень туманной и загадочной, если не сказать подозрительной. Примечательно, что так же думают в Астане, где он ночевал накануне вылета в Казань и выглядел совершенно здоровым и бодрым, и, разумеется, в Татарстане, на родине его предков по материнской линии. Прошло несколько лет, но споры вокруг кончины великого писателя не утихают, появляются всё новые догадки и версии. Забегая вперёд, всё же отмечу, что болезнь Айтматова в Казани была действительно до странности скоротечной, внезапной, словно его сразил меч Кассандры. По воспоминаниям младшего сына писателя Эльдара, отец неважно себя почувствовал, потом быстро потерял сознание, впал в кому и так и не пришёл в себя.
Как гласило заключение консилиума татарских врачей, у него отказали обе почки, произошла полная дисфункция печени, случилась двусторонняя пневмония лёгких и организм поразил жесточайший септический шок. То есть одномоментно отказало всё. Чингиз Торекулович и слова не успел сказать своим близким, которых, впрочем, к нему и не подпустили. Не стали даже, как вспоминает Мария Урматовна Айтматова, спрашивать, куда его отправить: сразу перенесли в бессознательном состоянии в легкофюзеляжный самолёт, взявший курс не на Москву, а почему-то на Нюрнберг.
С другой стороны, Николай Анастасьев, известный литературовед и друг Чингиза Торекуловича, свидетельствует, что буквально за день до внезапной смерти писатель по телефону разговаривал с Владимиром Фёдоровичем Огневым, которого он считал своим старшим товарищем и единомышленником, и передавал, что дело вроде идёт на поправку.
Но самое поразительное то, что он, повторю, свою роковую судьбу как бы предчувствовал, косвенно описав в последнем романе, вышедшем всего за полгода до его внезапной кончины.
В нём Айтматов простился и со страной своей, и с веком, который так или иначе оставил свой глубокий отпечаток на судьбе, на его знаменитых произведениях. Это была его лебединая песня, прощальное слово, пусть и небезупречное художественно.
Автор поставил перед своим героем сложнейшую дилемму – жить или не жить, быть или не быть? И тот нелепо погиб от случайной пули. Звучит парадоксально, но пуля эта была для Саманчина желанной, а физическая смерть – неизбежной. Параллели всегда очень рискованны, и всё же я оглянусь на роман Кафки «Процесс», где герой умирает почти так же, как Арсен Саманчин в романе Айтматова. Жизнь его утрачивает всякое содержание, а смерть становится спасением от этой экзистенциальной бессмыслицы, и когда конвоир добивает несчастного, он испытывает едва ли не чувство благодарности. Конечно, между мирами и героями Кафки и Айтматова лежат огромные культурные пространства, различные жизненные опыты и взгляды. То же самое можно сказать и о Хемингуэе, о Камю, с которыми исследователи любят сравнивать Айтматова. Но существует и безусловная общность. Это – ощущение кризиса базовых человеческих ценностей, смыслоутраты, общность в понимании сути человеческой борьбы за себя, за идеалы, за жизнь, наконец. История XX столетия не одного только Айтматова заставила, по его же словам, «плача на коленях, восставать во гневе», жить в бесконечной надежде и в то же время испытывать жестокие сомнения в самых существенных гуманистических ценностях. Для героев Хемингуэя важно было «не сдаться», не согнуться, поэтому они боролись, и нередко предпочитали – как, впрочем, и сам писатель – моральной капитуляции смерть. Камю же видел в жизни человека XX столетия истинное благородство в борьбе, но испытывал и экзистенциальное отчаяние перед неразрешимыми вопросами бытия и истории, объявив в итоге, что основной вопрос философии – это самоубийство.
А айтматовская философская дилемма, как мне кажется, несколько иного плана. Это вопрос прежде всего этического спасения человека, спасения в человеке человека, глубокая вера в него, и в то же время отчаяние от того, что человек не способен подняться выше истории, преодолеть фатум, «изнасиловать судьбу», как однажды выразился тот же Хемингуэй. Поэтому история для Айтматова – это некий демиург, это тяжёлый Крест и, одновременно, Плаха, великое благо и сущий Ад; история – это неуправляемая, движимая толпой и её узкокорыстными манипуляторами стихия, которая до небес возвышает человека, но порой и до неузнаваемости его деформирует.
...Айтматов завещания не оставил, но оставил свои книги и ушёл из жизни так, как уходят таинственные странники. О многом хотелось бы у него спросить, но, увы, не спросили, да он бы и не ответил. Но то, о чём думал художник, во что верил, что отстаивал в своих произведениях и публичных выступлениях, и есть, думается, его завещание.
В последнем своём романе он, кажется, пророчески предвидел не только собственный уход, но и близкую судьбу Киргизстана, внушавшую ему, без видимых, казалось, на то причин глубокую тревогу. Он пророчески, задолго до того, как прозвучали они в реальной жизни в 2010-м, описал эти выстрелы, убийства, предугадал террор, власть тьмы и взбесившихся политизированных люмпенов. Роман получился грустным повествованием о том, как разрушилась гора, как не сбылась мечта. Осталась только вечная невеста – свет его очей, закатные грёзы неостывшей души, последняя спасительная соломинка...
Так завершил Чингиз Айтматов свою земную жизнь. Так закончил свой путь последний писатель империи, философ и гуманист, певец и глубокий печальник ушедшей эпохи.
Он ушёл. Эта весть настолько сильно потрясла нас, киргизов, что только теперь мы по-настоящему понимаем, кем он был на самом деле и как сильно мы его любили. Только теперь все с горечью понимают, как трудно, как пустынно и сиротливо стало без него.
Когда Айтматова не стало, кто-то очень хорошо сказал, что киргизы похоронили целую эпоху и едва ли не самого выдающегося своего соотечественника. В этом не было преувеличения. Ушёл последний трубадур, заблудившийся во времени, воспевший любовь, очарованный красотой сущего. И погрузившийся в глубокую печаль, порождённую осознанием трагических несовершенств сынов человеческих.