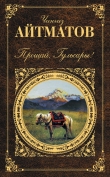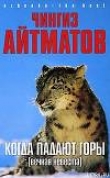Текст книги "Чингиз Айтматов"
Автор книги: Осмонакун Ибраимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
АЙТМАТОВ КАК «ШЕСТИДЕСЯТНИК»
Жизнь Айтматова в 1960-е годы – это без преувеличения жизнь звезды. Ленинская премия, после неё новое признание в виде Государственной премии СССР за «Прощай, Гульсары!» (1968 год) ещё более упрочили его положение одного из самых популярных и авторитетных писателей всего Союза. Его писательская слава очень быстро пересекла границы СССР, о нём заговорили в Европе, особенно во Франции, затем в Германии. Интерес к нему как к писателю подогревался ещё тем, что он представлял советскую Азию, о которой всё ещё очень мало знали за рубежом. Айтматов писал о жизни огромного региона, который всё ещё оставался на Западе terra incognita, с мусульманским по преимуществу населением, малоизученной культурой и т. д.
А Чингиз тех лет и сам по себе был своеобразной экзотикой: не по-азиатски рослый, с крупной лепкой черепа, по-своему красивый и киногеничный молодой мужчина. Очень приятный голос, большие тёмные глаза, выделяющиеся на фоне матово-светлой кожи лица, чёрные, как смола, вьющиеся волосы – словом, и впрямь актёрская внешность. К слову, кинематографу Айтматов был далеко не чужд – он писал сценарии по собственным повестям; они становились основой для театральных спектаклей, а также музыкальных произведений, некоторые из которых, например, балет Владимира Власова «Асель», поставленный сначала в Большом, а затем во Фрунзенском театре оперы и балета, приобрели широкую известность. Но главными, естественно, оставались книги. На полках магазинов они не залёживались. Чингиз Айтматов стал целым явлением, явлением в Киргизии знаковым – и тут уместно вспомнить слова Олжаса Сулейменова о ренессансной личности.
Помимо всего прочего, автор «Джамили» стал как бы мостом между культурами, а его страсть публициста (а также, возможно, генетическая память об отце-политике) подталкивала его к активному участию в общественной жизни. Ни один республиканский съезд Компартии не обходился без его участия, а вопросы, которые он поднимал в своих выступлениях, всегда отличались и актуальностью, и яркостью языка.
Время, конечно, оказалось к нему милостиво. Годы раннего расцвета Айтматова были лучшими годами как Киргизии, так и всего СССР, – период исторического пика, когда экономика добилась больших достижений, а наука и культура достигли выдающихся успехов.
Кончина Сталина поначалу породила страх: как жить дальше без вождя? Вера в его сверхчеловеческие возможности была настолько велика, что когда он умер, многие советские люди искренне плакали, общество было на грани психической истерики. В Кремле же к власти пришёл Никита Хрущёв. Его доклад на XX съезде КПСС о культе личности и преодолении его последствий получился поистине поворотным и судьбоносным.
«Я благодарен судьбе, – писал позднее Чингиз Айтматов, – что мои начальные в литературе годы, конец 50-х – начало 60-х годов, оказались исключительно интересным, обновляющим этапом в истории отечественной литературы. Я имел возможность наблюдать и быть участником живого литературного процесса, когда наиболее отчётливо и резко подлинные ценности отличались от мнимых. Постепенно начали постигать значение проблем морально этических, возникающих в отношениях человека с другими людьми, обществом, убедились, сколь ответственная, сложная задача – нравственное воспитание людей»[26]26
Юность. 1978. № 5. С. 69.
[Закрыть].
Этот период и впрямь оказался знаменательным и продуктивным для культуры и искусства. Благодаря оттепели появился целый ряд по-настоящему крупных фигур. Они вошли в историю как «шестидесятники». Это было мощная волна, на гребне которой возникла много лет спустя политика перестройки и гласности, начался последний, предкризисный подъём советской культуры. Об этом писал выдающийся грузинский прозаик и драматург Нодар Думбадзе: «Критика, который находится в гуще литературных событий Грузии и игнорирует своеобразие “ шестидесятников”, критиком считать просто нельзя! Я же лично убеждён, что шестидесятые годы в истории грузинской литературы являются порой чрезвычайно яркой и насыщенной»[27]27
Вопросы литературы. 1978. № 1. С. 160.
[Закрыть].
Это было и время, когда мощно заявляли о себе народы СССР: вместе с Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной, Василием Аксёновым и другими молодыми русскими писателями в литературу пришли Юстинас Марцинкявичус, Олжас Сулейменов, Иван Драч, тот же Нодар Думбадзе – длинный и славный ряд ярких имён. Ренессанс наступил в театре, кинематографе, изобразительном искусстве – достаточно вспомнить Олега Ефремова, Анатолия Эфроса, Марлена Хуциева, Отара Иоселиани, Эрнста Неизвестного и многих других.
Наступило время, когда официальная критика того или иного деятеля культуры, наоборот, умножала славу и вызывала ещё больший интерес к его творчеству. Так было почти со всеми вышеназванными советскими авторами, а литературная Москва не раз вставала на защиту многих талантливых писателей с национальных окраин, подвергавшихся у себя дома несправедливым гонениям. Так было и с Айтматовым.
В послесталинское время наступил и своеобразный бум переводной литературы. На русском языке заговорили крупнейшие мастера XX века, от Франца Кафки до Сэмюэла Беккета, от Эрнеста Хемингуэя до Натали Саррот. Их книги расхватывались мгновенно, они ходили по рукам, попадали в список того привычного «дефицита», какими были цветные телевизоры, магнитофоны или джинсы. Вообще советское литературное западничество 1950– 1970-х годов второй половины XX века и его творческие итоги – это предмет отдельного и внимательного научного рассмотрения.
Советские люди, «томимые духовною жаждой», жадно ловили каждую новость литературной жизни Запада, но точно так же и читатели западного полушария внимательно следили за важными процессами в культуре социалистического Востока, включая национальные советские республики. Этот неподдельный интерес подогревала и холодная война, развернувшаяся в мире именно в эти десятилетия и в конце концов подточившая экономические силы как СССР, так и стран Восточного блока.
Знакомство и усвоение художественного опыта способствовало расширению творческого кругозора советских писателей, которых всё меньше стесняли идейно-эстетические установки социалистического реализма в его классических формах.
Ярким воплощением этой эпохи перемен стало явление Чингиза Айтматова.
Теперь, когда его нет в живых и творческое наследие писателя предстало в своей завершённости, когда мы имеем возможность рассмотреть его творчество в самом широком культурно-историческом контексте, становится ясным, что это явление обусловили, по меньшей мере, два фактора: возрождённый культурно и социально-экономически Киргизстан второй половины прошлого века и великая и могучая держава по имени Советский Союз. Писательское становление и развитие Айтматова так или иначе является органичным следствием этого феномена. Художник, чьи корни уходят глубоко в национальную почву, он поднялся до такого уровня эстетически-философских обобщений, что его можно без преувеличения назвать писателем державным, имперским.
В связи с этим уместно процитировать одного из лучших критиков Айтматова, Георгия Гачева, который в конце 1980-х писал: «Народу Чингиза сколько выпало в веке XX прожить, перейти и перемыслить. Только из пелён сонного патриархального состояния, в котором он застыл на тысячелетие, ввергнут он был в XX веке в водоворот всемирной истории и, не успев оглянуться, оказался уже в социализме. Вот и продирает до сих пор его человек, Чингиз Айтматов, глаза, и всё думает, думает, думает: что же произошло? Что есть, что будет? И это не только его народа мысль, но более масштабная дума – за всё человечество. Ибо для XX века типично, что народы, долгое время стоявшие в стороне от магистральных путей мировой истории, включаются в неё, и бурно, ускоренно развиваясь, перепрыгивают со стадий древних – в наисовременнейшие. Недаром Айтматова переводят на многие языки: близки судьбы и думы его героев людям из многих стран Азии, Африки, Латинской Америки; и опыт, что накопил его киргизский советский народ: и исторический, и душевно-эмоциональный, и мыслительный, и художественный, всем в поучение оказывается.
Но раз народ его такой путь, равный двум-трём тысячелетиям европейской истории, промчался, то подобная же прорва должна быть перекрыта и в духовной культуре, и в типе писателя. И действительно: как тип писателя Чингиз Айтматов не просто житель середины XX века, но и шаман-заклинатель-мифотворец, акын-рапсод-сказитель гомеровского толка, ренессансно-шекспировский драматург, просветитель и дидакт своего народа, романтик с идеалом высокого накала, реалист-нравоописатель и историограф, и наконец, вполне “модернист”, как и конгениальный ему собрат в Латинской Америке Габриэль Гарсиа Маркес, книга которого “Сто лет одиночества” являет собой подобное же конденсированное табло эпох мировой истории и путей, и сутей, и идей человека...»[28]28
Гачев Г. Чингиз Айтматов. Фрунзе, 1989. С. 11-12.
[Закрыть]
Действительно, выдвинувшая Айтматова киргизская литература первой половины 1960-х годов отличается целым рядом особенностей. Художественное мышление писателей существенно изменилось – сказалось это удивительное, динамичное, не в пример сталинскому либеральное время. Значительно углубилось художественное миропонимание, умение связать локальные, местные проблемы с проблемами более широкого масштаба, порой глобального. Наблюдалось разнообразие творческих поисков как в идейно-тематическом, так и в жанрово-стилистическом планах. Усилились попытки найти новые темы, идеи, художественные формы, выразительные средства. Понятно, что иные молодые авторы новаторство понимали всего лишь как обновление внешней формы, стилистики. Отсюда стремление «осовременить» киргизскую литературу за счёт чисто формалистских изысков, что было в те годы довольно характерным явлением.
Примерно в то же время, когда Айтматов создавал такие вещи, как «Белый пароход» и «Пегий пёс, бегущий краем моря», писал свой экзистенциалистский роман «Холодные стены» и рассказ «Толубай сынчы» К. Джусубалиев, свою «Сотую песню усталости» О. Султанов, появились прекрасные импрессионистские стихи С. Акматбековой, Р. Карагановой, пьеса Дж. Садыкова «Семетей – сын Манаса».
Ни в одном из этих творений следов прямого «присутствия» Чингиза Айтматова не видно, и тем не менее его знаковые, поистине этапные произведения сыграли огромную роль в жизни страны, в развитии киргизской литературы и художественной культуры в целом, переживавшей в 1970-е годы подлинный расцвет. За Айтматовым последовала целая плеяда, представленная ярчайшими именами.
Феноменальная всемирная слава Чингиза Айтматова ещё больше подняла значимость литературы, где динамика перемен ощущалась особенно остро. Достаточно шумный успех пришёлся на долю Т. Касымбекова, создавшего целую школу исторического романа. Его знаменитый роман «Сломанный меч», а также «Голубой стяг» Т. Сыдыкбекова показали, что киргизская литература начинает осваивать совершенно нетронутый пласт – богатейшее прошлое народа. Пройдёт время, и в киргизской прозе и поэзии историческая тема займёт ключевое положение, иные писатели вообще сделаются профессиональными историками, издадут фундаментальные научные труды.
Этот знаменательный период исследователи отечественной литературы называют, напоминаю, «киргизским серебряным веком». Самой яркой его фигурой является, естественно, Чингиз Айтматов, но в его тени не потерялись и иные значительные мастера не только литературы, но и кинематографа, музыки, изобразительных искусств. К вышеназванным именам можно добавить С. Эралиева, автора программной поэмы «Путешествие к звёздам», классического произведения киргизского поэтического модернизма, М. Байджиева, автора пьес «Дуэль» и «Древняя сказка», внёсшего в киргизскую драматургию новые настроения, иную театральную эстетику.
Можно и нужно назвать имена Т. Океева, Б. Шамшиева, С. Чокморова, Д. Куйуковой, К. Молдобасанова, Н. Давлесова, А. Джумахматова, Б. Кыдыкеевой, Г. Базарова, Б. Минжилкиев, А. Токомбаевой и других, кто стал широко известен именно в эти годы и по праву стал гордостью культуры Киргизстана второй половины XX столетия.
Говоря о «киргизском серебряном веке», нельзя обойти вниманием ещё один важный фактор – влияние русского языка и в целом русской культуры на жизнь советского Киргизстана. Именно к концу 1950-х появились первые русскоязычные киргизские писатели, позднее их число только умножалось. Список возглавлял Чингиз Айтматов.
Вместе с тем существовала и даже пышно расцветала конъюнктурная, «сервисная» литература, всегда обслуживавшая текущую партийно-идеологическую программу, не отступающая от канонов «социалистического реализма», марксистско-ленинской эстетики. Целый ряд прозаиков, поэтов, драматургов сориентировались на этом пути, и на них пролился дождь почётных званий, орденов, премий.
Нельзя сказать, что это была совсем уж никуда не годная, профессионально несостоятельная литература. С точки зрения жанра, охвата событий, «правильности» толкования событий в духе текущей политической конъюнктуры, «верности» идеям марксизма всё было на месте. Это особенно касалось произведений о Ленине, партии, пятилетних планах советского правительства, достижениях в области науки и техники. Только о Юрии Гагарине, первом космонавте, была создана целая коллекция вполне профессиональных произведений, которые вошли в школьные учебники, хрестоматии, многообразные перечни обязательной литературы. Среди таких произведений была своя классика: «К коммунизму», «Рисуй портрет» А. Токомбаева, «Партбилет» А. Токтомушева, «Ленин в Разливе» С. Эралиева.
Ода Аалы Токомбаева «К коммунизму» – классика жанра, она без преувеличения может считаться одним из лучших произведений старейшины киргизской литературы, которое в советские годы наизусть знал каждый школьник. По своему характеру это философско-публицистическая поэзия, в ней видна глубокая вера поэта в коммунизм, представляющийся ему «вечным символом счастья», к которому неуклонно движутся время, история и человечество.
Но время показало исчерпанность такой литературы. На смену ей пришли «Джамиля» и «Материнское поле» с их живыми людьми, психологической глубиной, художественной точностью.
НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ
Айтматов в предкризисные 1970-е
Творческий путь Чингиза Айтматов можно условно разделить на несколько этапов. Первый, ученический, – рассказы и повести начала 1950-х. Второй – это, конечно, «Повести гор и степей», куда вошли произведения, ещё в 1960-е признанные киргизской национальной классикой («Лицом к лицу», «Джамиля», «Первый учитель», «Материнское поле», «Тополёк мой в красной косынке», «Верблюжий глаз»). Они были созданы в то время, когда писатель всё ещё твёрдо верил в коммунистическое будущее советского общества, в его жизнеспособность.
Повестями романного масштаба – «Прощай, Гульсары!» (1967 год), «Белый пароход» (1971 год) открылся новый, третий этап в творчестве Айтматова. Это был период, когда писатель глубоко задумывался об антигуманной природе тоталитаризма, о последствиях идеологического давления на человека, о новом виде рабства (позднее он назовёт это явление «манкуртизмом»), о важности морального выбора между добром и злом, о значении личной и общественной свободы как важного критерия морального достоинства любой политической системы или режима. Этот этап отмечен и болезненными сомнениями в идеалах, которые декларировались в обществе и которые вдохновляли самого художника, – они наиболее ярко и глубоко отразились в повестях «Пегий пёс, бегущий краем моря» (1977 год) и «Ранние журавли» (1976 год), в романе «И дольше века длится день» (1980 год). Последнему предпослан эпиграф из «Книги скорбных песнопений» великого армянского поэта и мыслителя-мистика X века Грегора Нарекаци: «И эта книга вместо моего тела, и слово это вместо души моей».
Последний, четвёртый этап художественных, идейно-философских исканий Чингиза Айтматова отмечен эсхатологизмом в его мироощущении, восприятии мировой и национальной истории. Это романы «Плаха» (1986 год), «Тавро Кассандры» (1996 год) и, наконец, последнее слово – «Когда падают горы (Вечная невеста)», прозвучавшее в 2008 году.
Но в 1970-е же годы Айтматова более всего занимала этическая, нравственная проблематика. Его, как и многих других, преследовало тревожное ощущение девальвации ценностей, какой-то духоты в окружающей атмосфере. Моральные императивы советского социализма, к началу 1970-х окостеневшего, утратившего внутреннюю энергию развития, мало вдохновляли. Военная тематика, как источник подъёма советского патриотизма, также изрядно набила оскомину, а новые объединяющие идеи не выдвигались, сильные лозунги не звучали. Советское общество постепенно увязало в болоте бумажных, обветшалых, мертворождённых парадигм, а людей всё сильнее и сильнее угнетал разрыв между произнесённым словом и реализовавшимся делом.
Чингиз Айтматов 1970-х продолжал верить, что только реальное, истинное, деятельное человеколюбие спасёт мир от моральной деградации и сползанию к черте, за которой человек просто перестанет быть человеком, а цивилизация устремится к своему неизбежному закату – закату гуманизма. Эту веру писатель попытался воплотить в ряде своих произведений, особенно в «Ранних журавлях», слегка затронутых ностальгией по молодости и романтизмом 1960-х. Позднее он отмечал, что эта повесть – дань подвигу и святым идеалам подростков военного времени, так рано познавших горький привкус жизни и переживших сладкую истому первой любви.
Но совсем по-иному прозвучал и даже озадачил читателей написанный несколькими годами ранее «Белый пароход». Озадачил и темой, и экзистенциальным звучанием, а особенно финалом, в котором безымянный киргизский мальчик, преданный всеми, забытый родителями и живущий в мире красивых сказок и легенд, не выдержав жестокости и бездушия старших, уходит из жизни. Интерес писателя к народным преданиям, мифам, легендам был известен давно, но никогда ещё не входили они столь плотно в художественную ткань реалистического по всем признакам повествования. Соположение мифов и самоубийства наивного существа – киргизского мальчика с берегов Иссык-Куля, этическая категоричность повести смутила кое-кого из его критиков. Она вызвала оживлённые споры в литературной среде, породила противоречивые оценки. Иные рецензенты утверждали, что «Белый пароход» в своей этической безысходности и трагизме знаменует отказ писателя от прежних гуманистических позиций.
Можно ли представить себе такую историю в действительности? Конечно. Жизнь есть жизнь. Ребёнок сделал свой выбор, решив, быть может, бессознательно, «победить себя, но не мир» (Декарт). Но оппоненты Айтматова, воспитанные в духе советского пуританизма, полагали иначе. По их мнению, советский мальчик никак не мог утопиться, и уж точно нельзя частный случай, даже если он имел место в реальности, поднимать до уровня обобщения. Чем-то это напоминает упрёки Мерсье в адрес Сартра, «забывшего про улыбку ребёнка»[29]29
Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. Цит. по кн.: Сумерки богов. М., 1989. С. 319-344.
[Закрыть].
Разумеется, подобного рода упрёки лишь по касательной задевают иносказание «Белого парохода», повествующего не просто о несчастье, случившемся на небольшом иссык-кульском кордоне, но о беде куда более значительного масштаба. По сути, на метаязыке символов и параллелей Айтматов пишет о трагедии народа, растворяющем в огромном «интернациональном котле» свои ценности и вековые традиции; о трагедии общества, превращённого усилиями коммунистического Левиафана в некий самовоспроизводящийся бюрократический механизм. В этом смысле «Белый пароход» стал предтечей «И дольше века длится день», а безымянный мальчик-утопленник – предшественником манкурта, которого жестокие жуаньжуани лишили памяти.
Но киргизский «мыслящий Сфинкс», как назвал Чингиза Айтматова Георгий Гачев, идёт дальше. Моральный долг, если он выполнен, ответственность, если она осознана, и делает, по мысли Сартра, человека человеком: «Когда мы говорим, что человек ответствен, то это не означает, что он ответствен только за свою индивидуальность. Он отвечает за всех людей. (...) Когда мы говорим, что человек сам себя выбирает, мы имеем в виду, что каждый из нас выбирает себя, но тем самым мы также хотим сказать, что, выбирая себя, мы выбираем всех людей. Действительно, нет ни одного нашего действия, которое, создавая из нас человека, каким мы хотели бы быть, не создавало бы в то же время образ человека, каким он, по нашим представлениям, должен быть. Выбрать себя так или иначе означает одновременно утверждать ценность того, что мы выбираем, так как мы ни в коем случае не можем выбирать зло. То, что мы выбираем, – всегда благо»[30]30
Цит. по кн.: Сумерки богов. М., 1989. С. 319-344.
[Закрыть].
Именно моральный выбор в тяжёлой жизненной ситуации делают герои «Пегого пса, бегущего краем моря». Это повествование о дальневосточных рыбаках, о быте и нравственных ценностях крайне малочисленного народа нивхов. Повесть ещё раз доказала, каким мощным мастером русского слова является Айтматов, какова сила его художественного интеллекта, каков его масштаб. Собственно, в этот период и зародилось понимание того, что если вообще существует понятие «имперского писателя», то Чингиз таковым и является. Писатель советской империи, этого колоссального полиэтнического котла, мировой супердержавы, управляемой консервативной властью, опирающейся на высокие, подчас утопические идеалы, но крайне далёкой от отдельно взятого человека или национальных интересов отдельного народа, застывшего в своём развитии.
Но мы отвлеклись. «Белый пароход» стал этапным, по-своему весьма символическим, экзистенциально ёмким произведением, в котором писатель высказал своё отношение к явлениям, происходящим в советском обществе, к его моральному состоянию, особенно в таких «окраинных» республиках, как Киргизия. Небольшой иссык-кульский кордон – это осколок общества, показательный пример усталости системы, из которой вынуто всё то сущностное, что делает народ народом, а человека – личностью, носителем культуры, представителем этноса.
Иерархическая структура кордона проста: на вершине Олимпа, словно Зевс-громовержец, находится Орозкул, а все остальные – безропотные исполнители его воли. В этом художественном мире постепенно зреют, а потом сталкиваются два нравственных начала, главными носителями которых являются мальчик (и, отчасти, его дед Момун) и Орозкул.
Углубляя морально-этический конфликт сказочно-мифологической линией и полагаясь на нравственный авторитет мифа, писатель предлагает радикальное художественное решение: отчаявшийся мальчуган в болезненном бреду идёт прямо в воду, как бы выражая активный протест и желая свою давнюю мечту превратить в явь. «Мальчик оторопел, холодом обдало его, когда он увидел под стеной сарая рогатую маралью голову. Отсечённая голова валялась в пыли, пропитанной тёмными пятнами стёкшей крови, напоминала корягу, выброшенную с дороги. Возле головы валялись четыре ноги с копытами, отрезанные в коленных суставах....
Мальчик с ужасом глядел на эту страшную картину. Он не верил своим глазам. Перед ним лежала голова Рогатой матери-оленихи... Та самая, что вчера ещё смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом, та самая, с которой он мысленно разговаривал и которую он заклинал принести на рогах волшебную колыбель с колокольчиком. Всё это превратилось в бесформенную кучу мяса, ободранную шкуру, отсечённые ноги и выброшенную вон голову».
Для ребёнка как бы разорвана связь времён, разрушены все представления о добре. И нужно активно воспротивиться всему этому бездушному, безнравственному, жестокому миру. Интуитивно понимая, что сам ещё так мал и физически слаб для того, чтобы бросить вызов самодурству Орозкула, он в воображении сзывает всех своих единомышленников, жаждет превозмочь зло, принявшее облик не каких-нибудь джиннов или дьяволов, но вполне конкретных и реальных людей. Но на деле мальчик остаётся один, слабый, растерянный и преданный всеми. И бросается в воду.
Трагедия, случившаяся в крохотном лесном кордоне на берегу Иссык-Куля, тем больше потрясает воображение, что фон её вполне зауряден, жизнь здесь течёт размеренно, «в обычном стационарном режиме». Глубоко символичен Орозкул, этот бездетный, обиженный судьбой маленький винтик системы, воспроизводящей себя на всех этажах власти, пусть самой ничтожной. Символичен и дед Момун, кроткий, безропотный старик, который виноват уже тем, что его дочь, жена Орозкула, бесплодна. А для последнего истязания жены, причём у всех на глазах, становятся чуть ли не ритуалом, манифестацией своей значимости. Круг персонажей замыкает брошенный родителями мальчик, внутренний мир которого совершенно противоположен тому, что он видит каждый день.
«Нравственные аспекты конфликта и характеров “Белого парохода”, – писал тогда критик Ч. Гусейнов, – могут быть поняты только в свете социально-психологических факторов, связанных с историческими судьбами целого региона, осуществивших всемирно-историческое движение от феодально-патриархальных отношений к социализму, минуя капитализм и буржуазные отношения, которые, не отменяя коренных, родовых особенностей, свойственных антогонистическим формациям, знаменуют всё же, по сравнению с отсталыми феодально-патриархальными нормами бытовых, нравственно-психологических и иных отношений, сравнительно высокий этап духовного развития личности. И только в этом контексте могут быть с должной полнотой поняты и исторически осмыслены пафос и идейно-художественные особенности “Белого парохода” и вообще творчества Ч. Айтматова, в частности и прежде всего, повести “Джамиля”»[31]31
Гусейнов Ч. Формирование общности советской многонациональной литературы. М., 1978. С. 184.
[Закрыть].
Впору задаться далеко не риторическим вопросом: был ли «Белый пароход» антисоветским произведением по своей внутренней направленности, а Айтматов – скрытым диссидентом? И да, и нет. В том смысле, какой вкладывала в этой понятие официальная пропаганда, – нет. В том, что он видел в системе существенные нравственные изъяны, – да.
Иное дело, что позицию свою, прочно опирающуюся на общечеловеческие ценности, он выражал неявно, на языке мифов и символов. Автора «Белого парохода» вернее всего было бы охарактеризовать как одного из выдающихся представителей советской либеральной интеллигенции. Кстати, крупный прозаик Леонид Бородин, немало претерпевший от власти, утверждал, что диссидентство как явление зародилось в среде московской интеллигенции, в значительной мере – в той её части, которая пережила трагедию отцов и дедов в конце 1930-х годов, испытала душевный подъём на волне знаменитой «оттепели» и последовавшее затем разочарование. «На первой стадии московское диссидентство не было ни антикоммунистическим, ни антисоциалистическим, но именно либеральным, если под либерализмом понимать некую совокупность добрых пожеланий, не удостоверенных ни политическим опытом, ни политическими знаниями, ни, тем более, политическим мировоззрением»[32]32
Диссиденты о диссидентстве // Знамя. 1997. № 9.
[Закрыть].
Иначе говоря, Айтматов был критиком советской системы в том же смысле, в каком критиками царского самодержавия были русские классики от Пушкина до Толстого. Сын репрессированного отца, он пострадал не менее, если не более тяжко, чем иные диссиденты. Но, не принимая советский тоталитаризм, Айтматов всё равно признавал многие достижения социализма, никогда себя не считал противником власти. Он неоднократно утверждал, что если бы не советская власть, у Средней Азии в целом и у Киргизстана в частности была бы совсем иная участь. А в одном из интервью, данном незадолго до кончины немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung», он говорил: «Я убедился, что колониализм и империализм могут иметь и позитивные стороны, что, во всяком случае, русское влияние на Среднюю Азию было позитивным. Россия своими колониальными амбициями внесла большой вклад в развитие нашей территории. Только благодаря русскому колониализму нам в Средней Азии удалось приобщиться к общей цивилизации. Россия является и останется ядром евразийской оси. Мы – люди одной цивилизации. Нельзя также забывать и о том, что Россия принесла Средней Азии в плане цивилизаторского прогресса, кстати, ещё до появления Советского Союза. В ином случае, у нас сегодня было бы, как в Афганистане. Поэтому было логичным создание евразийского экономического союза, включающего некоторые государства Средней Азии и Россию»[33]33
Оригинал публикации: «Der Imperialismus kann auch positive Seiten haben». 2005. 11 июля.
[Закрыть].
Так Чингиз Айтматов говорил в 2005 году, но в 1970-е, когда на устах у многих звучали проблемы малых народов – перспективы сохранения языков, национальных традиций, культурной идентичности – им владели иные мысли и чувства. Хотя и тогда он искал в малом большое, в частном – общечеловеческое, универсальное. Что и подтвердила его очередная повесть – «Пегий пёс, бегущий краем моря» (1977 год).
Более, чем какая-либо иная книга Айтматова 1970-х годов, она пронизана экзистенциальной тревогой и раздумьями над нравственной-этическими основами человеческого бытия.
Испытания старика Органа, Аки-Мылгуна, Эмрайина и маленького Кириска, густо замешанные на фольклорной архаике, переосмысленной в свете современного художественного опыта, глубоко созвучны этическим исканиям современности. Это признает и сам автор: «В последней моей повести “Пегий пёс, бегущий краем моря” действие происходит на море. Персонажи находятся в пограничной ситуации. Лодка – это мир. ...Я вижу свою задачу в том, чтобы подвергнуть нравственную основу героя максимальному испытанию. В сущности, вся современная проза занята такой проверкой, ставя перед обществом вопрос о том, насколько наши собственные поступки соответствуют общим требованиям, нашей исторической миссии».
Иные критики усмотрели в «Пегом псе» – единственным «морском» произведении Айтматова – перекликание с повестью-притчей Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Вообще говоря, американского писателя Айтматов ценил высоко, в частности, его мысль о том, что в любой части мира, если показать её правдиво, отразится вся полнота жизни. Однако же, как в раз в «Пегом псе» Айтматов скрыто полемизирует с автором «Старика и море». Хемингуэй пишет о величии человека, о его моральной победе даже в самом тяжёлом поражении, о борьбе, в которую он вступает, чтобы испытать свою личную стойкость и мужество. Киргизский же писатель ставит человека в пограничную ситуацию за тем, чтобы проверить на прочность его нравственное чувство и вместе с тем гражданские убеждения, ощущение долга перед чем-то таким, что выше его самого.
Но почему нравственные проблемы столь активно обсуждались и отображались в культуре именно в 1960—1970-е годы?
Быть может, если говорить обобщённо, это был отклик или даже сигнал тревоги в связи с начинающимся внутренним кризисом всего советского общества, переоценкой его ценностей? Повести Чингиза Айтматова, от «Джамили» до «Пегого пса», подобно чуткому сейсмографу, отображали такого рода умонастроения.