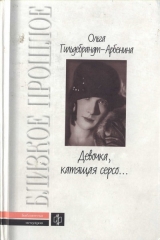
Текст книги "«Девочка, катящая серсо...»"
Автор книги: Ольга Гильдебрандт-Арбенина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
О Мандельштаме
Биографическая справка – хотя я не помню такого разговора с М. – я родилась в доме № 15 по Литейной, «против Кирочной», как говорилось извозчикам. В этом доме жила семья М., и даже в одно время со мной. Этот дом существует и теперь, но он такой загрязненный и дворы такие темные и неуютные, что трудно поверить, что это тот же дом. Квартира 23 или 22 (как будто). 4-й этаж. Если встать спиной ко входу, то направо. Семья М. поселилась в этой квартире после того, как мы переехали в другую (налево). После смерти моего отца{190}. Моя приятельница{191}, жившая над этой квартирой, этажом выше, – говорила, что она и ее брат очень жалели об этой перемене, потому что от нас не было протестов на их катанья на велосипеде по коридору, а мать М. протестовала. Сама она часто кричала через окно какие-то повеления сыновьям. Я ничего этого не помню! Но садик во дворе был уютный, круглый, с кустами акаций и сирени и с большим шаром посреди, как на дачах тогда. Соседний двор был, наоборот, длинный, с аллейкой, обрамленной высокими тополями (сейчас нет ни одного дерева). Мы с М. об этом не говорили или – я забыла. Но район был один с Летним садом и Марсовым полем (мы оба любили смотреть парады){192}.
Познакомилась я с М. осенью 1920 г. Я его стихи до этого не особенно любила («Камень»), они мне казались неподвижными и сухими. Я знала и его статьи в «Аполлоне» (о Вийоне){193}. От поэтов, с которыми я говорила тогда, слыхала хорошие отзывы о нем. Когда произошло его первое выступление (в Доме литераторов){194}, я была потрясена! Стихи были на самую мне близкую тему: Греция и море!.. «Одиссей… пространством и временем полный»…{195} Это был шквал.
Очень понравилась мне и «Венеция» – после блоковской и кузминской{196} – эта была «черная», как я и думала. Не знаю, в каких словах я сумела ему это выразить, – по-видимому, он был очарован, – но, сколько я помню, день был будничный, и я не была ни нарядной, ни красивой. Я работала в Александринском театре и иногда ходила на занятия в Доме искусств по стихосложению с Гумилёвым и по переводам – с Лозинским. Часто мы вместе возвращались домой. Я заставляла Лозинского читать по-гречески «Илиаду». В Доме литераторов я обедала. Но бывал ли там М., не помню. Первый раз, что я была в комнате М., было в день лекции (или вечера) Маяковского{197}. Меня искали и беспокоились, что очень веселило нас с М. Я выдержала до конца вечера. Вообще, вряд ли мы с ним часто там уединялись. Что нас особенно смешило, не помню, – кроме стихов Радловой «Корабли»{198}. Какие-то обороты казались очень смешными, – в дальнейшем, когда я близко познакомилась с Р<адловой>, я восхищалась ее очень красивым голосом, который сглаживал все шероховатости.
Что я помню о комнате М.? Комната большая, наискось от входной двери, у стены – большой диван, на котором я сидела и прямо сваливалась от смеха, – а вот разговоров не помню! М. ходил по комнате и курил – я тогда выдерживала дым – и читал стихи – новые, старые, свои и чужие{199}, – я говорила о себе, всякую ерунду, – и многое шло в его стихи – изюм, гоголь-моголь{200}, мое «прошлое» – флирты, постановка мейерхольдовского «Маскарада», книги – роман Мордовцева «Замурованная царица», где младшая дочь Приама, Лаодика, скучает в Египте, а Эней, не зная, где она, – проезжает мимо…{201} Я говорила, что ступени на реках Петрограда напоминают входы в подземелья египетских пирамид. И вот такой «матерьял» мог послужить таким замечательным стихам. Что касается «Когда Психея-жизнь», то это рассказ о моем представлении (дантовского – нет, вернее, личного представления) о переходе на тот свет – роща с редкими деревьями, – потому, вероятно, исключительно чуткий к стиху и «крепко» знающий Гумилёв мог поверить, что это мои стихи, – что я сделала ради шутки{202}.
О своем прошлом М. говорил, главным образом, – о своих увлечениях. Зельманова, М. Цветаева, Саломея{203}. Он указывал, какие стихи кому. О Наденьке «и холодком повеяло высоким…» очень нежно, но скорее как о младшей сестре{204}. Рассказывал, как они прятались (от зеленых?) в Киеве.
«Большой конфликт» произошел на вечере (на Литейном). Г<умилёв> обратился ко мне с просьбой проводить красивую рыжую З. Б. О.{205} Она жила далеко и боялась одна идти. «А Вас проводит Осип. Он будет очень рад». – «Хорошо, конечно». Но, к удивлению моему, всегда добрый товарищ, Осип стал говорить всякие вещи о хитрости и донжуанстве Г<умилёва>, чем меня очень расстроил. Не помню, в каких выражениях я выговорила Г<умилёву> свою досаду, но потом разыгралась сцена, которую «обессмертил» Жорж Иванов:
…Сошлись знаменитый поэт Гумилёв
И юный грузин – Мандельштам.
Зачем Гумилёв головой поник?
Чем мог Мандельштам досадить?
– Он в спальню к красавице тайно проник,
Чтоб вымолвить слово «любить»{206}.
Эта сцена, вероятно, в районе Бассейной. Жорж Иванов сплетничал всюду: «Слышу всякие страшные слова. Предательство… И эта бедная Психея тут стоит». Я, действительно, была ни жива ни мертва, опасаясь потасовки. Но этого не было!
Помню, как мы бегали с М. Вряд ли часто. Я была очень занята. Но несколько раз было. «Мне не надо пропуска ночного»{207}. У меня, как у актрисы, был ночной пропуск. Часто, проводив меня и не договорив, М. тянул меня обратно за собой. И вот, когда за ним закрывалась решетка и я уходила, он тянул меня за рукав и «дообъяснялся». Путь был длинный – от Суворовского до ул. Герцена! Но тогда расстояний не было! С «загородных» халтур бегали пешком, если играли не до конца спектакля.
* * *
«Алым шелком» – красный цвет занавеса и мебели Александринского театра{208}. «Советской ночи» – не «январской»{209}.
Теперь принято думать, что М. был очень образован и чуть ли не учен. В «то» время никогда не сомневались в его таланте, но почему-то говорили, что он берет «непонятные» слова для рифмы. Пример (я точно не помню!) – не знал, что такое «Аониды»{210}, – я лично думаю, что истина посредине. У него в голове был хаос, и все «годилось» для хорошего стиха. О чем мы говорили? Я обращалась с ним, как с хорошей подругой, которая все понимает. И о религии, и о флиртах, и о книгах, и о еде. Он любил детей и как будто видел во мне ребенка. И еще – как это ни странно, что-то вроде принцессы – вот эта почтительность мне очень нравилась. Я никогда не помню никакой насмешки, или раздражения, или замечаний – он на все был «согласен».
* * *
Как он меня называл? Тогда было принято и самых молодых при всех называть по имени-отчеству. «Записки» М. ко мне так и написаны{211}. А меня он звал «ласточкой», м<ожет> б<ыть> – «и ласточка, и дочка»{212} – но эти стихи написаны «до меня», и я не ручаюсь, что он говорил их. Как-то он назвал меня «мансардная муза». Это выражение – когда я потом рассказала Ю. Ю.{213} – возмутило его. Но это была правда. Жили мы все очень просто, и время было плохое – а до лучшего не дожила. Потом он сказал, что я представляюсь ему в трех образах: «Мечта молодого Бальзака – Римские встречи Гёте – самая младшая из подруг Сафо». Первое меня удивило, так как романы Б<альзака> были с пожилыми дамами, – Гёте я обожала (я читала его письма по-немецки, и они чудесные!). Что касается подруг Сафо – то мне очень нравились «Песни Билитис» Пьер Луиса{214} и еще больше музыка Дебюсси к этим песням, но «наклонностей» подобных у меня не было, – разве что я рассказала о чисто эстетическом восхищении Кэт Шалонской, ученицей английских курсов, очень модной и элегантной девицей с черными волосами, которая всегда со мной была необычайно ласкова. Может быть, и довольно сложные взаимоотношения с Аней Э.{215}, женой Гумилёва, но опять-таки это не было «грехом».
* * *
Выражение лица М. было умное и доброе, и было в нем иногда что-то египетское. Но когда он вскричал: «Со времен Натали Пушкиной женщина предпочитает гусара поэту!» – он очень смешно вздернул голову и сказал эту фразу с вызовом!
Помню, он говорил как-то о «талмудических» занятиях своего отца{216}. Вспоминал с симпатией брата Александра, с которым я была знакома. Не помню отношения к акмеизму – вероятно, была чисто формальная связь.
Помню (он у меня дома был раза два, и то мельком) – он сделал мне какую-то сцену, скорей комическую (для меня, и непонятную), и убежал, а потом вернулся… и схватил коробок спичек.
* * *
Наша дружба с М. дотянулась до января 1921 г. Меня оторвало от прежних друзей и отношений. Помню, я как-то «собралась» пойти его навестить: «Зачем Вам?» – «За стихами». – «Мих<аил> Ал<ексеевич> напишет Вам не хуже». – «Может быть, и лучше. Но не то. Это будут не мои стихи». Вот, как ни странно, – у меня к «греческому» циклу было отношение… какого-то отцовства, как это ни дико. Они очень медиумичны, и потому меня чрезвычайно радовали. Стихи (увы) «альбомные» и «дикие» – это обычное посвящение поэта девушке, – но вот этот цикл я считаю почти своим. После того как я прекратила «бегать к Мандельштаму» – стихи прекратились. Если б я не кончила своих посещений, уверена, что их было бы еще много. Конечно, он писал до меня, и писал великолепно – после, но наше «содружество» угасло.
Одоевцева записала о своем разговоре с М. про меня: «Всякая любовь – палач!»{217} – я не знала, что он меня так любил. Это было как фейерверк!
Я потом встречалась изредка с М. и его женой у Лившицев. Мы говорили не без смущения. Жена была (на мой взгляд) очень боевая, но, что называется, «женщина как женщина». Я не знала, что она такая умная. Один разговор был про Пастернака. Я его спросила, не обижается ли он, что критик говорит о значении П<астернака>. Он со своим обычным взвивом вскричал: «Вся литература – жмется к Пастернаку!»{218} Ни на какие его «встречи» я не ходила. В 1937 г. в Москве мне передали, что М. в Москве и очень хочет меня видеть – но меня «не пустили». Вот и все!..
Читая письма М., я была удивлена запиской к Н. Я. в 1921 г. Что-то похожее на раскаяние Литвинова из тургеневского «Дыма»{219}. Это письмо превратило меня в светскую даму Ирину! В то время я была бы очень польщена.
Очень неожиданен его роман с Лютиком. Ольга Ваксель (Лютик) – какая-то родственница Гумилёва; Г<умилёв> говорил, что не то ее отец, не то дед покончил с собой. Помню ее мать – невысокая дама средних лет. Лютик была высокая, стройная, но крепкая девушка, без всякой флюидности, без кокетства, довольно красивая, румяная, «недвига-царевна», «брюлловская турчанка» – это я назвала, – с неподвижным лицом. Очень похожее выражение «о яблочной коже»{220}. Именно не лепестки роз, а «яблочная кожа». Я к ней хорошо относилась; Гумилёв считал ее абсолютно невинной (старорежимной) девицей. Потом потеряла ее из виду. Встретила ее в районе Таврического сада (года не помню, конечно!), – мне говорили, что она легко рожает – «как репки сажает», – я спросила ее, правда ли. Она улыбнулась утвердительно. Я даже думала, что у нее не первый ребенок! Потом я встретила ее в вагоне (под Москвой или под Ленинградом, не помню) – с молодым, красивым, но небольшого роста человеком, – они сидели, тесно прижавшись друг к другу, я спросила о стихах ее, она ответила, улыбнувшись, что-то пессимистическое – чуть ли не о смерти. Будто стихи ее не стоят…
* * *
Конечно, они многого не стоили. Но умирать женщинам, которых любят поэты, надо рано – как Беатриче и Симонетта{221}, а не так, как Лаура Петрарки, в которой разочаровался Франциск I.
Если у меня появилась легкая ревность к «другой» любви М., то это именно к посмертным стихам о Лютике{222}. Очень сильное стихотворение к Марии{223}, но «мои» мне нравятся все же больше.
Над. Як. прекрасно написала книгу о М.{224} И исследование о его творчестве, и весь быт того времени. Страх был у всех, и, зная о неуживчивости и дикости характера М., я его особенно не жалела. Ко мне он был повернут хорошей стороной и был «весь в стихах». Но, конечно, последнее время его жизни вызывает глубокую «человеческую» жалость. Вероятно, в нем самом было много от ребенка. Знал ли он, предчувствовал ли свою посмертную славу?
* * *
Я доверяла М. свои стихи. Например, «И смуглый юноша, чья прелесть ядовита…». Юноша был бледный, а не смуглый; увидав его, Гумилёв издевнулся: «Он похож на подмастерье с Петроградской стороны»… Говорят, он был очарователен в роли китайского принца. В «Маскараде» Мейерхольда он играл Пьеро, а другой мой приятель – Арлекина{225}.
* * *
Мы с Гумилёвым говорили как-то о магии. Я очень пугалась африканских заклинаний с ритуальными убийствами. Также и в христианской религии некоторое меня пугало. Помню возглас Гумилёва: «Какие вы с Мандельштамом язычники! Вам бы только мрамор и розы»… (Надо понимать: Грецию. И еще: поверхность.) Не помню, передала ли я Мандельштаму это и что он сказал.
* * *
Мы говорили как-то с М. о музыке и пении. Оказалось, что у нас одинаково музыка «без пения» действует сильнее эмоционально, чем с пением.
Как-то мы были с ним в балете. Что давали, не помню. Через ложу сидела Лариса Рейснер – он сбегал к ней поздороваться, и она послала мне шоколадных конфет (тогда это была редкость). Потом он ходил к ней в гости, и она рассказала ему (со слезами), что Г<умилёв> перестал с ней здороваться…{226} Когда она говорила о неверном характере Г<умилёва>, он сказал ей: «А как же Ольга Николаевна?»
Она ответила: «Но это же Моцарт!..» Я не знаю, сочинил ли он это или правда. Я с Рейснер не была знакома, и почему она сказала обо мне так лестно, мне непонятно! Но признаюсь, что это выражение останавливало меня в дальнейшей жизни от завистливых (в смысле костюмов особенно) и от злостных (если что-то обижало!) мыслей. Если М. придумал это, он задал мне хороший урок. Но я вообще в нем «вранья» не замечала.
* * *
Помню, как Гумилёв хвалил «стилистику» М. Но зато в композиции, в которой был особенно силен композитор Кузмин, М. был слаб. У него стихи шли какой-то Илиадой без перерыва. После того, как они были напечатаны в книге{227}.
М. А. Кузмин
Я знала его так много лет, что «прошлое» как-то подернулось туманом – годы слились в одно, и внешний облик в памяти – почти без изменений.
Я начну с данных им (в сотрудничестве с кем-то, но главное – все же его инициатива) комических прозвищ:
Вяч. Иванов – батюшка;
К. Сомов – приказчик из суконного отделения (для солидных покупателей);
К. Чуковский – трубочист;
Репин – ассенизатор – трусит на лошаденке, спиной к лошади;
Ал. Блок – присяжный поэт из немецкого семейства;
Анна Ахматова – бедная родственница;
Н. Гумилёв и С. Городецкий – 2 дворника;
Г. – старший дворник-паспортист, с блямбой, С. Городецкий – младший дворник с метлой;
Анна Радлова – игуменья с прошлым;
О. Мандельштам — водопроводчик – высовывает голову из люка и трясет головой;
Ф. Сологуб — меняла;
Ал. Толстой, С. Судейкин и еще кто-то (Потемкин?) – пьяная компания – А. Толстой глотает рюмку вместе с водкой за деньги, Судейкин (хриплым голосом): «Мой дедушка с государем чай пил»;
Ю. Юркун — конюх;
A. Ремизов – тиранщик;
Г. Иванов — модистка с картонкой, которая переносит сплетни из дома в дом;
B. Дмитриев – новобранец («Мамка, утри нос!»);
Митрохин — Пелагея («Каково?»);
Петров – Дон Педро большая шляпа.
Когда я стала бывать у К{228}., «посетители» были другие, большинство из них переменились потом.
Бывал Чичерин (ст<арший> брат) – высокий человек с высоким голосом, почти смешным. Говорил о музыке. Помню, рассказывал о своих собаках – «Тромболи» и «Этна».
Бывал «Паня» Грачев, тогда очень худой (потом превратился в очень полного, Пантелеймона). Иногда играл в 4 руки с М<ихаилом> А<лексеевичем> Божерянов. – Потом мы бывали в гостях у его бывшей жены, Иды, и ее подруги, H. Н. Евреиновой – юристки, сестры H. Н. Евреинова. Я встретила как-то у них доктора, кот<орый> рассказывал о последних днях Ленина. – Также в гостях у самого Евреинова и его жены – моей б<ывшей> подруги, Анны Кашиной, – где часто играли в petits-jeux[143]143
Фанты (фр.).
[Закрыть], и Мих. Ал. узнал меня по «желтой» чашке (он узнавал чашки, а я знала, что он любит розовый и желтый цвет).
Бывали у Радловых – на Васильевском острове{229}, тогда – ходили всюду пешком. У них часто бывал Смирнов и Н. Султанова. – Молодые художники – красивый Эрбштейн – брюнет с синими глазами – и Дмитриев, тогда неприметный – к удивлению моему, большое увлечение М. А. – потом, через несколько лет, он очень похорошел, стал интересным. Я с ним говорила раньше о балете, и – увы! – М. Ал. сердился на мою дружбу! Юра тянул меня подальше: я ничего не могла понять.
Бывали мы в доме (временами очень красивой, но претенциозной) дамы будущая жена Леонида Соболева, Ольга Ивановна, которая называла себя Ольга Иоанновна. Там они собирались, читали стихи, обсуждали. Туда приходили моряки, любившие поэзию, и среди них – <…> Соболев» (Жизнь Николая Гумилёва. Л., 1991. С. 315–316).">{230}, где я познакомилась с И. А. Лихачевым, – у нее бывали 2 моряка – Леонида – один из них{231}оказался потом вторым мужем Ольги «Иоанновны» Михальцевой-Соболевой. Юра потом очень разочаровался в ее внешности – она краснела, как в бане, что искажало ее черты Доменико Венециано, – и потом она сама городила какие-то пошлости. Главным посетителем у нее был Канкарович, которого потом переманила другая Ольга – наша будущая подруга, – очень хороший человек, – Ольга Ельшина-Черемшанова.
Она и ее муж потом стали бывать, но чаще бывали у них. Канкаровича часто разыгрывали. С Ольгой Ч<еремшановой> дружба у него была до конца. М. Ал. дружил с Анной Радловой, немножко посмеивался над Сережей (что он за режиссер? Любит простоквашу и манную кашу!). – Вероятно, настоящим режиссером в его глазах был Мейерхольд – хотя к нему как к человеку у него тоже были некоторые претензии. Вообще я не знала никого, даже обожаемого им Сомова, у кого он не увидел бы каких-то смешных черт. Единственное для него идеальное существо была Карсавина. Он спорил всегда за ее приоритет над А. Павловой – и говорил о ней почти восторженно, и не позволял ни другим, ни себе ни одного плохого слова. Юра говорил, что когда они бывали у Мухиных, Юра говорил с Мухиным, а М. А. сидел у больной Карсавиной, и она говорила с ним доверительно. Вероятно, М. А. и Юре не рассказал об их разговорах. (Я предполагаю, после ее воспоминаний{232}, – не говорила ли она о своей тайной любви к Дягилеву? Я даже не предполагала, что мое весьма запоздалое „объяснение в любви“ могло доставить столько удовольствия этому разочарованному герою» (Карсавина Т. Театральная улица. С. 171).">{233})

Г. С. Верейский. Портрет Михаила Кузмина. Автолитография. 1929
М. А. больше всех из дома Радловых ценил Корнилия П. Покровского, очень высокого и с очень плохой дикцией человека. Он был очень благородный, «настоящий» человек. М. Ал. жалел его за то, что он поддался требованию Анны – заключить нелепый брак с нею, кажется, решила развестись. Это не дело, конечно» (30 апреля 1926 года); «Она <Радлова> разводится с Серг<еем> Эрн<естовичем> и выходит за Покровского» (11 июля 1926 года)) и эпистолярным диалогом Радлова с Покровским (см. письмо Радлова к Покровскому от 8 сентября 1926 года и ответ Покровского от 21 сентября: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 625. Ед. хр. 345, 462). Ср. лаконичные воспоминания Е. Э. Мандельштама: «У Владимира Павловича <Покровского> был брат Корнилий, тоже служивший в армии до революции офицером. Он учился с Сергеем Радловым вместе в университете, стал близким другом Сергея и его жены Анны Радловой. Эти отношения приняли сложные, уродливые формы и привели Корнилия к самоубийству» (Новый мир. 1995. № 10. С. 148). См. также наст. изд.">{234}. Впрочем, разговоры велись с легкой иронией, как всегда, – но К<орнилия> Павл<овича> нельзя было не уважать. Его брата «Володю» больше вышучивали. Он с «мальчиками» вел балетные разговоры. Мих. Ал. жалел Покровских, когда радловский дом перекочевал к ним на Чайковскую и «гнездо» Покровских распалось{235}. Впрочем, симпатии К. к Радловым всегда были теплыми.
Бывали у худ<ожника> Арапова на Мойке (Пушкинский вид из окна), – но его у К. я не помню!
Бывал у него Шапорин. Позднее – Стрельников (если говорить о композиторах).
Не помню Кроленко и вообще «редакторских» людей. Изредка К. ездил к Ал. Толстому. Бывали: […]. Я вспоминаю, отталкиваясь от записок Вс. Петрова, там многое не совсем-то правильно.
Мих. Ал. иногда играл и «свое». Очень мне понравилось (почти до слез), как будто, «шимми» из «Эугена Несчастного»{236}, – которое я услыхала по возвращении из поездки.
Больше всего в искусстве он любил Моцарта – просто молитвенно. Я долго не могла понять в Моцарте ничего кроме 18 века – вроде Гретри, Гайдна и т. п. – Я поняла только (отчасти), услыхав «Дон-Жуана». М. А. Бетховена считал «протестантом» (в его устах – почти осуждение), но в религиях ему больше всего нравилось православие («теплее» всего). Я не замечала особой нежности к Шопену. Любил Бизе, Делиба (я вполне понимала), – Дебюсси. Не так уж пламенно – Равеля. Из русских – Мусоргского (я не понимаю!), даже больше Бородина. Слегка насмешливо – к Чайковскому. Рассказывал со смехом о Римском-Корсакове{237}. Как он стал писать «римскую» оргию{238}. Кто-то спросил его: «Но ведь вы же не пьете?» – он объяснил, что выпил как-то немного портвейна или мадеры. Нравился Стравинский и Шостакович будто на 2-м месте, до Прокофьева. Чрезвычайно любил Вебера. Был заинтересован Альбаном Бергом. Сейчас забыла фамилию – […] «Бразильские танцы»{239}. – Ему нравились некоторые дирижеры – на концертах бывал часто. Нравились некоторые немецкие романсы («Für dich»), – любил оперетты Жильбера, Легара. Меньше Кальмана.
Милашевский зря пишет{240}, что Феона и Ксендзовский – вроде по доброте – подкармливали К. Зная театральную публику, думаю, что его «скорее умасливали» за статьи. Он писал откровенно – многое ему нравилось, – но, помню, выругал Тиме и даже талантливого Утесова{241}. Помню, что «мучился» с критикой Ольгиной – жены Феона, – кажется, удалось «помягче» написать. Феона он ценил. Кино он любил – особенно немецкий экспрессионизм. «Мабузо», «Инд<ийская> гробница», не говоря уж о «Калигари»{242}. Фейдт, В. Краус – больше, чем Яннингс, Пауль Рихтер в роли Гуля – несколько похожий на Льва Л<ьвовича>, – которого он окрестил «Новым Гулем»{243}. Нравился режиссер Гриффитс («Интолеранс»){244}. Из женщин нравилась американка Лотрис Джой («Вечно чужие») – и он обрадовался, узнав, что у нее немецкое происхождение. Эрик ф. Штрогейм, Чаплин и Б. Китон (позже Гарольд Ллойд). Нравилась Аста Нильсен. Из русских актеров любил Варламова, К. Яковлева – во МХАТе – Леонидова. Первой красавицей считал Лину Кавальери (красота равна гению, и ее он ставил, как Шаляпина в опере). Он, конечно, не превозносил ее, как певицу, – хотя она и была не так уж плоха! – Ценил Фокина; как балетмейстера. Вспоминал – увлеченно – Дягилева. Говорил о балерине Смирновой: «У нее выходка» (это не значит, что он ее любил). Талантливую Лидочку Иванову назвал будущей балериной из «Петрушки»{245} – что слегка огорчало ее отца – он, после ее страшной смерти, ждал, что ее назовут буд<ущей> лебедью или Жизелью. Кажется, не был потрясен Спесивцевой – «выше Павловой», как говорил Дягилева» (Figaro (Paris). 1927. 26 may): «Увидев Павлову в дни ее и моей молодости, я был уверен в том, что она „Тальони моей жизни“. Мое удивление поэтому было безгранично, когда я встретил Спесиву, создание более тонкое и более чистое, чем Павлова» (цит. по: Сергей Дягилев и русское искусство. М., 1982. T. 1. С. 246; ср. с. 475). Ср. также: «Дягилев одним из первых оценил всю гениальность Анны Павловой <…> но он ярче других видел в Анне Павловой при ее божественной одаренности и крупные художественные недостатки <…> и выше Анны Павловой ставил Ольгу Спесивцеву» (Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. М., 1994. С. 163).">{246}, – м<ожет> б<ыть>, любовь к Карсавиной не допускала таких похвал!
О стихах: Пушкин – Батюшков – не слишком Лермонтов и даже Тютчев; из писателей – Лесков, Достоевский, Гоголь; – Диккенс (больше Теккерея), Шекспир, конечно, и Гёте{247}, – Гофман (род зависти, что тот выдумщик на сюжеты, что, в какой-то мере, мог, но не доканчивал Юра), д’Аннунцио, Уайльд (больше Шоу), – одно время Ренье (потом ослабел), так же и Франс (сильно, но со спадом), – немцы – Верфель? – Очень роман «Голем»{248}. – Считал талантливым Введенского (больше Хармса), не слишком […], – Пастернака (особенно проза), – но как будто не клюнул на обожаемого Пастернаком Рильке. К Блоку относился прохладно, хотя не судил! Вячеслава в свое время, верно, любил, – но после пошли контры. Хорошо – к Ремизову и к (даже) Зощенко; к Сологубу. Стали нравиться первые вещи Хемингуэя.
Когда я впервые попала в дом К. (и Юры), больше всего нового услыхала о живописи. Я еще не рисовала, но любила живопись и бывала с детства в музеях и на выставках. Из художников (на репродукциях) увидала Синьорелли, Содому, дель Кастаньо, Кривелли, Б. Гоццоли, – всех «прерафаэлитов» (настоящих) К. очень любил. Он подарил мне довольно скоро картину Боттичелли «Венера и Марс» – в рамке. После войны она у меня пропала. У Юры было пристрастие к Гизу, кот<орое> сразу я не поняла – у них были не во всем одинаковые вкусы, – но, думаю, что К. как-то «покорно» воспринимал «новые» увлечения Ю. в живописи (напр<имер> Дюфи). – Он всегда говорил, что любит Клода Моне больше, чем Э. Мане (мы спорили), вероятно, п<отому> ч<то> Клод поразил его на первой фр<анцузской> выставке, кот<орую> он видел в жизни, – и потом, в Клоде была сюжетность, а посетителям нравится сюжет в картине.
Ему нравились русские иконы; из «Мира Иск<усства>» выше всех ставил Сомова, Судейкин ревновал к этому отношению к Сомову! Не помню особого восхищения Врубелем. Посмеивался (в жизни) над болтливым Бакстом. Нравились немцы: – Менцель – Вальзер (маленькие немцы), – Гофман, – и особенно – Ходовецкий.
Удивительно, К., хотя у него была фр<анцузская> кровь, не мечтал о Париже. Он предпочитал Германию, – и особенно Италию. Но свое отношение к Италии он «вполне» выразил в своих стихах.
Цветы любил: розы, жасмин, левкой. «Сухие» – запахи. Любил: духи, пудру, – а не одеколон, мыло. – Цвет: розовый, желтый; теплые тона.
Под влиянием Ю. стал любить клетку. Но, м<ожет> б<ыть>, любил и раньше. Увлечение «американизмом» у Ю. (и в литературе) – перешло во «Вторник Мэри»{249}.
Я не помню, как относился К. к Головину (в то время); но раньше – он просто благоговел за «Орфея и Евридику».
Далекое прошлое! Но почти все осталось, как было, – во вкусах. Я очень любила Кузмина (до знакомства) за мажорную певучесть и мажорную эстетичность (то, что бывает у Бизе). В прозе мне очень нравилась историческая тема. Но «русская» провинция и особенно русские Ванечки мне казались не совсем приличными. Я удивлялась, но не смела говорить об этом – из уважения к его возрасту и таланту. Ведь у Шекспира были женские характеры (как мужские) – даже Джульетта в своей героической стойкости. Совсем не надо было «любовь» облачать в штаны банщика. Ведь это так испортило память о большом поэте!
О К. много написано, много, м<ожет> б<ыть>, будет еще нового сказано, но, конечно, было бы не только осторожнее, но просто умнее завуалировать некоторые вещи. Я никогда в жизни не видала и не слыхала ничего непристойного ни в поведении, ни в словах (в жизни) М. Ал. Он как будто сам на себя «клепал» какие-то непристойности в некоторых произведениях. Как будто хвастался – наоборот – Чайковскому, кот<орый> так всего боялся и стеснялся! Я думаю, его трагедия была в том, что влюблялся в мужчин, которые любят женщин, а если шли на отношения с ним, то из любви к его поэзии и из интереса к его дружбе. Свои «однокашники» (что ли?) ему не нравились, даже в прелестном облике.
Главное, что стало его горем, – это желание иметь семью, свой дом, – и что «почти» становилось с Юрой, – но Юрина тюрьма разделила временно // Шестые Тыняновские чтения. С. 25–30). Юркун был освобожден 23 ноября 1918 года. Подробнее см.: наст. изд.">{250}, – а потом сблизила, хоть и печально – настала бедность и всякие страхи! Юра не был близок с матерью, это были какие-то перегородки – я же – не виновата! Я нисколько не старалась ничего у них изменять, – я была бы рада «побегать на стороне», – но Юре казалось, что «скоро все кончится» – (16 лет?!) – и держал меня при себе. Почти насильно. Я не смела сопротивляться.
Жить жизнью искусства в «наши» годы (в молодости) – очень трудно! Я, конечно, это счастьем не считаю.
Могла ли я вырваться тогда? – В единственном случае, когда мне этого реально захотелось, – это было бы бесстыдно. Юре было и так очень трудно, просто невыносимо. Мы все как-то «внешне» весело – несли свой крест.
Читая Ахм<атову> (вернее, Лидию Ч<уковскую>), поражаешься ее отношением к Кузмину{251}. Я никогда не слыхала плохого от К., от Юры – да – он был возмущен «неблагодарностью» А<хматовой> за предисловие к «Вечеру»{252}. («Путевка в жизнь» – сказали бы теперь!)
Самое нелепое – это страх А<хматовой> перед Радловой… «Большой дом»!{253} Что за чушь! Кого можно было заподозрить – это актриса Ф.{254} И певица (фамилию забываю). Я говорила об этом (потом – с Олей Ч<еремшановой>) – ею увлекался отец Оли.
Но Радлова восторженно говорила о власти. Юра смеялся, что она в честь Грозного – С<талина> назвала «Иваном». Но в их доме ничего «страшного» не было. И кто бывал у М. А.? Люди, совершенно приличные с точки зрения гомосекс. – художники: Верейский, Воинов, Костенко, Митрохин, Добуж<инский> (без меня); – Н. Радлов, Шведе, Ходасевич (он у нее; я не была, она, за ее остроумие, была любимицей М. Ал.) – Осмеркин; «13»{255} – Милаш<евский>, потом Кузьмин; Костя К<озьмин> с Люлей; Домбровский с женой; Кузнецов{256}; в начале – Орест Тизенгаузен с женой Олей Зив; Дмитриев (вначале. Это главное «увлечение». До Л<ьва> Л<ьвовича>), потом Л<ев> Л<ьвович> женился на Наташе С<ултановой> (что всех удивило, очень. Он любил полных), Женя Кр<шижановский> (приведший Костю и Люлю). Я могу удостоверить, что ничего неприличного я не только в «действии», но и в словах не видела; самое неприличное было в рассказах (м<ожет> б<ыть>, в некоторых стихах). И какие сплетни?! Болтали обо всем, как у всех. Но «специфичности» не было.
Да, люди. Федя Г. (я привела, по просьбе Кости, но потом направила его к Косте и Люле – более молодая компания). – Вс. П<етров>, красавец Корсун, красавец Ст<епанов>, «мой» Б<ахрушин> – из Москвы, – Лихачев, Ш<адрин>, Егунов (с Юрой на «ты»); Скрыдлов (в начале; потом он уехал); Юрины «барахольщики» – Михайлов, Дядьковский; еще с кем-то «по обликам»; Лавровский («мой поклонник», он потом женился на очень красивой женщине). Почти все эти люди к г<омосексуализм>у никакого отношения не имели! – и какой «общий» для посетителей «салона» язык? Люди все были разные, и никакого общего языка не было!
Даже Юра и М. А. совершенно разные люди!
А я осталась тенью в чужих судьбах. Меня берегли, спасали… Немного мелочей (и неправильных) у глупой О. и умной Нади{257}.
…Очень неверно о внешности А. Радловой. Какая она жаба? называла Анну Дмитриевну Радлову» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. T. 1. М., 1997. С. 59).">{258} С моей «балетно-классической» формулировкой красоты – Анна была очень красивая. Если бы у нее был рост Рыковой, ее можно было бы назвать красавицей. Красавица – кариатида. Но это мешало ей – недостаточная высокость. Она была крупная, но надо было бы еще! Ее отверстые глаза и легкая асимметрия – конечно, красивы. Но в ней не было воздушности и женской пикантности.
Я думаю, М. Ал. «сочинял» эмоционализм, и радловский дом был ему симпатичен – и полезен – а недостатки он видел везде и всюду! Он был насмешник!
Был ли он добр? Думаю, что нет. Г<умилёв> был прав: «Мишеньке – 3 года» разглядел в нем нечто очень существенное и характерное. У Гумилёва была теория, согласно которой у каждого человека есть свой истинный возраст, независимый от паспортного и не изменяющийся с годами. Про себя Гумилёв говорил, что ему вечно тринадцать лет.">{259}. Тут и застенчивость, и неполноценность (в чем-то!), и неумение устраиваться самому. Но зла он не делал; просто больше ценил тех людей, которые были или вдохновительны в литературе, или любили его литературу, а не тех, которые сделали ему доброе. Что-то помню о какой-то доброй тетке, кот<орой> он не слишком благодарен.
Не любил ходить на похороны – например, не пошел на похороны мамы Л<ьва> Л<ьвовича>, – а она была очень хорошая; и мне неудобно было пойти. Конечно, у Юры было больше доброты (и благодарности).
Я думаю, он к Юре был особенно привязан, считая его очень талантливым. Он очень хотел продвинуть его вперед. Но жизнь мешала этому. Вероятно, дружба с Радловыми укрепилась за то, что они любили и ценили Юру.
Похороны М. Ал. Раньше – его смерть. Я, увы! не пошла его навещать – думая, что его больница ближе, – я поехала к больному Осмеркину – против Витебского вокзала.








