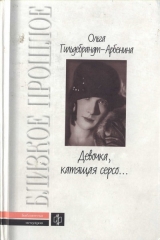
Текст книги "«Девочка, катящая серсо...»"
Автор книги: Ольга Гильдебрандт-Арбенина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Но всего больше она любила булки с мясом, крутые яйца и молоко.
Мама очень умела делать театральные костюмы, а после выучилась шить (без машины), и некоторые платья, которые она мне шила, были очень милы. Особенно черный джемпер с двумя юбками; шелковой клетчатой (черное с темно-красным) и черной тюлевой с пестрыми полосками (это из маминых); и вуалевое серовато-зеленоватое, в котором я встречала Новый Год в помещении Камерной музыки{9} (было очень весело). Но всего лучше мама делала шляпы, хотя почти всегда мы обе бранились и плакали… самой лучшей была серая соломенная с неровными полями и легкими перьями; мальчики на Невском принимали меня в ней за американскую звезду.
Играла она еще пьесу «Он» и какую-то еще в модном тогда жанре «Гиньоль». Я помню, что какую-то из них она играла в рыжем парике. К другой готовилось ситцевое пестрое широкое полосатое платье – после мама сделала мне из него платье, а еще после – из обрезков – круглую диванную подушку, я ее очень любила.
Помню (я еще не ходила в театр) в летнем сезоне в Перми мама играла Фламэалу («Смерть и Жизнь») и… (забыла сейчас имя!) мавританку, которую в конце сжигают на костре. Дома она сама, Л<ина> И<вановна> и Аннушка шили костюмы, пришивали блестки и пальетки. Мама в костюмах была очень красивой. В последних сезонах, когда мама уезжала в провинцию (Тифлис, Симбирск, Гродно, Витебск, Саратов) – это уже после смерти папы – мы оставались с Линой Ивановной – она отовсюду много писала, кажется, очень о нас скучала; из Тифлиса посылала виды и типы Кавказа; привезла кавказские шарфы, вазочку (мне), серебряный кинжал. В Тифлисе она играла Зейнаб и очень нравилась в «Княжне Таракановой». Даже в сцене без слов были дикие аплодисменты, вероятно, за красоту. Аннушка ездила с ней в Тифлис и после все вспоминала, как «мы в Тифлизе» «жили с барыней» и как ее угощали вином в духанах. В феврале, когда мама собралась в Ленинград, по окончании сезона, цвели фиалки.
В Симбирске служил Таиров. Он очень любил выступать как актер, но это было очень слабо; но зато как режиссера (он тогда только начинал) и как человека мама его очень хвалила. Из ролей мамы последних лет лучшие были фру Альвинг (она играла ее с Орленовым, Самойловым и т. д.), Кручинина (с Максимовым, Самойловым и др.), а также «Сестра Тереза». Мама была очень хорошей Катериной в «Грозе» и Василисой Мелентьевой.
Мама всегда много читала; жила она без очков и читала с увеличительным стеклышком. Она любила географические вещи и «жизнь замечательных людей».
Мама очень любила ездить и идеально упаковывала большие сундуки. Она любила, чтобы все вещи были на своем месте, чтобы все можно было найти без спичек в темноте. Летом она любила вставать очень рано. Она болезненно относилась к долгам и после смерти папы выплатила все его довольно крупные долги.
Очень ей хотелось побывать за границей, и в последние годы жизни она иногда жалела о неслучившемся. О чем она жалела еще? Ей всегда хотелось иметь дорогой английский плэд – у нее тогда были польские. Еще в молодости ей хотелось иметь шотландское платье, но у нее его никогда не было. Также хотелось иметь аметистовые бусы, как у двоюродной ее сестры Манохиной, – но тоже это не удалось.
Потом она (как и ее мать) любила светлые и очень мало заставленные квартиры, – наша квартира на Суворовском была темной, и за революцию коридор был в дровах, вещей было много, Л<ина> Ив<ановна> с трудом расставалась даже с бревнами, и мама в этом случае бывала пассивна. Я за последнее время чуточку «разгрузила» квартиру, перетаскав для продажи много вещей. Она, как и я, любила цветы, но я ставила во все банки и корзины, как у бенефициантки, а мама любила немного, в одной или двух вазочках. Зато она любила «выращивать» сама; то померанцы, то зеленый лук. В Тагиле она вырастила зимой лук к своим именинам и была очень довольна, когда ей удалось из маленьких отросточков Елиз<аветы> Савельевны вырастить большие зеленые кусты: комнатную березку, декоративную крапиву, невесту, герань. Она с грустью с ними расставалась при отъезде.
Мама была верующей, хотя не исполняла особенно ревностно обрядов. Болезнь ног не давала ей в последние годы ходить в церковь и к папе на могилу. Она очень жалела, что не взяла с собой в Тагил образ Николая Чудотворца и «Западный Театр»{10} в бледно-зеленой обложке с подписью папы, с которым она никогда не расставалась. Она велела мне положить ей в гроб иконку на фарфоре, образ Божьей Матери, – только вынув его из медальона. Она венчалась с этим образом.
Другую ее просьбу мне не удалось выполнить; это чтобы на отпевании зажгли ее подвенечные свечи (с золотистыми полосками и букетиками флер-д-оранжа), которые стояли в киоте. Эти свечи остались в Ленинграде…
Мама не запоминала всех снов, но некоторые ее пугали. Особенно поразил и напугал ее сон (до войны) о бесчисленных гробах, которые несли со всех концов.
Мама была подлинно тургеневской женщиной, редкой чистоты. Она осуждала кокетство, адюльтеры, вольные разговоры. Ей нравился внешне Л. Л. Раков, и было очень смешно слышать от нее, когда она рассказала о какой-то супружеской измене: «Но я поняла бы еще, если бы это было с Львом Львовичем».
Мама очень любила М. А. Кузмина. Ей нравилась его простота, непосредственность, естественность в соединении с огромной культурой. Очень нравилась его игра на рояле и импонировало знание языков, особенно ее любимых – французского и итальянского.
Очень нравился ей А. А. Степанов, также Д. И. Хармс и «три девочки» его. Мы обе полюбили Машу, мама потешалась над ее словечками… «Честное слово»… про Ольгу: «Девица такая неаккуратная»… В предательство Ек<атерины> Ник<олаевны>{11} мама так и не поверила.
Мама хорошо относилась к Ване{12} (к сожалению, страшный год в Ирбите омрачил эти отношения) и очень любила моего Юру. Она всегда за него молилась.
…Мама всегда говорила, что лучшая смерть по ее мнению – от разрыва сердца, на сцене; так умерла (мы обе были в театре) H. С. Васильева, играя бабушку в «Обрыве» в Александринском театре. Мама ей завидовала.
Мои родители были честолюбивы, но оба лишены начисто аферистичности и не способны на какие бы то ни было компромиссы. У отца было больше доверчивости, веселости, у него был «легкий» характер, и он легко сходился с людьми; мама была горделиво-недоверчивой и порывала с нужными ей людьми, если ее что-то задевало. Но сама она была очень верным человеком и свято выполняла то, что считала своим долгом.
Если необходимо отмечать недостатки, даже у умерших, то я думаю, одним из главных был передавшийся мне недостаток (у сестры этого нет): это крайняя пассивность натуры, неумение самой устраиваться, но от несчастливых результатов этого – переброска вины на судьбу и на других людей. Потом, мне кажется, что прирожденная и уже в детстве всеми врачами признанная истерика могла быть умерена, если бы относились к ней как к слабости; во всем другом мама была по-военному дисциплинирована; но я помню в детстве, как нечто обязательное, мамино «волнение» в дни премьер и ответственных спектаклей и концертов; шушуканья прислуги относительно маминой ревности, как о капризах; но это «тени», а так, каждый по-разному, отец и мать были олицетворением благородства.
У обоих было то, что у меня и что было у Пушкина: сильное стремление хоть как-то пережить века здесь, на этой земле; не только за гробом. Это сильнейшее из всех желаний, по наследству передавшееся мне и непонятное Марусе. Я часто успокаивала маму, что в истории театра она будет обессмерчена и образ ее останется таким, какой она была в лучшие годы: молодой и прелестной, как цветок. Больше всего я жалею о гибели ее портретов, хотя немногие передавали ее точно; она была не «фотогеничной».
Ее последние годы были грустными. Болезнь, потеря Юрочки, смерть на чужбине. Тагил ей представлялся ужасным, она говорила, что больше всего боится умереть в Тагиле, лучше уехать и умереть в дороге, и чтобы ее труп выбросили в окно… Полюбила она актрису Чайку, понравились ей Логиновские; но вообще она стремилась из Тагила. В Тавде ей понравилось, и она даже выполнила свою мечту: ходила быстро и бойко – в парк за грибами. Но в Ирбите было очень плохо; зимой было темно и холодно, жили как в пещере, терпели полуголод, все были злые и ненормальные.
Мама очень любила Всеволода, молилась о Мите, бывшем на войне. Она умерла до его приезда. Одной из последних сознательных фраз ее была без меня Марусе: «Маруся, скажи Оле, чтобы она дала тебе камфары». Мне она уже в агонии сказала про деньги, спрятанные ею, чтобы я уехала в Ленинград или к Юре, и скрыла их от всех. Когда я плакала, она услыхала и стала утешать меня, хотя я плакала тихо и она уже почти не слышала ничего.
В день ее похорон было солнце ранней весны; маму одели во все белое, и она была похожа на грузинскую царицу, но лицо было восковое, бледное и заостренное, потерявшее румянец и круглость, свойственные ей при жизни, – лицо красивое, но совсем другое…
Фиса и Женя сделали белые и голубые цветочки к венкам и веткам, и хотя мама не любила бумажных цветов, я убрала гроб этими ветками и цветочками, и было красиво в своей бедной и суровой простоте…
Отпевал маму о. Александр. Кладбище очень красивое, березовая роща на высокой горе с высокой белой оградой… с холмов видна даль, река, луга, дорога…
Могила близко от церкви.
Очень помогли нам М. А. Козловская и А. Ив. Стрэлли; мама еще при жизни, когда я хвалила кладбище, сказала: «Выбери мне место». Она очень огорчалась, что без нас в Ленинграде похоронят кого-нибудь чужого около папы, в его ограде. Такая же судьба постигла в свое время бедную бабушку Глашу, которую в 1921 году пришлось похоронить не среди своих, на Ваганьковом, а на другом кладбище (Лихаревском?), и могила которой очень скоро исчезла. Мама так и не навестила ее, о чем часто и много плакала.
…Со слов мамы, а та от бабушки Глаши – знаю, что самое важное не панихида, а заупокойные молитвы во время Литургии. Бабушка Глаша всегда подавала за умерших родных и беспокоилась, что после ее смерти никто не будет этого делать.
Чего мне остается теперь, как не желать моей маме бессмертной жизни там – и посмертной славы здесь, на этой земле.
Папа
Папа родился в Юрьеве, в 1863 г., он был на 6 лет старше мамы. Его отец был шведского происхождения, но православным; был дворянин и богатый человек, но потом разорился и умер или в долговой тюрьме, или в сумасшедшем доме. Мама говорила, что он не любил о нем говорить.
Его дед по матери, фон Бекман, был военный и в молодости был другом по полку гр<афа> Баранова, который в свою очередь был шафером на свадьбе Александра II с Юрьевской.
Бабушка Розалия Оттовна была младшая; ее родной брат Николай Оттович, хоть и дворянин, занимался торговлей, что, кажется, принято в Остзейдском крае, а сводный брат был генералом прусской службы и имел майорат в Германии. Сестра Мария была замужем в Сибири; незамужние Эмилия и Луиза служили; первая была красавицей, вторая очень некрасива, но очень хорошая, и отец ее очень любил. Баб<ушка> Роза была очень веселая, с большими голубыми глазами, очень высокая, шумная, бестолковая, хорошая хозяйка, чудно делала котлеты и варила варенье, и очень любила пестро (и, кажется, безвкусно!) одеваться, чем была противоположностью маминой матери, серьезной, добродетельной, чинной, тактичной. После смерти мужа она осталась без средств, и Барановы предложили баб<ушке> Луизе взять папу к ним в Москву. Он был моложе всех Барановых и очень дружил с самым младшим из детей, Сашуркой.
У Бар<ановых> в родстве были Адлерберги, кн<язья> Голицыны и др. Кто-то из них был министром просвещения, и папа в детстве сидел в театрах в министерской ложе. Как-то в театре был Александр II, и папа с Сашуркой ему вежливо поклонились. Он после похвалил графиню за хорошо воспитанных милых сыновей. Государю возражать было нельзя, и графиня поблагодарила за любезность. Папа был доволен. Его готовили в министерство, но папа противопоставил всему свою страсть к сцене.
Он был либерально настроен и не позволял хлопотать за себя, поступив назло на рядовое положение, чем очень огорчил графиню. В папе было странное сочетание шиллеровского идеализма и самых благородных чувств с большим чувством юмора, любовью высмеивать (правда, кажется, не очень зло) и непосредственностью, которая подчас переходила за границы строгого такта и дипломатичности и наживала ему иногда врагов, но вообще его очень любили; прислуга его боготворила, и от многих я слышала об отце своем, как об идеально честном, хорошем человеке, настоящем рыцаре чести. Он был очень веселый: мама говорит, что у Ермоловой он устраивал танцы, заставляя всех бегать по этажам; любил (вместе с А. С. Черновым и А. А. Стрешневым) вышучивать Лину Иван<овну>, уча ее глупостям на русском языке; вообще был «душой общества». На сцене ему мешали слишком высокий рост и глухой голос, а также легкий немецкий акцент, который в жизни не слышался. У него были очень красивые грустные сине-серые глаза с очень длинными ресницами и густыми бровями (мама смеялась – как у «Вия»); неправильные черты лица. Он говорил Марусе, что его неправильно повели на героические роли, так как ему следовало бы играть характерные. В Москве в Малом театре он играл жениха Киэржи в «Эгмонте», первого актера в «Гамлете»; в Лен<ингра>де хорошо играл принца Арагонского в «Шейлоке», мне говорили об этом Мейерхольд и Евреинов.
В поездках играл Уриэля Акосту, графа де Ризоора; очень хорошо играл Актера в «На дне», но предпочитал сам Сатина. Маруся говорила, что как у мамы – Фадетта, у папы идеальной ролью была роль Тома в «Хижине дяди Тома». Она говорила, что сцену молитвы Тома нельзя забыть, как лучшие роли лучших актеров.
Очень хорошо также папа декламировал. Он обожал Шиллера; в день своей смерти у него на столике в больнице лежали «Дон Карлос» и Евангелье. Из русских знаю, что любил Л. Толстого и Гаршина, из поэтов – Лермонтова. Папа был очень способен к языкам, знал их несколько, включая испанский и шведский, был музыкален, неплохо рисовал, но его любовь к театру поглощала все, и у него не было времени, как жаловалась мама, ходить на выставки и концерты. Из артистов он обожал Ермолову и Лудвига Барная. Его самого приглашали в Германию, но он отказывался из-за мамы, которая не могла бы выучить язык. Папа любил верховую езду, причем флиртовавшая с ним тетя Катя училась ездить, но мама боялась.
Папа ужасно любил животных. Он всегда на даче приучал хозяйских собак; в Перми была рыжая собака Норка, дымчатый кот Димка, в Левашове мал. Рокс и необыкновенно любимый (в Шалове) черный, гладкий Арап. Наконец в П<етер>б<урге> черный кот Аркадий Счастливцев, который жил много лет, хотя падал с 5-го этажа и стал хромать. Папа, играя с котами, растягивался во весь рост на половике на кухне и заставлял меня дико визжать, делая «политического преступника». Вообще он любил дразнить, и я боялась песенки с куклами: «Была девица Оля, пошла она гулять; а ей на встречу Коля, и ну ее трепать».
Марусю папа очень строго наказывал, хотя и любил, конечно; но я не помню его наказаний, меня «тиранили» мама и Лина Ивановна. Я помню, наоборот, неожиданные радости; то требование моментально одевать нас и везти в балет, то в гости к управляющему на Охту. Папа любил «немецкую» елку; непременно зажигали в Сочельник; на второй день Рождества была елка официальная, после моего дня рождения, и много гостей.
Папа любил песочные пироги с яблоками (их мастерски готовила Поля), котлеты, свинину, колбасные изделия; он очень тонко резал сыр; мама жаловалась, что он в поездках вечно ест колбасу на станциях, что ему вредно. Дикие боли были у него от телятины. Вино он любил Рейнское, самое любимое было что у Юрочки – штейнрисслинг. Пил охотно пиво, которое мама терпеть не могла. Любил апельсины, яблоки, варенье; морошку и рябину. Обожал устрицы. Цвет любил голубой; норовил подарить маме голубые вещи, но они ей не шли и она этого цвета не любила. Это, как и Юрочка, любящий оранжевый, который совсем не идет мне.
Он очень элегантно одевался, шил у Megecки ; любил хороший табак и вечно смотрелся в зеркало. Мама же даже причесывалась без зеркала. Доброта и веселость привязывали к нему, но он «загонял» по своим делам Л<ину> Ив<ановну> и прислуг, часто будя их даже ночью; но они воспринимали его как святого. Он любил приводить гостей в любое время, «подкидывая» их маме, если у него была срочная работа[28]28
Мечтой папы (неосуществившейся) была поездка с нами по Рейну. Как одно из самых ранних слов, я помню, звучит это слово «Рейн»…
[Закрыть].
Он был первоклассным администратором, любил заниматься переводами, но не очень любил режиссуры. Театральное общество брало у него много времени. Папа был секретарем, президентом был князь Сергей{13}. Они были одинакового роста, и князь, чувствуя к отцу симпатию, часто ходил с ним и изливался в своих чувствах к «Мале», т. е. Кшесинской.
Савина папу баловала, готовила ему любимые им пирожки и льстила; но мама говорила, что Молчанов очень его эксплоатировал. Вообще отец был доверчив и падок на лесть; при его огромном трудолюбии эксплоатировать его было очень легко. Он основал Союз муз<ыкальных> и драм<атических> писателей вместе с Билибиным{14}, которого называл одним из лучших и порядочных людей. Зато Кугель при всем таланте был темной личностью и против мамы имел предвзятую ненависть. К папе приезжали по делам всякие знаменитости; Пшибышевский, <нрзб>; он сам по поводу «Катюши Масловой»{15} ездил в Ясную Поляну, причем знакомая с Барановыми Софья Андреевна принимала его крайне любезно, но сам Толстой произвел на него впечатление не совсем искреннее, о чем он только спустя время конфузливо признался маме. В молодости он дружил с Амфитеатровым, с баритоном П. Хохловым (он сам одно время учился пенью). В карты он не играл. Мальчиком он в вагоне проиграл в карты какому-то жулику все, что у него было, и какой-то незнакомый человек помог ему отыграться и взял клятву никогда не играть.
Он питал особое уважение к С. А. Юрьеву. В Лен<ингра>де подружился с Варламовым, с семьей Черновых и с зятем Юрьева А. А. Стрешневым. На похоронах папы Стрешнев падал в обморок и плакал, как ребенок. Когда папа был женихом мамы, он дружил с Бальмонтом. Он его «спасал», когда тот бросался в окно{16}, и после возился. Мне о папе после говорили с большой симпатией Лариса Мих<айловна> Энгельгардт (бывшая раньше <замужем> за Бальмонтом, мать Никса и Ани), Мусина-Озаровская, знавшая его издавна, и жена Качалова Литовцева (которую папа в юности звал Ninon de Lenclos). Мою тетку Ольгу Викт<оровну> он называл «Валюше».
Большим потрясением в жизни отца была грязная история, затеянная Ге, и суд{17}. Может быть, это ускорило его смерть. Болезнь была очень мучительной. Он не раз просил маму, если она любит его, его отравить. Я помню больницу (французскую), где его оперировали, сад, французских монахинь в их особенных уборах…
Лине Ив<ановне> он подарил на день рождения розу и сказал, трогательно, что больше у него сейчас ничего нет, что он благодарит ее, как верного спутника его жизни и семьи. Лина Ив<ановна> берегла засохшую розу и «Западный театр»{18} с надписью всю жизнь.
Умер он уже дома, на Литейном; перед смертью причащался. Мама говорит, что он сказал ей: «Как люди скверны! Хотелось бы пожить еще для тебя, для детей…»
Похороны были очень торжественные. Я думала тогда, глядя на бесконечное количество венков, что папина душа чувствует это и радуется солнечному свету и славе. От Варламова был крест цветов, от Черновых огромный венок; венки от всех театров петербургских и московских; от Союза, от театрального общества; венок темно-красных роз от Союза писателей; маленький веночек от Аннушки и Поли; венки искусственные и живые, дубовые, лавровые; в могилу бросили массу роз! Белый катафалк с длиннейшим цугом; я помню, И. Ф. Ромашков, папин друг, руководивший похоронами, от себя еще прибавил пару лошадей.
Помню, что маму вел Молчанов; я одно время ехала в карете с Мусиной; прощаться с папой меня поднял на руках заплаканный Ходотов.
Старики из убежища просили отпевать его у них в церкви и похоронить на Охте, поближе к их месту{19}. Мама согласилась (и после сердилась, что она не настояла на Лавре…) Когда выносили из квартиры, мне казалось, что весь двор и вся улица запружены народом. Дико рыдала кухарка Поля, плакала прачка Мария Ивановна, плакал дворник Федор, приказчики от Гурмэ, папиросные мальчики, парикмахеры, извозчики, возившие папу, почтальоны. Путь до убежища был долгий. После панихиды незнакомой дорогой процессия двинулась на Охту. Мама потом с горечью говорила о баб<ушке> Розе, что та, несмотря на горе, с удовольствием примеряла черную пелеринку и траурный вуаль, стараясь приладить все точно, как графиня Баранова на похоронах мужа; зато бабушка Луиза уехала, не дождавшись папиной смерти, т<ак> к<ак> он знал, что она спешит, и она не хотела, чтобы он догадался, что ему так плохо. Папа был похоронен на Олонецкой дорожке. Через 10 лет Союз поставил памятник. Долго висели венки в футлярах. Потом все развалилось, но на кладбище все, даже новые, знали папину могилу, называя ее «Могила Артиста».
Лина Ивановна
Моя Л<ина> И<вановна> родилась в Юрьеве, как и папа. С детства помню слова Dorpat{20}, Embach{21}, Domraine. Отец Л. И. происходил от какого-то барона (Икскуль?); мать, Alte Frau[29]29
Старая дама (нем.).
[Закрыть], была урожденная Wahrmann. Это была чудная старушка, я любила ее больше всех бабушек. Но Л<ина> И<вановна> помнит ее в молодости очень строгой, но справедливой. Когда дети жаловались друг на друга, она их секла в ряд. Л<ину> И<вановну> баловала ее старая няня. Alte Frau была садовница. У нее был чудный сад, но так как никто из детей ей не помогал, ей пришлось продать его.
Карл Ив<анович> уехал, Bernhard был ученым и любил все русское; он умер в Саратове.
Reinhold, младший брат Л<ины> И<вановны>, был шалопай, учиться не хотел. Его забрали на военную службу; он рано умер. Своих дочерей он называл Линами. Последняя (Kleine Lina[30]30
Малютка Лина (нем).
[Закрыть]) жила немного дольше, это была прехорошенькая темноволосая девочка с ангельским голосом и характером, очень религиозная. Она тоже рано умерла, и Рейнхольд сам тоже умер.
Alte Frau в старости жила в убежище{22}; обожала проповеди пастора Эйзеншмидта; приезжала к нам в Петербург часто, и у нас умерла в 1912 году. Похоронили ее на Успен<ском > кладбище.
Когда ей было лет 70, ей еще сделал предложение какой-то богатый старик, обладатель большого сада с ягодными кустами. У нас она ездила в театр, одевалась за три часа, готовая к отъезду. Испугалась Демона, но после удивлялась, как нечистый раскланивался в виде такого красивого господина… На Шейлоке стеснялась любовной сцены Джессики и Лоренцо, неженатых любовников. Меня она обожала. «Fr<äu>l
Фройляйн Маруся непременно выйдет замуж за графа, но фройляйн Олли съест даже герцога (нем.).
[Закрыть]
Очень смешил и пугал ее «diezer drollige Herr Schrammachkofif»[32]32
Этот смешной господин Шраммашкоф (нем.). По всей видимости, имеется в виду упомянутый выше И. Ф. Ромашков. – Прим. Н. П.
[Закрыть], который падал на пол в передней, взбираясь на наш 5-й этаж – и очень импонировала «Frau Professor Berekirsky»[33]33
Жена профессора Берекирского (нем.).
[Закрыть], писавшая ей поздравления в Юрьев. Богаделки завидовали: «Welch Bekante haben bei Frau Tamm!»[34]34
Какие знакомые у фрау Тамм! (искаж. нем.).
[Закрыть] – Мама делала ей восхищавшие ее «Hauben»[35]35
Чепцы (нем.).
[Закрыть].
Еще при жизни папы она говорила: «Unster Herr, der wird sicherlich Minister werden»[36]36
Наш господин обязательно станет министром (нем.).
[Закрыть]. Она очень сердилась на дочь за наши наказания: «Aber, Lina, herrschaftliche Kinder…»[37]37
Но Лина, господские дети… (нем.).
[Закрыть] В молодости она была очень хорошенькой, темноглазой, румяной женщиной. По-русски ее звали Марина Егоровна. Я ее побранивала за особую любовь к старшему сыну Карлу (так же, как бабу Глашу за любовь к сыну Сергею), объясняя, что Л<ина> Ив<ановна> и моя мама – наиболее достойные главной любви.
У Л<ины> Ив<ановны> в детстве была любимая собака Понто. Училась она хорошо, но, по-моему, их больше учили «Turnen[38]38
Заниматься гимнастикой (нем.).
[Закрыть] и прямо сидеть. Помню имена Верна Мазинг и Ида Трейфельд, подруг Л<ины> И<вановны>. Иду я знала после. Это „розовая дама“ – прозванная так баб<ушкой> Глашей за ее румянец. Л<ина> И<вановна> рассказывала, как она, будучи суеверной, встретила перед экзаменом в пути старуху и пошла другой дорогой, провалилась в ручей, вымазалась в болоте и т. д.
Л<ина> И<вановна> вспоминает кошмарное впечатление от сыроварни; ухаживания приказчиков; Alte Frau заставила ее учиться шитью (она училась у Frau Maline). Л<ина> И<вановна> была очень способна, но терпеть не могла шить; она любила бегать, драться с мальчиками, лазить по деревьям. Вспоминала студенческие дуэли и Johannis feuer[39]39
Костер на Иванов День (нем.).
[Закрыть].
В Петербурге и во всех дачах у нее были приказчики-поклонники. Меня угощали апельсинами и конфетами. В мануфактурных лавках я довольствовалась глажением котов. Л<ина> И<вановна> была невинной, и флирты ее были словесные, для смеха. „Закараводить“. Папа ее дразнил. Серьезный роман у нее был со студентом, но я не помню. Потом, позднее, с латышом-революционером, которого она навещала в тюрьме и который после уехал в Америку. В Порхове в нее влюбился капельмейстер (и полковник) Хост. Мы пели: „Röckchen und Jäckchen, Stiefelchen mit Häkchen…“[40]40
Букв.: «Мундирчик и бушлатик, сапожки на крючочках» (нем.).
[Закрыть]
Игры она любила с беготней, скачку с препятствиями.
Она обожала кислые яблоки, варенье из красной смородины, пирожное яблочное; любила пиво Вальдшлёсхен, верила в коньяк; любила сосиски, колбасы, черный хлеб, соленые огурцы и особенно – всякую рыбу, позднее она мечтала об окончании – когда <нрзб>, буду пить коньяк и съем одна целого фаршированного сига» до сих пор не ест сигов» (Кузмин М. Дневник 1934 года. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2007. С. 55).">{23}.
О коньяке она говорила: «Если не смертный случай и Бог не хочет, а коньяк в доме, никакая болезнь не возьмет».
Любимые ее цветы были незабудки и Schwalbenaugen[41]41
Букв.: «Ласточкины глаза» (нем).
[Закрыть]. Очень любила животных.
У нее были кумушки: Катя <нрзб> (крестница Тона) – Heide (крестница Миральди) – друг Коля, подруги Саша, Роза; самая любимая подруга Milia умерла давно. Очень много всяких веселых компаний. Долголетний флирт со Спиридоном Андреевичем был со ссорами и обидами.
Она была истеричкой, и иногда у нее были взрывы черной меланхолии, рыдания; она обожала кладбища; в ее ссорах с мамой я принимала ее сторону, п<отому> ч<то> она была подневольная.
Она очень любила бегать по делам, Савина оценила ее как умного и толкового человека. Маму она выхаживала во время всех болезней. Мне кажется, у нее был определенный медиц<инский > талант. Она нас мучила своей ленью к шитью. Гордилась, что тетя Катя считала, что у нее «есть линия» (то же сказал потом Володя Кузминский). Но ждать нового платья приходилось месяцами и проливать слезы.
Она любила шумные танцы, немецкий вальс в 2 па, польку, шмиттер-штуттер. Баб<ушка> Роза научила ее делать вкусные битки.
Читала очень мало, но очень тонко разбиралась в актерской игре. Немного гадала по картам, верила в сны. Боялась она до безумия лягушек.
Ее неосуществленной мечтой было черное бархатное платье и серьги с небольшими бриллиантами. Она мне завещала, чтобы на ее похоронах были непременно две лошади и цветы.
Она была религиозной и, хотя считала, что надо лютеранке придерживаться своей религии, любила русские церкви; в последние годы особенную веру имела в икону Спасителя и в Блаженную Ксению.
Ей очень хотелось быть похороненной на сухом и светлом месте. Она в грустные минуты вспоминала свою мать и братьев, детство, няню, собаку Понто. Очень любила наших зверей: шаловского Арапа, потом наших кошек Мусю, Кутю, Виолетту, Васю и Периколу наконец со всеми ее котятами.
Полюбила маленькую внучку Людочку. После болезни она стала очень кроткой, все ее сварливые нотации пропали, как их не было; она боялась Линцу{24}, побаивалась маму, молилась о моем Юрочке{25}.
Трогательно кормила голубей, говоря: «Птички, птички, принесите весть об Юрочке!»
Но она постепенно забывала прошлое и не всех узнавала даже из близких знакомых. Сознание приходило неожиданно.
Из смешного в ней было коверканье слов – «Видали вы, Михаил Алексеич, как Александру III задик почистили» и определение мужской внешности по одной части. «Еврейский зад, висящий зад». О К. Фейдте в «Инд<ийской> гробнице»{26}: «Конечно, Olga, он гениальный артист. Но… сухой зад, совсем Аугуст Карлыч Шмидт».
Она не любила немцев и во время войны чуть не дралась с братом из-за того, кто лучше, немцы или русские. Он обожал немцев.
Ее брат Карл Ив<анович> был высоким мужчиной с несколько монгольским лицом, загорелый, очень прямой. Он был садовником, обожал свое дело, был гордого и независимого нрава. Помню в детстве, когда он служил в Шуваловском парке, у него одно время жила Alte Frau; перед ее домиком была клумба с настурциями.
Долго он оставался старым холостяком, женился незадолго до смерти A
После революции К<арл> Ив<анович> спас младшего Хол<одовского>, Дм<итрия> Ив<ановича>, а его самого спасли бабы. Три дня он ждал смерти, сидя в подвале. Мне кажется, что он после этого стал немного странным. Служил он по-прежнему по своей части, в Сумах или в окрестностях. Незадолго до смерти он бывал у нас в Ленинграде. Меня он очень любил. Когда он садился в вагон, неловко попрощавшись с Линцей и со мной, у меня было тяжелое предчувствие. Смерть его была какая-то темная, – не знаю подробностей, но чудится что-то вроде тургеневского Дон-Кихота.
Он плохо говорил по-русски, любил прихвастнуть: «Я, Лина, правильно, а ты не правильно». У него была известная тупость, чванливость – будь он в Германии, он мог бы стать адептом Гитлера в обожании всего немецкого, – но чувство долга истинно рыцарское, верность друзьям, чувство благодарности, стойкость, большое благородство. Его жена Е<лизавета> С<еменовна> – латышка, без романтичности мужа, но зато обладавшая здравым смыслом и юмором – прекрасная хозяйка, очень сдержанная, рассудительная, легкая в быту. Я удивлялась, как можно с ней поссориться. Она обожала дочь и тоже сильно изменилась после революции. Немного сводила счеты со старым мужем, который, влюбляясь в каких-то прелестных юрьевских дамочек в молодости, «женился по расчету» и не скрывал от жены этого; впоследствии у нее была какая-то мстительность в его отношении. Линца скверно поступила и с нею, уехав в Лен<ингра>д, оставив мать при смерти.
Что сталось с их могилами, я не знаю. Вспоминаю сумские кладбища – одно со светло-зеленой рощей – на окраине; другое – скалистое, с обвалами песка, в другом конце города.








