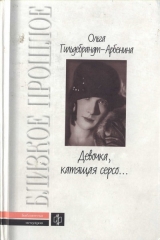
Текст книги "«Девочка, катящая серсо...»"
Автор книги: Ольга Гильдебрандт-Арбенина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Я сошла вниз – у дверей Юра сунул мне в руки букет альпийских фиалок и схватил за обе руки, держал крепко. Я опустила голову, прямо как на эшафоте. Минуты шли. Потом Юра сказал: «Он ушел».
Я заметалась. Юра сказал: «Пойдем со мной».
Михаил Алексеевич встретил меня приветливо. Мы пошли к Юрию Анненкову. Я мало что помню, но, что помню, – это другая история[130]130
Разве можно было поверить, что веселая встреча в мае 1916 г. да окончится таким бесстыдным разрывом в эту новогоднюю ночь? Что меня можно будет увести, как глупую сучку, как женщину, бросающую свой народ, свой полк, свою веру?..
Кузмин (потом я узнала) уговаривал Юру: «Что вы делаете!!» Он жалел меня. «Она хорошая молодая девушка. Это вам не Надина Ауслендер, не Татьяна Шенфельдт. Она собирается выходить за Гумилёва». «Она его не любит» (?..). «Вы же не можете на ней жениться. Что вы делаете?»
А я… выпустила из рук – на волю ко всем четырем ветрам – на охоту за другими девушками, на тюрьму, на смерть – своего Гумилёва.
[Закрыть].
Самое страшное случилось для меня, когда видела Гумилёва через… не помню! – сколько дней после Нового года[131]131
Конечно, в моем «побеге» было и что-то веселое, и легкое. И увлечение Юрочкой. Вначале я не так понимала – чем все это может кончиться?..
[Закрыть]. В Доме литераторов, конечно. На его лице были какие-то борозды – как будто его отстегали. Я защищала его всей душой от насмешки Юры, хотя я знала, что Юра – человек благородный (и может быть, мне это только казалось?), потом я сидела около Юры на диванчике, а за портьерой Гумилёв читал новые – и скверные – стихи своим ученикам. Я старалась не слышать и не давать слышать Юре. – Я раньше хотела стихов про русалок! Тут о русалках («Перстень»){172} было сказано иронически; а я (если это только я!) «и доныне я не умела понять, что такое любовь!» Никогда в жизни я не испытывала такого стыда и такого желания смерти[132]132
Вероятно, ужас был у меня только после того, как я увидела лицо Гумилёва.
[Закрыть]. Только провалиться сквозь землю! Только ничего не понимать! Я не хотела, чтобы меня прощали на том свете. Я не хотела, чтобы надо мной плакали – они оба. Я видела в себе только бесстыдную, мерзкую тварь[133]133
Тут было не до стихов, не до ревности или кокетства. Как будто я была виновна в физической жестокости, когда безжалостно избивали негров. Я не понимаю, как это могло случиться.
[Закрыть].
Я могла шевельнуться только, когда голос смолк и из-за занавески показалась Лютик, я подошла к ней и помню ее неподвижное, но почтительное лицо, как всегда, такое. Я ничего не сказала, и Юра, вероятно, увел меня.
* * *
В мемуарах Одоевцевой: вспомнилась нелепая сцена во время Кронштадтского восстания{173}. Я вспомнила обстановку, но не помню лиц (не видела), не слыхала точно слов. Я была очень напугана. В столовой Дома литераторов. Одоевцева говорит, что показался Гумилёв в очень странном и нелепом одеянии. Кузмин, сидя за одним из столов, ближе к двери, вскрикнул что-то вроде «Коля, что с тобой?» – а Гумилёв в дверях выкрикнул нечто вроде оперного проклятия Альфреда над Травиатой, как будто «эта женщина» или «эту женщину». Я выдернула из рядов Одоевцеву и схватилась за нее, потому что боялась, что Юра начнет меня избивать, – и Одоевцева меня избавит от этого ужаса[134]134
У Одоевцевой какие-то другие слова и у Кузмина (не те, слащавые), – и не «женщина» – он не читал моралей.
[Закрыть].
* * *
Третья память о «другом годе жизни» – тоже в Доме литераторов. До того Голлербах читал сатирические стихи – я смеялась, потому что Голлербах задевал Одоевцеву. После Гумилёв подошел ко мне и с каменным лицом сказал точно так: «Ольга Николаевна. В вашей власти было отнять у меня вашу благосклонность, но я надеялся, что вы сохраните доверие к моему знанию русского языка».
Я, кажется, молчала или что-то невразумительное пробормотала[135]135
Тут я видела – прямо у ног между нами, так близко – бездонную щель, непроходимую черту… Ведь я не могла сказать: «Коля, я никогда не смеюсь над вами. Я была рада, что задели Одоевцеву». Он бы сказал: – «Дорогая, здесь не место. Идем ко мне»… Но для этого был конец.
[Закрыть].
* * *
Я видела его потом очень редко. Как во сне – на улице, не идешь, а подлетаешь – и за руку не берешься. —
* * *
Один раз он сказал что-то очень злое и дерзкое.
В другой раз он сказал: «Конечно, он моложе!»[136]136
Большей глупости нельзя было и придумать! Я не видела никакой разницы с собою.
[Закрыть]
В третий раз он сказал: «Через семь лет»[137]137
Его мать не верила в расстрел, и мне говорили, что она думала, что он скрылся на Мадагаскаре. Я вспоминала… через 7 лет, а уже после войны разглядывала план и гравюры – виды Мадагаскара.
[Закрыть].
* * *
Юра говорил мне, что слыхал от Сторицына[138]138
Петр Сторицын, сплетник.
[Закрыть], что тот говорил, что хотят арестовать Гумилёва.
Юра подошел к нему на улице и сказал: «Николай Степанович, я слыхал, что за вами следят. Вам лучше скрыться». Он поблагодарил Юру и пожал ему руку. Обо мне они оба не сказали ни слова.
* * *
Как будто об аресте я услыхала на похоронах Блока. Напророчил себе Гумилёв – умереть за Блока!.. Мать Блока на кладбище подошла к Ане и поцеловала ее. (Я, как всегда, приревновала, но я не думала, что Гумилёву скоро конец.)
Афиши (или как назвать?) были вывешены на улицах. Его фамилия была третьей. Пошли слухи – о приказе Ленина не допускать расстрела, и будто это – злая воля Зиновьева. Отомщение Зиновьеву пришло через 13 лет.
Было страшно – и не верилось до конца. На панихиде (около Казанского собора, ведь не было тела) Ахматова стояла у стены, одна. Аня – посередине, с черной вуалеткой, плачущая. Я подошла и ее поцеловала. Из-за Юры я старалась держать себя спокойнее. Одоевцева (на улице) упрекнула меня за перчатки – я их, конечно, сняла. Глупо было так говорить. Юра меня старался успокоить. К Ане я подошла одна. Она плакала, рассказывала, как его пришли арестовать. Он ее успокаивал, она целовала его руки. Он сказал: «Пришли Платона. Не плачь».
Берберова (будто бы) посылала ему яблочный пирог в тюрьму. (Я, конечно, не смела – ни сказать, ни послать!)
В другой раз Аня рассказала об Ахматовой. Будто та пришла к ней и сурово заявила: «Вам нечего плакать. Он не был способен на настоящую любовь, а тем более – к вам». Я рассердилась и сказала Ане: «Отбери у нее Лурье». (Лурье, бабник, ходил к Ане.)[139]139
54 года назад, а я помню, как живое почти, и больно, и очень стыдно.
[Закрыть]
* * *
Одоевцева и Ида Наппельбаум написали стихи о нем{174}. У Иды – очень трогательные. Я долго не могла свыкнуться с мыслью о его смерти. Будто этого не могло быть, но надо было делать вид, что было, чтоб не сглазить. Я потеряла из виду, куда делись дети – Лёва, Лена?..[140]140
В жизни все так течет, и многое «отбрасывается» из чувств и почти забывается в своем течении… но, сколько ни живи, остается во мне какая-то подземная, подводная память – и неистребимая верность (у меня, неверной!) памяти этого, неверного, человека.
[Закрыть]
Аня
Аня вела себя «потом» нелепо. У меня из времен гимназии сохранилась какая-то странная власть над Аней – надо мной девочки не то посмеивались, не то восхищались, и был какой-то авторитет: я могла бы исправить что-то в ее поведении, но я не смела из-за Юры; он не любил Аню и держал меня вдали от нее. Она пыталась (на улице) выпытать из меня, было ли у меня что с Гумилёвым, потому что было странно с его стороны говорить с ней о разводе – ради кого, из-за чего? Потом она как-то сказала: «Как жаль, что вы разошлись. Он бы не влез в этот дурацкий „заговор“, он не мог надолго уехать из Ленинграда (в 21 г.) – он бы без тебя соскучился»[141]141
Значит, выходит, я виновата в этой трагедии?.. Еще сказала: «Вы бы уехали за границу, как Ходасевич с Берберовой, и ты могла в Париже стать m-me Рекамье, как ты мечтала». (Я не думаю, что он мог бы поступить, как Ходасевич, бросить детей. И разве могла бы я?.. пожалуй, нет.)
Я не думала о разводе, не делала ничего, будто и не хотела. Я всегда полагалась на судьбу. А нужна была мне любовь (и стихи), а не брак с «готовкой».
Я не была (думаю теперь) совсем такой, какой была ему нужна для брака, и даже такая в «то время». Многого я не собиралась менять в себе. И, правда, нужна была с его стороны только любовь ко мне, если он собирался разводиться и жениться.
А иногда я думала, что он страдал от самолюбия! А отчасти был рад «освободиться». Влюбляйся в кого хочешь. Ведь у него был какой-то долг передо мной. Аня его не стесняла больше.
[Закрыть].
В другое время она говорила о своем безбожии, чуть ли не повторяла «Ильич», стала заниматься в студии Вербовой{175}. Заводила романы. О ней иронически писал К. Вагинов{176}.
Раз пришла ко мне с «кавалером». Это был длинненький юноша, актер, который в одной из поездок (на севере) таскал мои чемоданы, и я вела себя с ним повелительно! Он и тут смотрел на меня почти восторженно, а она как будто принимала его всерьез. В другой раз я привела к ней по делу Ю. Бахрушина, не без волнения входила в этот дом на Эртелевом – квартира Никса – и ее адрес для Гумилёва. Она достала фотографии, продавая их, и довела до приступа смеха Бахрушина: на одной из фотографий были вырезаны головы у (2-х?) сидевших на полу у ног Гумилёва девиц – «потому что она была хорошенькая».
Еще раз я видела ее с дочкой – Леночкой – высокой, белокурой, с размытыми бледно-голубыми, косящими глазами – акварельной, хорошенькой дочкой Гумилёва. Та стеснялась, я спросила об учении. Аня не хвалила ее – «разве что в затейники…». Дочь Гумилёва – в затейники?!.. Я чуть не подавилась.
И еще раз – она сообщила о своей новой дочке – Гале – с черными глазами. От кого?.. Я ничего не спрашивала[142]142
И Аня, и Леночка умерли во время блокады. У Лёвы я не спросила ничего о них обеих.
[Закрыть].
* * *
Что говорилось о нем потом? – Редко!
Михаил Алексеевич, добрый секундант Юры, говорил (иногда) с легким сарказмом и не опасался обидеть меня, рассказывая в юмористическом тоне. Юра – очень редко. Помню, он как-то сказал, что юные девочки для Гумилёва были самой «легкой» добычей, а по-настоящему ему хотелось бы вполне взрослую даму! И – скорее темноволосую. И из моих портретов он прозвал «Гумилёвская девушка» темную шатенку. И еще одно. Как-то мы заговорили с Юрой о Гумилёве. Он вспоминал мой «увод». Я спросила:
«Почему он не дрался?» Юра всерьез назвал меня дурой. «Разве он смел насиловать вас, когда был в заговоре?..» Почему-то Юрий Бахрушин говорил о Гумилёве с ненавистью. Я не понимаю, нисколько он не был передо мной виноват. Виновата только я.
У меня был (долго) альбомчик (кажется, темно-зеленый) со стихами («отделанными») Гумилёва. С замочком. Одоевцева присвоила себе этот альбомчик – там было «Шестое чувство» и моя седьмая канцона, т. е. то, что должно было быть напечатано. «Неготовые» стихи он прятал. Я этот альбомчик вернула… ему? Ане? Как «ценность». Еще были у меня его переводы. Из Малларме и еще какие-то. Я их показала Георгию Иванову, и он их замотал. Довольно много переводов. Он мне их просто отдал. Довольно много. Еле помню: «Мадлэна со змеей…» и эти «ваши банты у висков», что-то в «венке шалфейном».
6 мая 1976 г. Четверг.
Сон сегодня: в каком-то месте Ленинградской области (но дальше пригородных). Бежецк? Максатиха? Он был в сером костюме, дневной, обычный, слегка насмешливый. Какие-то люди… У него – по делу. Аня – на диване, говорит чуть ли не о любительском спектакле. Свеженькая. В белой шапочке. Хорошенькая.
Он мне что-то дал… «по делу». Пожал мне руку. Не поцеловал меня и руки не поцеловал, а только пожал.
Я вернулась обратно, отнесла то, что надо. Какие-то куски мяса – кошке или собаке. Какие-то вещички. Вернувшись, я проходила через другую комнату. Встретила Всеволода Петрова. Поговорила с ним. У него были темные волосы, как у Бориса Папаригопуло. Войдя в комнату, где Гумилёв протянул ему (в платочке) то, что он мне дал, и велел сделать (и я сделала), – вещичка, но главное – крупный серебряный нательный крест. Он взял это из моей руки в свою – «и поднявши руку сухую, он слегка потрогал цветы…». Как будто ничего не сказал, и я ничего, и ничего не случилось, но я поняла, что выполнила его поручение, и крест свой он мне отдал временно, для моей охраны, – и на лице его была написана, очень осторожно, незаметно, не явно, настоящая (бывшая?) любовь.
14 августа. Суббота.
Во сне был Гена Шмаков, и разговор с ним, и про Барышникова, и другое… а потом я пошла по Невскому (по солнечной стороне, где театр и где мы ходили с Гумилёвым и Лозинским и почти не было встречных (в жизни), и Лозинский читал «Илиаду» по-гречески). Во сне я бежала одна, хотела купить цветы – на мне было черное платье и пальто, Невский был заграничный, толпа не наша, – был длиннее, чем в жизни, – а цветочный магазин был за Владимирским, но попадались цветочницы с весенними цветами (анемонами), а я хотела понарядней… С улицы я попала в зал, полный народу. Среди толпы вдруг появился Гумилёв. Его лицо – молодое, до ужаса некрасивое, с Джиокондовой улыбкой и не то с сарказмом, не то с нежностью (как было), и он взял в руку мою руку, и все просветлело, как будто он сказал, что он меня еще любит, и я без слов сказала ему, что я его люблю (чего говорить, никого не любила), хотя я и любила Юру, – верно он меня простил – и принял – во сне.
Октябрь 1977 г.
Не понимаю, почему Ахматовой вздумалось отбирать у Гумилёва его отношение к Брюсову? По-моему (1920 г.), он вполне серьезно относился к Брюсову и гордился своим «ученичеством». Он и меня «поздравил» за то, что Брюсов ответил мне, но не ответил Ахматовой, как не ответил Цветаевой. (Вероятно, мои стихи про Горация и Неэру!)
Анненским он увлекался сильно, изучал его творчество. А. Ахматова, я думаю, была в восторге, что Анненский сказал, что на месте Штейна женился бы не на сестре А<хматовой>, а на ней самой{177}.
Похороны Александра Блока
Но вот, что помню. Хотя это было лето (еще настоящее, «прежнее» лето, по старому стилю) – но день казался осенью, он был какой-то холодный, хотя и солнечный.
Я бегала в этот день так много, как мало тогда. Мне хотелось купить цветов (магазин на дороге – на Литейном, магазин этот еще существует) – я жила на Суворовском – панихида была на Пряжке.
Добежала я, вероятно, рано – народу было еще немного. Блок был непохож на себя; он как-то окостенел, как Дон-Кихот. – Ваша его фотография в гробу очень похожа. Черты у него в жизни были скорее крупные, и как он ни худел, округлость лица – мягкость – не пропадала, – а тут было нечто на него не похожее. И светлость волос пропала – будто всё стало графическим, металлическим.
Я почему-то помню подошедшую и вставшую рядом со мной Берберову – я ее не знала, – мы были одного роста и в одинакового цвета пальто – бордо – то, что заставляет думать, что действительно было холодно – в драповом пальто?
Я не помню – в квартире – похоронной службы, но, думаю, что она была! В дневнике Кузмина (читала когда-то) меня удивила фраза: «красиво плакала Дельмас»{178}.
Кто-то еще – злоязычно – судил: «Ахматова держалась третьей вдовой»{179}.
Я не помню никого из писателей; было очень печально и даже страшно, что умер Блок.
Когда стали становиться в процессию, народу оказалось очень много и много цветов.
О. Форш вспоминает, что ее – Форш – вел А. Белый. Мне кажется, Белый вел Любовь Дм<итриевну>. Запах флокса несся всю дорогу. Цветы были разные, но вся дорога пропахла флоксом.
Говорили, что Блок велел хоронить себя близко от его друга юности – Гуна{180}, – что и исполнили; и непременно под кленом (любимое дерево), и это сделали. Я после бывала и на кладбище, и в соборе, но почему-то в моей памяти собор был как-то ближе к могиле, – а этого быть не могло. Народу в соборе было так много, что не войти; а было впечатление, что толпа разбрелась на какой-то площади, почти лужайке; разные люди подходили и исчезали, – помню, Юркун сказал: «вот и началась легенда»; мать Блока подходила к Ане Гумилёвой и поцеловала ее; Г<умилёв> в это время уже сидел{181}, а он как-то говорил, что если б надо было спасти Блока от смерти, он бы его заслонил!{182}
Надгробную речь говорил Белый.
Потом толпа разбредалась, вероятно, шли (изредка) трамваи, но я побежала той дорогой, по которой когда <-то> хоронили моего отца – т. е., того с Крестовского о-ва на Охту – а этого с Васильевского, – и мне надо было быть на спектакле (халтурном) на Лиговке, где я играла в последнем акте, – и я побежала через все мосты по той стороне города, через Охтенский мост. Есть я не могла и зашла домой только помыться, и снова в дорогу.
Вероятно, я все подробности со временем забыла. Только помню холодноватый осенний солнечный день (на кладбище одно время было жарко), – а запах флоксов для <меня> стал запахом похорон Блока.
Из письма к М. В. Толмачеву от 13 июня 1977 г.
О. А. Глебова-Судейкина
2.01.1978.
Непонятный интерес современников к Ольге Афанасьевне Судейкиной!
Адрес, где она жила и я впервые ее посетила, был, если не ошибаюсь, – Фонтанка, 18. Там, в том дворе, жили мои знакомые, где я бывала с детства, но в другом флигеле. Во дворе был сад – О. А. прямо, в флигеле за садом. С Фонтанки – против сада Инженерного замка. Там, сколько помню, жила (или просто была в гостях) и А. Ахматова. Я была очарована обстановкой комнаты. Синие обои и желтая скатерть. Картина Судейкина на стене, в золотой раме! Этажерка у дверей – на ней две чудесные куклы: сиамец и сиамка, перекинутая через плечо кавалера. Все куклы О. А. были хороши, но мне эта пара казалась лучше всех. Рядом была другая комната – и там стояло псишэ, т. е. тройное зеркало, чашки были (вероятно, со времен Судейкина) самые трактирные, с толстыми синими ободками с золотом, и на чашках – намалеванные розовые розы.
Не помню, в первый раз или в другой, в гостях был Федор Сологуб, – весьма хмурый{183} старик, к которому очень почтительно обращались – то ли за советом, то ли за каким-то разрешением (стиль диалога). Он меня почти напугал!
Была ли она хорошенькой? Скорее, да. Я с «высоты» моей юности (тогда) считала ее несколько поблекшей. Белокурые легкие волосы, подвижная фигурка, легкая, хотя не худощавая – «у нее все есть», сказали бы дамы любопытные! Ахматова была с царственностью, со стилем обреченности. Как будто, в темном. Но говорила весьма просто, если продолжала слегка кривляться (стиль бывшей, дореволюционной эпохи, который мне казался самым подходящим, но моей маме, например, привыкшей к другому стилю, более естественному – «XIX века» – казался неприятным («в декадентских кругах!»). Отношения с Судейкиной дружественные. Что повлекло потом замечательную посмертную память об Оленьке?..
Мне казалось, в манере говорить у О. А. была легкая – очень легкая – слащавость и – как бы выразиться – субреточность – вероятно, любившей господствовать Ахматовой эта милая «подчиненность» подруги была самой приятной пищей для поддержания ее слабеющих сил. Как верная Юлия Менгден у низвергнутой Анны Леопольдовны. Я не хочу этим сказать, что в Ахматовой была какая-то обреченность, падение. Нет. Она была (как, верно, раньше была) вполне дама, любезная и сдержанная, и смеялась, когда надо. Я думала скорее о времени, когда «уже» нельзя было фигурять и всем надо было перестраивать свои «стили», а ведь это великая печаль!!
Со слов Ю. Юркуна и М. Долинова (рассказывавших о «Бродячей собаке»{184}) – у четы Судейкиных были дикие скандалы! Будто бы Сергей Судейкин из ревности обмотал вокруг руки длинную косу Ольги и вышвырнул ее за порог на улицу. Будто бы в другой раз Ольга (из ревности) вскочила на подножку извозчика и зонтиком набила Сергея и его даму!..
Скорее, рассказ Миши Долинова. Юркун к обоим относился очень хорошо; очень гордился дружбой Судейкина и мягко относился к слабостям Ольги. Юра вспоминал, как Судейкин подошел к нему, погладил по волосам и сказал: «Какие у вас, Юрочка, волосы, как у меня! Такие женщины любят!» – И восторженное отношение к музыке. Кузмин и Юра могли заплакать от Моцарта, восхищение Судейкина (как у меня) было куда проще: слезы выступали от баркаролы Оффенбаха – эпизод из «Джульетты». – Судейкина я видала раз в жизни, провожая на вокзале «бедных измайловцев» на войну (они и не уехали!!). С. стоял в тамбуре вагона, держа в руках букет красных роз. Очень бледное лицо – но подробностей (т. е. насупленные густые брови, темно-красный рот!) не помню. Я говорила о нем с сестрой – та работала с актрисой Челеевой, у которой был роман (в юности) с С. – Эта дама, уже немолодая, очень влюбчивая, имевшая и в то время любящих ее поклонников, – вспоминала Судейкина с восхищением – «порченый был перепорченый! Дон-Жуан № 1». Зато ее сын от С. терпеть не мог отца и фамилию имел другую. Кажется – моряк – дело было на Волге.
Мне показывали дом, где жили Судейкины на ул.(?) – недалеко от Летнего сада{185} – у них бывало очень симпатично, весело, – когда у С. появилась новая любовь (ее называли: Вера Шиллинг) – бывать стало как-то неудобно – страсть С. к этой новой была столь яростной, что делалось нетактично у них сидеть и мешать их «счастью». Эта новая «завела» книжку и к страсти подключила матерьяльный интерес. – Ольга Афанасьевна была легкой, непрактичной, истинно богемной женщиной.
М. А. Кузмин говорил, что Судейкин, рисуя, был очень разговорчив и весел; иногда просил Кузмина: «Михонька, а какого цвета платье сделать – розовое или голубое?» – он меня побранивал, что, когда я рисую (изредка, у них в комнате, за круглым столом) – то я, как «тигр». Я, правда, ничем не могу отвлекаться и совершенно ухожу из жизни!..
Очень смешная фразка К. об Ольге Афанасьевне: – «Она в детстве училась в Смольном». Кто-то спросил: «Как? разве она могла учиться – в Смольном институте?» – «Ну, да. Но для „не благородных девиц“» (там в районе было такое учреждение, тоже – Смольный). Я видала раз О. на концерте вместе с «Леночкой Анненковой» – оне танцевали «полечку Евреинова». Я не представляю себе О. А. ни серьезной актрисой, ни серьезной балериной; но куклы ее были первоклассной интересности и прелести.
Я никогда не была в Фонтанном доме, но на другой квартире С. и А. была – Фонтанка, угол набережной. Это ныне Фонтанка № 2. Оне переехали.
Памятно мне следующее – еще когда я была маленькой, моя сестра Маруся читала «Обрыв» и, вероятно, волновалась за судьбу Веры. Помню, она мне рассказывала о комнатах Веры и Марфиньки. Очень подробно. И вот, ее рассказ (а не собственное чтение романа) вспомнился мне! Комната Ахматовой (с окном на Неву) – скорее темная, мрачноватая, никакой мебели не помню. Но вид на Неву был как бы самой комнатой.
А комната Ольги Афанасьевны (в другую сторону) выходила во двор. Зеленые грядки, похожие очень на сад-огород средневековья в Италии, – с картины «Св. Георгий и дракон» – солнечная зеленая картина.
Я не помню Лурье – а сплетни соединяли его с обеими подругами. И говорилось (подробностей, конечно, не помню), что он обманул их обеих, уехав за границу с Тамарой Персиц. Одоевцева говорила об особой симпатии Кузмина к двум Тамарам. Это чепуха! К. обожал Карсавину, ни о ком из людей он не говорил с такой любовью и восхищением. «Тяпу» (Персиц) он просто упоминал всегда очень симпатично, но не без насмешки, как о всех почти людях.
Она дольше других оставалась в Ленинграде, получала журнал «Vogue» и, по словам Юры и Кузмина, «плевалась» на Лурье, – что оказалось – наоборот – влюбленностью в него! Забыла, что говорили про его музыкальные таланты. Т. Персии училась в моей гимназии (Лохвицкой), как будто, с Верой Сутугиной, – но старше меня, и я их в детстве не помню.
Я еще в гимназии слыхала о «Бродячей собаке», но не была, конечно, никогда. Да и в «Привал»{186} попала только после закрытия «Привала». Я с восторгом смотрела на «Судейкинский зал», Яковлева и Григорьева – не помню. Сидела в «Судейкинском гроте», но не помню златоволосую Судейкину. Наоборот, за спиной круглого диванчика, на котором я сидела, было изображение ложи с дамой-брюнеткой (?). Ко мне подсел Маяковский, и я рассердилась, так как хотела поговорить с Колей Щербаковым, а вовсе не быть наказанной потом из-за Маяковского! М. был любезен, велел мне встать и одобрил мой рост. Я, желая его выкурить, говорила резко, что он, мол, не поэт. Он спросил, кто, по-моему, поэт. Я ответила: «Верлен и Блок». Он сказал, что он тоже любит В. и Б., но что и он «поэт тоже, поверьте мне».
Я помню какую-то «приваловского репертуара» песенку (чья?): «Совершенно непонятно, почему бездетны вы…»
Я потом входила (после наводнения?{187}) в подвал «Привала». Было похоже на размытые водой христианские катакомбы. Точно когда, не помню.
Вид Марсова поля и соскоблившаяся живопись Судейкина очень напоминает Ахматовскую «Поэму без героя». «Маскарад» Головина – Мейерхольда и «Привал» Судейкина – это, мне кажется, трагический (и парадный) финал XIX века.
Не знаю, как уезжала О. А. из России, но я радуюсь «бессмертию» моей тезки. Помню, что она «гулила», расставаясь с «Федором Кузьмичем», нечто не совсем серьезное: «Кого теперь Федор Кузьмич по попе хлопать будет?»{188}
Почему я не спрашивала о «Мальтийской капелле»{189} – не знаю. Но я слыхала что-то об этом – задолго до «Поэмы без героя». И мне было любопытно – но не спросила.
18.01.78.
Отношение Гумилёва к Судейкиной было очень плохое – как и к Палладе. Наоборот, к Судейкину очень хорошее. Его картина «Отплытье на остров Цитеру» висела у него над кроватью. Исчезновение ее я восприняла как первое явление несчастья.
А Гумилёв в поезде все повторял старые стихи Мандельштама:
Сегодня дурной день,
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень —
Мрачней гробовых плит.
Мелькающих стрел звон
И вещих ворон крик…
Я вижу дурной сон,
За мигом летит миг.
Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть,
И яростный гимн грянь.
Бунтующих тайн медь!..
О, маятник душ строг.
Качается глух, прям,
И страстно стучит рок
В запретную дверь к нам…
(1911)
Это из записи Одоевцевой. По дороге из Бежецка в Ленинград. В вагоне, неотвязно… (Конец 20-го года.)
А вот история В. Князева и Ольги Афанасьевны.
У меня была знакомая (в детстве) Нора Сахар. Я встречала ее в доме Сони Черновой, и эта Нора очень хотела дружить с Соней, но та была дикарка и не очень рвалась в эти гости. Уже взрослая, я где-то встретилась с этой Норой, и она вскоре уехала (совсем) за границу. Мне рассказал А. Н. Савинов – Нора запомнила меня в этот раз и забыла о детских встречах с Соней. А по дороге в Париж Нора была в Берлине, когда, как будто, было нашествие русских, и Нора встретилась с Ольгой Афанасьевной. Она подошла к ней и смело спросила ее о романе О. А. с Князевым: «Он застрелился из-за вас?» – Прелестный ответ Ольги Афанасьевны: «Ах, нет, к сожалению, не из-за меня». Бедный Князев был в Риге, где к нему подкатилась какая-то офицерская (или генеральская) дочка. Князев не пренебрег ею, но не хотел жениться, а она пошла к начальнику жаловаться, и тот призвал Князева и требовал от того, чтобы он восстановил честь девушки. Бедный Князев застрелился на лестнице у себя. Юра говорил, что Кузмина остановила (на извозчике) мать Князева и сообщила ему печальную весть. Кузмин очень спокойно и бесстрастно принял это известие. Юра огорчился за покойного. Я помню старичка Князева (отца), который у нас на драматических курсах читал курс эстетики. Его лекции и книга были очень скучные, подробно я ничего не помню, я тогда не знала о родстве отца Князева с молодым, воспетым Кузминым и Ахматовой. Юра вскользь рассказал как-то, что Ахматова швырялась (на улице) к Кузмину и очень яростно его бранила за Князева. Меня это удивило, но не слишком, и я подробно не узнала (и не спросила) ничего. Надписи Князева к Кузмину очень нежные, впечатление, что он или любил, или очень почитал Кузмина, как поэта. Одну фотографию я подарила Гене Шмакову, а другая, по-моему, оказалась у В. Петрова.
<1978>








