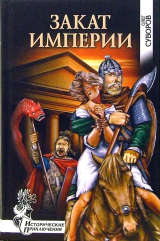
Текст книги "Закат империи"
Автор книги: Олег Суворов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
Глава 10. У ФЕОДОРЫ
Кубикул[28]28
Спальня.
[Закрыть] знаменитой гетеры способен был пробудить мужскую чувственность даже в отсутствие самой хозяйки. В нём преобладали два цвета – красный и золотистый. Красными были колонны, облицованные каррарским мрамором, дорогие персидские ковры и покрывала, золотистыми – непристойные фригийские статуэтки, изображавшие фавнов с возбуждёнными мужскими достоинствами гигантских размеров и нимф в самых откровенных позах. На стенах в окружении неярких светильников, излучавших не только свет, но и аромат мускатного ореха, касия и амбры, висело несколько картин, иллюстрирующих самую откровенную элегию знаменитой «Науки любви» Овидия:
Женщины, знайте себя, и не всякая поза годится.
Позу сумейте найти телосложенью под стать.
Та, что красива лицом, ложись, раскинувшись навзничь,
Та, что спиной хороша, спину подставь напоказ.
Миланионовых плеч Аталанта касалась ногами,
Вы, чьи ноги стройны, можете брать с них пример
И на пологе огромного ложа была выткана именно эта сцена, изображавшая Меланиона, сидящего на коленях перед Аталантой и держащего на своих плечах её стройные ноги. Глаза девушки были полузакрыты, губы полуоткрыты, а смущённое и раскрасневшееся лицо отвёрнуто в сторону от страстно взирающего на неё прекрасного юноши.
Впрочем, ни Корнелий Виринал, ни Максимиан в этот момент уже не замечали ничего окружающего. Обнажённые, они стояли на коленях на ложе, а Феодора, на которой не было ничего, кроме золотых ручных и ножных браслетов, а также тонкого витого пояса, раскачивалась между ними, всё более убыстряя темп. Максимиан придерживал её обеими руками за талию, Корнелий – за затылок, и оба вздыхали, кусали губы и закатывали глаза. Да, Феодора в совершенстве владела искусством доводить мужчин до исступления, а ведь ещё несколько минут назад они весело перемигивались и обменивались неприличными жестами. Но этот неистовый темп, сопровождаемый вакхическими мелодиями, льющими откуда-то сверху, эти невыносимо сладостные содрогания красивой развратницы с распущенными волосами, эта неутомимо-неистовая работа её языка, губ и бёдер довели обоих до безумия. И сама Феодора, казалось, уже совсем не играла, а полностью отдалась экстазу, заполняя своими томными стонами и хриплыми вздохами полутёмное пространство спальни.
Ещё мгновение, ещё – и из обоих юношей практически одновременно полились бурные потоки кипящего семени, а она наслаждалась этим, впитывая его в себя словно губка. Наконец оба обессиленно упали на ложе, а Феодора, проворно соскользнув на пол, томно улыбнулась им и исчезла за занавесом, оставив друзей одних Но не успел ещё Корнелий поинтересоваться впечатлениями Максимиана, впервые посетившего знаменитую гетеру, не успел ещё юный поэт слабо улыбнуться и закатить глаза, как перед обоими сладострастниками возникли две юные рабыни в прозрачных одеждах, которые молча взяли их за руки и повели за собой.
Они прошли в баню, совершили омовение, освежились в бассейне и уже затем завели разговор, нежась на соседних ложах от лёгкого, дразнящего массажа, который им делали рабыни, втирая в белую кожу юных патрициев душистый египетский бальзам.
– А куда делась сама Феодора? – вяло спросил Максимиан, краем глаза любуясь стройными ногами рабыни, которая в этот момент растирала плечи Корнелия
– О, она, видимо, пошла удовлетворять свою страсть с двумя другими посетителями! Помнишь, как там у Эсхила.
Безумной похоти женской класть
Опасней чудищ, страшнее бури?
А о сладострастии Феодоры ходят легенды. Но согласись, что ты не напрасно поддался на мои уговоры и пришёл сюда?
– Согласен, ибо подобной роскоши и совершенства я не встречал ни у одной другой гетеры. А почему она так поспешно скрылась? Мы её ещё увидим?
– Да, когда будем готовы повторить наш подвиг, – усмехнулся Корнелий. – А скрылась она потому, что слишком хорошо разбирается в мужчинах и знает, что нужно для скорейшего пробуждения страсти. Вот она и дала нам передохнуть и насладиться этими чудными рабынями... Когда же они своими нежными ручками снова пробудят в нас желание, то ускользнут, как ящерки, и позовут свою хозяйку.
– Я ещё не совсем оправился от своего ранения, ведь прошёл всего месяц, – сказал Максимиан, – зато...
– Зато спокойнее относишься к Амалаберге и даже позволил мне затащить тебя сюда.
– Дело не в ней, – с затаённым оттенком грусти заметил Максимиан, – дело в другой, благодаря которой я не то чтобы исцелился, но... Помнишь, я рассказывал тебе о том, как на следующий день после моего ранения меня пришёл навестить Северин Аниций со своей дочерью?
– Я даже помню, как ты, находясь в бреду, принял её за ангела...
– О, я и сейчас думаю, что не ошибся. Ведь она приходила потом ещё несколько раз, помогая моему врачу выхаживать меня. Это не девушка, а чудо! Она подобна Психее, так же красива, нежна и скромна. Я... я настолько переполнен новыми чувствами, что не могу облечь их в подходящую форму, не могу написать ни одной элегии! Эти чувства слишком сильны и необычны, а слова и метафоры кажутся слишком слабыми и банальными, чтобы можно было хоть что-то выразить. Оказывается, чувственное желание легче изложить в стихах, чем ту невероятную, просветлённую нежность, которую я испытываю к Беатрисе.
– И при этом продолжаешь оставаться женихом Амалаберги!
– Увы!
– Увы?
– Я же тебе сказал, что пока не могу разобраться в своих чувствах, – со вздохом пояснил Максимиан. – Порой мне кажется, что я желаю эту надменную готскую принцессу гораздо сильнее, чем прежде, стремлюсь увидеть её перед собой обнажённой, овладеть ею с такой силой, чтобы она застонала жалобно и покорно... Я хочу увидеть её слабость и слёзы! Иногда я просто задыхаюсь от злобы и в такие моменты боюсь потерять Амалабергу, чтобы не сойти с ума от ненависти к ней.
– А Беатриса?
– Не знаю, люблю ли я её уже или нет, не знаю! – так отчаянно выкрикнул Максимиан, что обе рабыни удивлённо переглянулись.
– Да, дружище! – насмешливо заметил Корнелий, переворачиваясь на спину и делая знак белокурой бледной рабыне, смотревшей на его мужскую наготу откровенно оценивающим взглядом, принести вина. – Ты похож на осла, которому хочется и воды, и сена, но они находятся от него на равном расстоянии, и он стоит на месте и не знает, на что решиться. А хочешь, я дам тебе один совет?
Хочу, только «не впрягай же уст в повозку слов недобрых», – и Максимиан процитировал Эсхила, как несколько минут назад это сделал Корнелий. Когда-то оба приятеля соревновались между собой в знании греческой классики и с тех пор даже изобрели свой особый язык, переговариваясь при посторонних цитатами из Эсхила, Софокла, Еврипида или Аристофана и при этом прекрасно понимая друг друга.
– Чтобы помочь тебе сделать выбор, я могу начать ухаживать за одной из твоих красавиц, а то, пожалуй, и за обеими. Ничто так не пробуждает интереса к женщине, как соперник.
Максимиан удивлённо посмотрел на своего друга.
– Ты шутишь? Ты всерьёз хочешь стать моим соперником?
– Но ты же не можешь жениться на обеих, мы всё-таки не персы! Как только ты решишь, какая из двух тебе дороже, я тут же утешу проигравшую...
Поняв, что Корнелий говорит вполне серьёзно, Максимиан задумался, затем, отстранив рабыню, закутался в поданное покрывало и сел на ложе. Виринал же невозмутимо попивал принесённое вино, ожидая решения своего друга.
– В твоих словах есть резон, – наконец пробормотал Максимиан. – Но учти, ты сам вызвался, и не мне тебя предупреждать, как метко стреляет Амалаберга!
Виринал громко расхохотался.
– Так, значит, ты уступаешь мне свою воинственную готскую невесту, а сам, как истинный буколический поэт, будешь ухаживать за робкой и скромной пастушкой? Браво, Максимиан, но раз уж ты принял мой первый совет, то позволь дать тебе и второй!
– Ты заманил меня к Феодоре для того, чтобы учить обращению с женщинами?
– Согласись, что это самое подходящее место!
– Если бы все женщины были подобны этим, то и поэзия была бы не нужна.
– Ты почти угадал, ибо поэзия – это удел возвышенных душ, а я хотел предостеречь тебя от излишней доверчивости.
– Доверчивости? – Максимиан не понял своего друга. – Что ты имеешь в виду?
– Я скажу, только, пожалуйста, сохраняй благоразумие. – Виринал устремил на него внимательный взгляд и вдруг спросил: – А ты уверен, что Беатриса – дочь Северина Аниция?
Изумление Максимиана было столь велико, что Корнелий так и не дождался ответа, а потому продолжил:
– Не удивляйся моему вопросу, а просто задумайся над тем, каким образом немолодой мужчина может скрыть от своей старой жены юную возлюбленную, нисколько её при этом не скрывая...
– Ты говоришь мерзости! – с негодованием воскликнул Максимиан. – И я прощаю тебя лишь потому, что ты слишком мало знаешь благородного Аниция, хотя и позволяешь себе делать такие предположения!
– И при этом я совсем не настаиваю на своей правоте, – словно не замечая раскрасневшегося лица друга, спокойно сказал Корнелий, – а просто размышляю вслух о том, что бы я сделал на твоём месте, дабы не оказаться последним ослом и увериться в добродетели своей возлюбленной... О, ты можешь притворяться, что не желаешь меня слушать, поэтому я скажу это не тебе, а вон тому каменному болвану, который так похож на пьяного Конигаста, – и Виринал насмешливо кивнул в сторону статуи обнажённого Геракла, неудачной латинской копии с греческого оригинала. – Ты, помнится, что-то рассказывал мне о том конюхе, который влюбился в рабыню, купленную его хозяином? Ты спас его от преследования, поместил его в дом Боэция, так почему бы тебе не... Всё, всё, умолкаю, – раздражённо воскликнул Корнелий, заметив гневный жест Максимиана, – и больше ничего тебе не буду советовать до тех пор, пока ты сам меня об этом не попросишь! Чем гневаться на меня, лучше пойди, возьми плеть и отстегай Феодору. Некоторым гостям она это позволяет, хотя и берёт потом тройную цену...
Павлиан чувствовал себя на вершине блаженства: его хозяину Арулену была выплачена стоимость украденного жеребца, и он пообещал оставить своего бывшего конюха в покое, но щедрый первый министр королевства выкупил и прекрасную рабыню-иберийку, взяв её в свой дом. Павлиан теперь тоже служил у Боэция, поэтому мог почти каждый день видеться со своей возлюбленной, которой уже давно простил того злополучного нумидийца, как истинный поэт утешая себя мыслью о том, что женщины, созданные для любви, не ведают стыда.
Оказалось, что иберийка почти не знает латинского языка, и теперь Павлиан с помощью знаков, жестов, а порой и поцелуев пытался научить её простым словам и фразам. Кроме того, он научил её ездить верхом, в благодарность за что прекрасная иберийка, которую звали Ректой, подарила Павлиану кушак, расшитый её собственными руками. Когда она немного освоилась с языком и смогла рассказать о себе, Павлиан узнал, что на своей родине, в Испании, она была замужем и у неё двое детей. Мужа Ректы убили во время той самой стычки между её родным племенем и готами Тевда, её с детьми захватили в плен. Их разлучили, Ректу отправили в Равенну, и о дальнейшей судьбе своих детей она ничего не знала.
Павлиан жалел её, хотя втайне радовался гибели её мужа. Сам он однажды был женат, но женщинам предпочитал лошадей. Первый министр, перед которым Павлиан искренне благоговел, сообщил ему о предстоящем поручении и обещанной награде. Вчера он сказал своей иберийке, сжимая её сильные смуглые руки и заглядывая в её всепонимающие чёрные глаза:
– Скоро я должен буду съездить в Константинополь, а когда вернусь обратно, то получу много денег и тебя в придачу. Я дам тебе свободу и женюсь на тебе. А потом мы купим дом в деревне и заведём своих собственных детей. Ты понимаешь, что я говорю?
Она кивала, улыбалась, и Павлиан был счастлив. Однако, незадолго до его отъезда – по договорённости с Боэцием он должен был отправиться в Константинополь по суше, поскольку плохо переносил морскую качку, – произошло одно странное событие, которое несколько встревожило суеверного конюха.
В тот день он вышел в город и отправился на площадь перед цирком Флавиана, где собирались свободные римские граждане, чтобы послушать ораторов, призывавших горожан помнить о том, что они прямые потомки и наследники великой Римской империи. В толпе шныряло немало шпионов королевской цензуры, которые на самом деле были агентами тайной политической полиции, поэтому разговоры велись достаточно осторожно, но особой откровенности не требовалось, поскольку все до одного римляне тосковали по тем временам, когда они были властелинами мира, а варвары – их покорными подданными.
– С помощью Византии Рим обязательно возродится! – негромко говорили одни.
– Но ведь византийцы не столько римляне, сколько греки! – возражали другие. – Греция была одной из самых захудалых наших провинций. Нет, возрождение должно прийти только через Рим, который снова станет величайшим городом мира.
Особые надежды собравшиеся возлагали на сенат и его главу Симмаха, а также на первого министра Боэция. Оба считались «истинными римлянами», а имя Кассиодора вызывало всеобщую ненависть.
Среди этих римских ремесленников, торговцев, моряков, слуг, колонов больше всего было тех, кто еле сводил концы с концами, а то и откровенно пользовался щедротами готского короля, возродившего давнюю традицию бесплатной раздачи хлеба и вина, а также организации различных зрелищ для плебса. Но именно они-то и ненавидели Теодориха больше всего, считая его главным виновником своих бед. Самые же преуспевающие чувствовали себя несчастными и обделёнными оттого, что являются гражданами всего лишь варварского королевства, а не величайшей империи в мире. Наиболее страшным обвинением среди собравшихся было обвинение в дружбе или просто в симпатиях к готам. Те, кто призывал к сотрудничеству со своими нынешними покорителями, которые, кстати, тоже старались не смешиваться с римлянами и селились отдельными колониями в деревнях или отдельными кварталами в городах, с позором изгонялись, а то и побивались палками. Стоило появиться городской страже, состоявшей из вооружённых готов, тогда как римлянам запрещалось носить оружие, собравшиеся начинали обсуждать результаты очередных скачек.
Павлиан издавна пристрастился к подобным сборищам, а с тех пор, как начал служить у первого министра, стал удостаиваться особого внимания собравшихся. На этот раз его даже попросили выступить, и он не удержался от искушения – влез на ближайший камень и под громкие аплодисменты заявил, что «римляне – величайшая нация в мире, которой самим Богом даны права господства над всеми остальными. А все наши беды произошли от чрезмерного великодушия и доверчивости к тем варварам, которых мы пустили на свою территорию».
Однако на обратном пути к дому Боэция, когда воодушевление уже прошло, он понял, что хватил лишку, и всю дорогу испуганно оглядывался. И вдруг он заметил за спиной закутавшегося в плащ человека со смуглым морщинистым лицом. Темнело, поэтому Павлиан не стал вглядываться в своего преследователя, а поспешил ускорить шаг.
– Прекрасная речь, произнесённая прекрасным оратором!
Павлиан вздрогнул и остановился. Незнакомец подошёл вплотную, откинул капюшон плаща, и конюх, к своему величайшему облегчению, узнал в нём раба Боэция по имени Кирп. Это меняло дело, а потому данную похвалу можно было воспринять с удовольствием.
– Ты тоже слышал мою речь? – спросил он.
– Не только слышал, но и аплодировал.
– И ты разделяешь всё, о чём я говорил?
– Да, хотя от рождения я не римлянин, а сириец.
Это признание заставило Павлиана насторожиться, и Кирп не преминул это заметить.
– Чему ты удивляешься? – насмешливо произнёс он. – Тому, что лучше быть рабом в столице империи, чем господином на её окраине? Но разве служба такому человеку, как magister officiorum, не является величайшим благом? А поскольку наш господин хочет величия Рима, того же должны хотеть и его слуги!
– Я никогда не слышал от него подобных речей, – осторожно заметил Павлиан.
– А ты и не мог их услышать, ведь ты проводишь своё время или в обществе его лошадей, или в обществе его рабынь. Точнее говоря, одной рабыни...
– Откуда ты знаешь? – удивился Павлиан. Они уже проходили центральную рыночную площадь Равенны, сворачивая на Римскую улицу, которая вела к дому первого министра.
– О, знания буквально носятся в воздухе, – беззаботно махнул рукой Кирп, – и нужно только иметь хороший нюх, чтобы суметь их уловить. – И он для вящей убедительности с шумом втянул воздух широкими ноздрями своего короткого носа.
– Скажу тебе больше, – добавил Кирп после небольшой паузы. – Я знаю и о том, что вскоре тебе предстоит дальнее путешествие, по возвращении из которого ты получишь свою прекрасную иберийку.
– Откуда ты всё это знаешь? И вообще, что тебе от меня надо? – глухо спросил Павлиан, которому всё меньше нравился этот странный собеседник.
– Да ничего, – ещё более беззаботным тоном заявил сириец, – могу лишь напомнить тебе двустишие одного замечательного митиленского поэта Архия:
Те, кто живут, те всегда подвергаются бедствиям разным;
Тот же, кто умер, нашёл верное средство от бед.
– Пошёл прочь, собака! – яростно закричал конюх и, размахнувшись, обернулся к рабу. Кирпа уже не было рядом. Улица опустела, лишь издалека доносились пьяные вопли двух подгулявших моряков. Павлиан поёжился, огляделся по сторонам и, решив, что сириец скрылся в одном из ближайших закоулков, которые чёрными прямоугольниками темнели между стенами домов, направился дальше. Но теперь его уже не оставляло какое-то скверное предчувствие, и, чтобы избавиться от него, он постарался заставить себя думать о Ректе.
Глава 11. ВО ИМЯ ГРЯДУЩЕГО
«Странно, – думал Боэций, сидя за овальным столом из лимонного дерева в своей любимой библиотеке, – что имел в виду мудрейший Платон, когда говорил, что государством должны управлять философы? Да, безусловно, поскольку государству необходимо руководствоваться идеей блага, а её лучше всего понимают именно философы, постольку им и надлежит проводить эту идею в жизнь. Безусловно также и то, что ради помощи всем добродетельным и порядочным людям и защиты их от безответственных глупцов и негодяев во главе государства должны стоять те, кто снискал всеобщее уважение своей мудростью, знаниями и справедливостью, то есть опять-таки философы... Но неужели же Платон не понимал того, как много времени отнимают повседневные государственные дела? Один посетитель терзает меня разговорами о своих тяжёлых бедствиях, виною которых стала его собственная скупость, другой жалуется на столь незначительные притеснения и ущемления своих прав, что вопрос о них вполне мог бы решить даже городской префект. Третьи втягивают в самые яростные дрязги и раздоры, а четвёртые готовы обвинить и меня самого во всех тех делах, к которым я не имею ни малейшего отношения. А сколько времени отнимают заботы о своевременной доставке в город продовольствия, сколько дней уходит на устранение нелепейших бюрократических неполадок, сколько раз на день я вынужден не просто отдавать приказания, но ещё и назначать бдительных судей, которые бы следили за их исполнением!.. Я стал забывать о собственных философских занятиях, став первым министром! Занимаясь делами, я перестаю быть философом! Поэтому мне и странно, что великий Платон говорил о них как о лучших правителях государства... Но, может быть, всё объясняется тем, что он сам был весьма далёк от реальных государственных дел и, создавая в своей академии проект идеального государства, воспарял мыслью слишком высоко? Хотя и пытался убедить Дионисия Сиракузского создать подобное государство на Сицилии, но что бы могло выйти из этого? Странное противоречие. Философы должны думать об истине, любить истину, искать истину; их занятие – Бог, Фортуна, Благо, а снабжать города продовольствием следует администраторам».
Боэций устало потёр лоб и приподнял голову. Тишина и полутёмный покой царили вокруг, лишь снаружи, из перистиля[29]29
Прямоугольный двор с бассейном посередине, окружённый с четырёх сторон колоннадой.
[Закрыть], доносился слабый плеск фонтана. Загадочно замерли любимые статуи древних богов и героев, неясными силуэтами темнели картины с изображениями пейзажей и исторических сцен. Но не было среди них ни одной, написанной на библейский сюжет, как не было в комнате и распятия, хотя и имелся экземпляр Библии. Комнату освещала единственная масляная лампа, стоявшая перед ним на столе, её блики отражались на стёклах книжных шкафов из слоновой кости, за которыми высились бесконечные ряды книг. Сколько их уже прочитано и написано, сколько отдано четырём домашним писцам! Но сколько ещё он собирался сделать, пытался сделать и делал до тех пор, пока не занял свой нынешний пост!.. Старинная пословица гласила: habeat sua fata libelli[30]30
Книги имеют свою судьбу (лат.).
[Закрыть], хотя, конечно же, это относилось к настоящим книгам, тем, которые переживают своих создателей. И Боэций заботился о судьбе таких книг едва ли не так же, как о судьбе собственных детей!
Слишком мало людей теперь знали греческий, а потому надо было перевести на латынь сочинения двух величайших философов – Платона и Аристотеля, надо было дать к ним комментарии и попытаться доказать, что различия их грандиозных систем не столь велики и имеются пути к примирению. Но пока он успел перевести только некоторые логические трактаты Аристотеля из его знаменитого «Органона», да ещё комментарии к ним Порфирия. Он даже не сумел взяться за «Метафизику».
Кроме того, ещё в молодости, основываясь на трактатах греческих и латинских авторов, Боэций написал ряд учебников по арифметике, геометрии, музыке и астрономии – учебным дисциплинам второго цикла, названного им «квадривиумом», в отличие от первого, состоявшего из грамматики, диалектики (то есть логики) и риторики, который назывался «тривиумом»[31]31
Отсюда русское слово «тривиальный» – то есть «известный всем».
[Закрыть]. Был ещё и ряд собственных логических сочинений, но на божественного Платона просто не хватало времени! И перед первым министром поневоле вставал вопрос: если не хватает времени даже на то, чтобы передать грядущим векам одного из величайших философов веков прошлых, то какой же жизнью он живёт? В чём её смысл? Что оставит он после себя и с чем войдёт в историю культуры? А ведь в смутные времена, тянувшиеся с момента распада империи, рукописи так легко гибнут, уничтожаются, теряются. Скольких сокровищ мысли может недосчитаться человечество, если сейчас даже он, человек, лучше кого бы то ни было понимающий значение культуры, ищет не рукописи, а продовольствие, спасает не великие мысли, а голодный плебс!
Боэций вздохнул и вновь притянул к себе старый свиток, недавно доставленный Кирпом. Эта рукопись содержала в себе копии с некоторых считавшихся утраченными писем знаменитого киника Диогена, причём одно из этих писем настолько шокировало своей откровенной непристойностью, что Боэций поневоле задумался над странной проблемой: стоит ли сохранять для потомства слабости и пороки великих людей? Не лучше ли скрыть эти пороки и не марать облик тех, кто может стать объектом для подражания? Какую пользу принесёт будущим поколениям знание тех плотских мерзостей, которых отнюдь не стыдились некоторые мудрецы?
Вот что содержало это письмо Диогена, в котором он описывал Сополиду своё посещение милетской палестры[32]32
Гимнастическая школа для мальчиков в городе Милете.
[Закрыть].
«...Сняв с себя плащ и взяв скребок, я вышел на середину и намазался маслом. Вскоре прямо ко мне по местному обычаю подошёл юноша с очень красивым лицом, ещё без бороды. Он протянул мне руку, пробуя, насколько я опытен в борьбе. А я, вроде бы застеснявшись, стал притворяться, будто совсем ничего не умею. Но, как только мне стало угрожать поражение, я схватился с ним по всем правилам искусства. Вдруг у меня неожиданно «встал конь» (других слов я не рискую употребить, опасаясь оскорбить почтенное общество), мой партнёр смутился и убежал, а я, стоя, довёл дело до конца, обойдясь своими средствами.
Это заметил надсмотрщик, подбежал и стал бранить меня. «Послушай, – обратился я к нему, – если бы существовал обычай после умащивания маслом нюхать чихательный порошок, ты бы возмущался, если бы кто-то из умастившихся чихнул в гимнасии? А теперь ты негодуешь, когда у человека, обнявшегося в борьбе с красивым мальчиком, невольно поднялся член.
Не полагаешь ли ты, что наш нос целиком зависит от природы, а вот он всецело находится в нашей власти? Перестань бросаться на входящих и, если хочешь, чтобы ничего подобного не случалось, убирай отсюда мальчиков. Ты уверен, что твои инструкции способны усмирить то, что от природы рвётся в бой, когда сплетаются в борьбе мужчины с юношами?» Я всё это высказал надсмотрщику, и он удалился, а я, подняв свой плащ и котомку, направился к морю».
Боэций снова задумался. Стоит ли философу или историку бояться нареканий переменчивой черни? Ведь умные люди поймут, а, рассчитывая на дураков, нельзя думать о будущем.
Действительно, умные люди поймут... Да и не может он брать на себя ответственность цензора, он, который добровольно взял на себя роль сохранителя культуры! Это письмо Диогена надо обязательно сохранить для будущего наряду со всеми другими его письмами.
Боэций поднялся с кресла и задумчиво прошёлся по комнате. Будущее, будущее, будущее... Что-то в последнее время он стал слишком часто думать о нём, забывая, а то и пренебрегая сиюминутными проблемами. Даже письмо к Иоанну было написано совсем недавно, а гонец отправился в Константинополь всего два дня назад. Нет ли в этом нетерпеливом желании заглянуть в грядущее какого-то предзнаменования? Исторического нетерпения? Попытки понять свою значимость и тот самый высший смысл, который содержит в себе судьба каждого человека, приходящего в этот мир времени и уходящего из него в забвение или в вечность?
Но что такое вечность и что такое время? И как они соотносятся друг с другом? Вечность проста и неделима, в ней нет «до» и «после», прямо противоположные качества принадлежат времени. В вечности господствует Божественное провидение, которое созерцает факты бытия всё и сразу, а во времени смятенно мечется человеческая свобода. Провидение так же просто и неизменно, как центр колеса Фортуны, и именно там пребывает разумная и свободная воля Бога. А все постоянно движущиеся концентрические круги на этом колесе – это судьбы созданных Богом творений, это их внутренние законы, управляющие жизнью творений во времени и пространстве. Чем дальше от центра, тем ощутимее движение колеса Фортуны, чем ближе к центру, тем больше свободы от тлена и изменения обретает человек. Только в вечности и неизменности есть бессмертие и полная свобода, а наша временность и изменчивость обрекают нас на смерть и рабство! И как страшно представить поэтому, что не существует ничего вечного и неизменного, нет никакого Бога, а в мире царит лишь закон постоянного развития и изменения! Но ведь если нет ничего неизменного, то как бы мы узнали об изменениях? Рыбы не подозревают о том, что плавают в воде, до тех пор, пока не оказываются выброшенными на сушу. Так же и мы не знали бы о наличии времени, не будь в мире чего-то вечного.
Нет, конечно же, Бог существует, Всемогущий и Всезнающий, хотя Его Всезнание отнюдь не лишает человека свободы. Пусть Богу известно будущее, но он знает его лишь как настоящее, поскольку в вечности нет перехода от прошлого к будущему, а всё существует сейчас и сразу. Мы знаем прошлое и настоящее – и тем не менее свободны! Если я наблюдаю за наездником и знаю, как управлять лошадью, то это моё знание никак не влияет на его собственную способность управлять. Так же и Бог, предвидя все наши поступки, не вмешивается в нашу свободу... Не вмешивается? Но почему? Почему он разрешает существовать злу и злодеям, почему допускает несчастье достойных? Значит, он Всезнающ, но не Всемогущ? Или всемогущ, но не Всеблаг?
Много раз философ задавал себе эти вопросы, чувствуя себя при этом на краю беспредельной бездны незнания, бездны, в которой таились ответы на самые главные вопросы мироздания, жизни и смерти. И без ответа на них невозможно было ни жить достойно, ни умереть спокойно! Но как найти эти ответы, не доводя себя до мистического экстаза, стирающего все границы пространства и времени и позволяющего приобщиться к Единому Первоначалу? Другой путь – это логика, это строгое осмысление тех понятий, которые позволяют проникнуть в самую суть бытия – если только принять за аксиому, что у бытия есть эта сокровенная суть! И Боэций шёл именно этим путём, переводя с греческого старые и создавая в латинском языке новые философские понятия.
«Субстанция» – то есть то, что лежит в основе и чему принадлежат неотъемлемые свойства – «атрибуты» и привходящие – «акциденции».
«Персона» – то есть уникальная личность, или неделимая субстанция рациональной природы. Но природа личности может быть не только «рациональной», но и «иррациональной», «интеллектуальной», «натуральной», «формальной», наконец![33]33
Слова в кавычках – это только немногие из тех терминов, которыми обогатил современный научный язык Северин Аниций Боэций.
[Закрыть]
Слова, термины, понятия, и за всем этим неистовая жажда истины и бессмертия! Если мы в состоянии познать истину о вечном, то она приобщит нас к бессмертию... Но кто даст гарантию в том, что принятое нами за истину именно ею и является? Логика! Однако в мире слишком много чудес, которые неподвластны её объяснениям и в которые приходится только верить... Любовь, например...
Боэций вздохнул и вдруг вспомнил о Беатрисе – милом напоминании о той любви, которой он уже никогда в жизни не испытает. Давно спустилась ночь, но ему захотелось прогуляться по саду, и он кликнул лампадария[34]34
Раб-факелоносец.
[Закрыть], чтобы тот сопровождал его во время прогулки. Проходя вслед за рабом через перистиль, он увидел, что на другой стороне бассейна на фоне белевшей колоннады стоят две тесно прижавшиеся друг к другу фигуры. Сначала Боэций лишь усмехнулся про себя, приняв их за домашних слуг, но, когда подошёл немного ближе, с неожиданным волнением понял свою ошибку. Это были Беатриса и Максимиан.
Никогда в жизни за все свои двадцать два года Максимиан ещё не знал счастья обладания любимой женщиной, хотя как поэт посвятил этой теме немало элегий. Некоторые из них даже снискали одобрение знатоков за тонкость метафор и изящество чувств, но всё это было не более чем имитация, свободный полёт воображения, а не переложенный в гекзаметры опыт. Конечно же, кроме гетер и рабынь, у него были лёгкие увлечения и приятные, хотя и не слишком запоминающиеся связи с некоторыми знатными женщинами. Все эти связи, начинавшиеся с откровенной и необузданной чувственности, так и не становились ничем большим, а потому и не могли претендовать на то чувство, которое, по уверениям древних поэтов, правит миром.
И только сегодня, когда он явился в дом Боэция и, даже не заходя к первому министру, велел рабу-номенклатору[35]35
Раб, в чьи обязанности входило делать доклад (сообщение) о прибывшем посетителе.
[Закрыть] доложить о себе его дочери, Максимиан наконец-то стал понимать, чем отличается любовь от обычной страсти. Они с Беатрисой долго гуляли по саду, разговаривали, сидели в беседках, любуясь фонтанами, озарёнными пленительно-пурпурными красками заката, и Максимиан, внимательно присматриваясь к девушке, стал испытывать какую-то всеохватную трепетную нежность. Беатриса была невысокой, но обладала идеально стройной и пропорциональной, без малейших изъянов фигурой. Её тёмные длинные густые волосы слегка кудрявились, что придавало бледному милому лицу девушки какое-то чуть-чуть плутоватое выражение. Губы, не тронутые помадой, имели естественный бледно-алый цвет, а тонкие брови и ресницы служили великолепной оправой драгоценным глазам.








