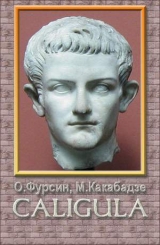
Текст книги "Калигула"
Автор книги: Олег Фурсин
Соавторы: Манана Какабадзе
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
Он сошел на берег вместе со своим дурачком. Оставив сенаторов на пентере.
– Проводи меня, глупый, – сказал принцепс Порциусу. – С тобой, дураком, всякая беда вроде как половина, не вся беда…
Порциус проводил. Правда, предварительно подхватил и прижал к груди свою чашу с полбой. Так и шел, обнимаясь с нею, косясь на императора, опасаясь. Дурак!
В покое брата, в башне на берегу, Калигуле показалось проще, легче, чем у матери. Он соперничал с братом. Чем меньше любви, тем легче потеря. Если нет любви, терять совсем нечего.
У высокого окна, с тем же мутным слюдяным просветом, нашел он свиток. Любимое чтение брата. То были цицероновские «Филиппики против Марка Антония»[232]232
Фили́ппика (др. – греч. οἱ (λόγοι) Φιλιππικοί – филиппики) – в переносном смысле обличительная, гневная речь. Термин принадлежит афинскому оратору Демосфену, который произносил подобные речи против царя Македонии Филиппа II в IV веке до н. э. (сохранилось четыре речи). Филиппиками в подражание Демосфену Цицерон называл свои речи, направленные против Марка Антония (в 44–43 годах до н. э. им были написаны и дошли до нашего времени четырнадцать таких речей).
[Закрыть]. Наверно, брат сочинял собственные филиппики. Против Тиберия, по примеру Цицерона. Только что же брал за основу Цицерона? Тот осуждал и Юлия Цезаря, и Антония, будучи республиканцем. Правда, Цезарю отдавал дань уважения, как человеку, к Антонию же ничего подобного не испытывал. Есть недостойные враги, Антоний был таким. Голова и руки Цицерона[233]233
Марк Ту́ллий Цицеро́н (лат. Marcus Tullius Cicero; 3 января 106, Арпинум – 7 декабря 43 гг. до н. э., Формия) – древнеримский политик и философ, блестящий оратор.
[Закрыть], привезенные Антонию и выставленные им на всеобщее обозрение, сказали народу римскому о душе Антония куда больше, нежели о смерти Цицерона. Смерть Нерона Цезаря, как и Агриппины, сказала о Тиберии больше, чем о Нероне…
Но что толку? Они умерли, а Тиберий все еще был жив и властвовал. Они умерли, они умирали страшно, а старик ласкал мальчиков в лазурной воде нимфея на Капри. Они умерли, а он ел, пил, наслаждался. Он жил еще долго. И умер легко, немного же и понадобилось Макрону… Проклятый старик, убийца, вор, растлитель, он и Нерона Цезаря оболгал, как Агриппину. Он обвинил его в разврате. Как же так получается, как, почему? Где справедливость богов и судьбы? И что противопоставить страху, что поселился в сердце? Ожиданию неминуемой беды, пришедшему именно сейчас, когда Калигула на волне успеха. Он был правнуком, внуком, сыном, братом людей, чьи жизни не складывались. Или нет, пожалуй, неверно определил. Чьи жизни обрывались страшно. Тех, кто умирал не в собственной постели, не собственной тихой смертью. Что он мог противопоставить этому?
То, что сказал отец когда-то, запало в сердце. Когда страшно, когда больно, когда зыбко, он повторяет себе: «Я римлянин. Я в Риме и Рим во мне». Это не спасает, кому знать, как не ему, Калигуле. Но это дает осознание причастности к чему-то великому. Это придает смысл тому бессмысленному, что случилось с отцом, матерью и братьями. Остановимся на этом, не будем искать дальше. Быть может, чтобы быть счастливчиком, как Поликрат, надо им быть. Собирать рукописи. Возводить роскошные постройки. Новые храмы. Водопровод. Вот, в Гаэте гавань расширить. Чтоб волны в открытом море оставались, а гавань стала тихою пристанью. Город растет, и летом сюда приезжают развеяться, подышать морем. Гавань, к Риму близкая, это хорошо. Что еще? Спросить дядю, он знает. Наверно, так: сделать Рим истинным пупом обитаемой земли. Собрать все умы. Все статуи, все искусство. Вернуть тех, кого выслали за мысль, за живое слово, если не самих, так рукописи. Ах да, Поликрат чеканил свои монеты. И это тоже, много всего, много. Много у него дел.
А когда принцепс, погруженный в деятельные мысли, выходил из того, что лишь с большим приближением можно было назвать атрием Нерона Цезаря, взгляд его упал на скромный оловянный кубок. Тот стоял прямо на каменном полу у постели брата. Вот и настигла боль, настигла все же! Ущемила, взяла в тиски сердце!
Как, какими судьбами попала эта вещица сюда? Из их общего прошлого вещица?
И вспомнилось принцепсу давнее, давнее уже. Как отделали они с братьями Луция Домиция Агенобарба. Яйцами, тухлыми яйцами!
Так получилось, что впервые нашел он общий язык со старшими Цезарями тогда. На удивление быстро. Стоило только прийти и сказать:
– А вам этот рыжий нравится? По-моему, он вонючка. Старый, сухой, с серой кожей. Зубы гнилые. Тухлятиной изо рта несет. А ему – Агриппину! Может, покажем старому… – и он употребил словцо, которое не одобрила бы никогда мать. Которое вынес из своих блужданий по Риму. В самом его сердце подобрал: на стыке Аргилета и Субуры. И выстроил еще целую фразу из подобных слов, для братьев, конечно, и ощутил при этом себя значимым, сильным, взрослым!
Как он и полагал, братья с подобной лексикой были знакомы. Они даже не посмеялись – они поржали вместе, и Нерон Цезарь одобрительно хлопнул его по плечу. Вместе составили диспозицию. Вместе искали наряды для постановки. И способ нашли, как яйца испортить, вместе, и Агенобарба выследили вместе, и друзей из среды братьев вычленили вместе, отбирали проверенных, да с именами громкими: так безопасней!
Выходка удалась. Луций Агенобарб завонял по-настоящему, так, чтоб все почувствовали. А они потом устроили веселую пирушку в квартале Субура. На равных был за столом Калигула с братьями. На равных пили вино, красное массикское, «по греческому обычаю», неразбавленным. Оно и без того было сладким, настоящее vinum dulce, а для Калигулы оказалось совсем сладким, praedulce. Его тогда приняли братья, он вдруг оказался своим среди своих. И так это ему был сладко!
И именно оттуда, из веселого заведения, унес Нерон Цезарь оловянный кубок с собою. Спрятал в салфетке и вынес! Калигула страшно удивился тогда. Дома посуда вся из серебра, много и позолоченной; да ее полно, посуды этой!
А брату понадобился кубок чужой, оловянный! И он его попросту украл!
Оказалось, Нерон Цезарь собирает кубки, из которых пил. Со всякого пира или пирушки. И уж собрал много. В покоях брата под его ложем их оказалось столько! Когда бы Агриппина проведала, вот было бы у матери недовольства и крику! Нерон тогда объяснил: «Это на счастье! На сладкую жизнь!» Такая примета у него, как оказалось.
И вот, оловянный кубок, память о той вылазке, о сомнительном молодечестве брата, стоит на полу. Облезлое оловянное имущество убогой каупоны в Субуре. Вот оно, сомнительное «счастье» брата!
Калигулу затрясло. У принцепса, у владыки мира, подгибались колени. И он опустился на пол, присел, прижимаясь к стене. Не удавалось никак стиснуть зубы, они выбивали дробь.
Тихонько приблизился Порциус. Он никак не мог упустить случая посидеть у стенки. Тем более, что на дне его миски осталась полба. Можно же ее доесть. Тогда дадут еще! Вот этот, что сидит у стенки, которого все называют Калигула, но только меж собой… так-то он зовется цезарь! Этот добрый. Он велит, и дадут полбу. Много полбы у него.
Посидели. Порциус ел полбу. Калигула пытался справиться с собой.
Порциус доел полбу. Отставил миску на пол, вздохнул глубоко. В его убогом сознании застряло слово «цезарь». Он напрягался, он думал, как умел думать. Потом изрек:
– Нерон Цезарь. Друз Цезарь. Гай Цезарь. Один Цезарь умер! Луций сказал, что Нерон Цезарь умер. Она кричала, как узнала. Моя пленница. Она громко кричала.
Калигула подобрался весь. Не было никого на острове из тех, кто когда-то был при Нероне Цезаре. Кого-то судьба унесла далеко, кто-то умер. Лишь неясные слухи передали ему, как сошел он на берег. Ни от кого не добился он правды. «Не ведаем, цезарь. Не знаем. Прости нас. Это было до нас. Никто нам не отчитывался; лишь цезарю Тиберию»…
А дурачок Порциус что-то знал!
– Как умер Нерон Цезарь? Что с ним случилось, Порциус?
– Палач… не знаю, что случилось. Сказали, должен прийти палач. Нерон Цезарь быстрый. Нерон Цезарь сам успел. Много крови, Нерон Цезарь молодой. Молодой, много крови. Луций сказал, что как свинья Цезарь. Много крови. Благородная, а цвет как у всех. И много ее, как из свиньи резаной…
Ненависть Калигулы к человеку по имени Луций, так глубоко познавшему цвет и ценность крови цезарей, обуяла императора. Собственная кровь гудела в жилах, билась в виски. Он думал о том, что распятие – цена небольшая. Очень небольшая цена за деяния того, кто звался Луций. Пожалуй, поторопился принцепс на Пандатерии. Можно было сделать по-другому!
Странное зрелище наблюдали сенаторы на острове Понца в разгар этого дня. Подобного не приходилось им видеть! Их пригласили присутствовать.
Сенатор Марк Виниций, вызванный Калигулой с корабля, где он оставался с утра, ходил. Ходил по приказу. Нет, пожалуй, по мягкой просьбе императора, из края в край острова. На месте, где это обычно разрешалось Нерону Цезарю. Тысяча шагов по пустынной площадке в одну сторону поперек острова. Тысяча обратно. От кромки воды до ее же кромки. Солнце палило нещадно. Ни облачка в небе, ни деревца над головой. Порциус шел рядом, считал шаги.
– Раз-два-три… пять… восемь… Раз-два-три… десять…
Изумленные сенаторы подошли к принцепсу, переминаясь с ноги на ногу, боясь спросить, что происходит. Гай Цезарь Август Германик, отслеживавший полет чаек над морем, долго молчал. Потом сказал им, не повернувшись даже лицом:
– А вы что стоите? Каждому десять раз туда и обратно! Давайте! Счет уж пошел. Раз-два-три… Десять!
Порциусу, хорошо знавшему, как умерли Нерон Цезарь и Агриппина, довелось еще узнать, как умер Друз Цезарь. По странному капризу своему, взял его император и в подвалы дворца Тиберия в Риме. Он собирал останки тех, кто были его родными, а Порциус был его спутником. И раз уж был им единожды, то почему не дважды? Мог бы, казалось, до плавания на Пандатерию сходить в подвалы Калигула. Его же дворец теперь, хоть исходи вдоль и поперек, можно! А вот решился только после возвращения в Рим. И взял с собой дурачка. Друзей у него нет, что ли? Бывает такое. У Порциуса был друг, Луций, теперь нет его.
Не так бледнел император, когда показали ему тюфяк, который изгрыз брат, умоляя о куске хлеба. Не так дрожал, глядя на сырые стены. Не так страшился темноты. Потому что Порциус, который как раз трясся не на шутку, держал императора за руку. Схватился, да и держал до самого выхода на свет. На Пандатерии, верно, страшного тоже много было, да Порциус боялся не чужой боли, а темноты и крыс. На Пандатерии-то их не было.
Расспрашивал Калигула много. Всех, кто мог что-либо сказать. Собирал пергамент, на котором записи: кто, сколько, чего принес в подвал. Посчитал дни пребывания в подвале брата. Посчитал людей, что окружали его. Был мрачен, был зол. Был резок.
Потом Рим увидел сына и брата у мавзолея Августа. Порциуса, правда, в мавзолей уже не брали. Чего людей веселить чужим горем. Дурачки не для торжественных процессий, они для домашнего употребления.
– Оставайся-ка дома, брут[234]234
В системе римских имен: главная часть имени – родовое имя – производилась от имени основателя рода. То, что соответствует нашему понятию фамилии, получалось добавлением к родовому имени названия отделившейся семейной ветви. Нередко это название происходило от прозвища, данного в свое время одному из младших членов рода. Например, слово «брут» означало «глупец» (откуда вовсе не следует, что все члены древней патрицианской семьи Юниев Брутов (из рода Юниев), к которой, кстати, принадлежал и убийца Цезаря, были так уж неумны).
[Закрыть], – сказал император Порциусу, в эти дни избравшему колени Калигулы в качестве своего приюта. – Ты людей боишься, а там их будет много. Я тоже их боюсь после всего, что видел. Но мне должно. А ты свободен. Я отчасти тебе завидую. Всего-то тебе и нужно, что полба, ну, может еще много полбы…
Агриппина, Нерон и Друз были обвинены когда-то в государственной измене. Общественный траур по perduellionis damnati был запрещен. Но не в этом случае. Рим вежливо забыл об обвинениях, выдвинутых ранее, Рим скорбел и преклонялся перед женой и детьми Германика. Плакали женщины в белом, плакальщицы пели, выкрикивали и вопили, рвали одежды на себе. Таверны, термополы и винарии закрылись, консулы пересели из курульных кресел на простые скамьи, магистраты сложили свои инсигнии, сенаторы переоделись в наряды всаднического сословия. Женщины отказались от украшений в эти дни, мужчины отпускали волосы на голове и лице, прекратились пиры, закрылись общественные бани, театры…
И снова стоял Калигула на коленях возле урны с прахом отца. Снова вел разговор.
– Я это сделал, отец. Мама и братья. Они в Риме. И Рим во всех нас! И в мертвых, и в живых. Рим оплакивает нас сегодня. У меня больше нет слез. Все уже, все. Я возвратил их. Они с тобою…
Под кипарисами на террасе мавзолея люди, еще люди. Друзилла, с распухшим от слез лицом. Агриппина – то ли злость, то ли досада на красивом личике: завидно чужому горю? Вот если бы по ней самой так плакали, было бы лучше? Да нет, это уж слишком. Не может же она всерьез быть так глупа? Или может, пожалуй… Ливилла спокойна. Выражение лица подобающее, но и только. Бабушка Антония в скорби, вроде морщин прибавилось. Не по Агриппине ее плач, вот внуков, тех она любила. Надежда ее. Ее мальчики…
Марк Юний Силан. Не потрудился придать лицу выражение. Ну, по крайней мере здесь, и прикрыт темною паллой до пят.
Энния Невия. Ей удается быть своей на любом погребении. Посмотришь на лицо, на одеяния, траур глубокий… так решишь, что каждый раз хоронит самого близкого из своих ближних.
Макрон норовит быть ближе, совсем рядом. Пусть бы был рядом с преторианцами, это его место.
Вот так выхватывал Калигула лица из толпы. Запоминал четко. Видел зримо и выпукло. Совсем скоро он будет называться Pontifex Maximus[235]235
Вели́кий понти́фик (верховный жрец) (лат. Pontifex Maximus, буквально «Великий строитель мостов») – первоначально высшая жреческая должность в Древнем Риме, была пожизненной. В 753–712 годах до н. э. должность занимали цари. Великий понтифик был главой Коллегии понтификов и руководил так называемым жреческим царём, фламинами и весталками. Для выбора Великого понтифика в трибутных комициях выбирались по жребию 17 из 35 триб, и они голосовали поодиночке. Этот порядок был отменён Суллой, но в 63 году до н. э. восстановлен Лабиеном. После Августа должность стала присваиваться главным образом императорам. Позже Великими (Верховными) понтификами стали титуловаться римские папы, таким образом, должность великого понтифика можно считать самой древней непрерывно функционирующей должностью в Европе.
[Закрыть]. Совсем скоро он навеки лишится возможности провожать своих близких, хоронить их. Касаться рукою праха и тлена. Совсем скоро… Secespita[236]236
Т. к. Великий понтифик формально не был магистратом, он не носил тогу с пурпурной каймой – отличительным его знаком был железный нож (secespita).
[Закрыть], стоишь ли ты этой жертвы? Быть может, теперь смерть отступит от моего дома, когда ты со мной. Может, не будет похорон долго, много лет подряд?
Все когда-нибудь кончается. Мужчина не может быть в трауре долго. Все, как обычно, должно быть забыто и переложено на плечи женщин, тем более траур.
Жизнь продолжалась. И в этой жизни было много нового для Рима.
Новое вносил Калигула. И новое было таким.
Возместил стране ущерб, нанесенный имперской налоговой системой, снизил сами налоги. Выплатил долги предыдущих императоров, в частности, долги по завещанию прабабушки Ливии, был ей должен, не так ли? Отменил закон об оскорблении величества. Даровал амнистию изгнанникам, в том числе актерам. Разрешил читать то, что было запрещено, и позаботился о восстановлении свитков, которые уничтожались. Он возобновил во множестве гладиаторские бои, цирковые развлечения. Дважды Калигула устраивал всенародные раздачи, вручая каждому по триста сестерциев, дарил одежды, угощал. По всем обвинениям, оставшимся от прошлых времен, объявил прощение; бумаги, относящиеся к делам его матери и братьев, принес на форум и сжег, призвав богов в свидетели, что ничего в них не читал и не трогал. Этим он хотел навсегда успокоить всякий страх у доносчиков и свидетелей. Доносы о покушении на его жизнь даже не принимал, заявив, что он ничем и ни в ком не мог возбудить ненависти, и что для доносчиков слух его закрыт.
Он сделал все, чтобы порадовать близких, тех немногих близких, кто у него остался. Бабушке Антонии даровал все привилегии, которые были у прабабки Ливии, в том числе титул Августы. Дал права весталок сестрам, приравнял их к жрицам Весты. Отныне они могли занимать любые места в цирке, все три его девочки, его младшие сестры. Он отчеканил монеты с изображением сестер. Он требовал приносить клятву их именем. Он хотел, чтоб Гая и его сестер любили… Наивно, быть может, быть может, эгоистично. Да, только в чем-то так по-человечески понятно!
Это его лицо, которое мало миру известно. Говорят, судить людей следует по их поступкам. В таком случае, клеймо человеконенавистника, убийцы и подонка, каким отметили Калигулу, представляется сомнительным. Это не может быть так, или это не совсем так. Это как-то иначе…
Глава 16. Болезнь. Безумие. Убийство Гемелла

Есть люди, способные на насмешку по поводу собственных бедствий. Их не так мало; часть из них наделена счастливым даром оптимизма от рождения. Кстати, им обычно везет: судьба любит живущих с улыбкой, и число бедствий, посылаемых ею, значительно меньше обычного. Случается и так: характер человека выковывается в тяжелой обстановке, еще и опасной смертельно. Он долго живет в жизни без всяких прикрас, где царит победоносная несправедливость. Допустим, что у такого человека есть собственный кодекс чести, определенный местом рождения, условиями воспитания, наследственностью, наконец…
Итак, кодекс чести, включающий и великодушие, и справедливость, вступает в противоречие с жизнью. Каким станет человек, подвергнутый подобной ломке? Вот одна из возможностей. Он будет ожесточен, и, обладая от природы чувством юмора, обречет насмешке все, что его окружает. Эта насмешка – лишь демонстрация веселья, чтобы нести всем своим видом окружающим: «Убить вы меня можете, покорить – никогда!».
Таким представляется Калигула до своей болезни. Сын благородных, умных и честных родителей. Он год за годом был игрушкой в руках человека, истребившего его семью. Он стал по-змеиному холоден, стал мудр, чтобы выжить. Это о нем пишут: ходил на пытки, предписанные Тиберием другим, чтобы выработать необходимую «невозмутимость». И всегда улыбался!
Почему предполагается, что он вырабатывал только привычку смотреть равнодушно на чужую боль? Почему забывают, что он готовился к собственной казни? Ждать ее можно было каждую минуту. И при этом Калигула всегда улыбался!
Еще до истечения первого года пребывания у власти император заболел; болезнь была из тех, что ставят на грань смерти. Она выжгла значительную часть зрелой личности. Разрушила кодекс чести. Зато развязала всегдашнее ожесточение, презрение к обычным нормам жизни его современников. Вкупе с абсолютной властью его склонность к насмешке сделалась страшным явлением.
О специфическом чувстве юмора императора, как и о его жизни в целом, стали складываться легенды. Ужасом веет от тех легенд!
Итак, с конца лета до октября семьсот девяностого года от основания Рима (год консульства Гнея Ацеррония Прокула[237]237
37 г. н. э.
[Закрыть]) молодой принцепс тяжело болел.
Лихорадка терзала Калигулу, головная боль. Нарушился сон. Все, кто был по долгу службы или зову сердца у ложа императора, отметили красноту лица, шеи и груди, покраснели и глаза. Больной метался в постели без сна, изнурительная слабость мучила его, а иногда слабость и рвота.
Через три-четыре дня от начала, когда уже ждали облегчения от неведомой «простуды», стало еще хуже. Калигула неоднократно терял сознание, началась череда судорог, руки и ноги теряли чувствительность и подвижность…
Вся страна молилась за здоровье императора, в разных храмах, разным богам, но в едином порыве. Калигула большинству далеких от двора римлян казался идеальным правителем, да и тем, кто был вблизи (с поправкой на молодость, некоторые предпочтения, которые он оказывал близким), тоже. Люди пережили длительное и мрачное правление Тиберия, было с чем сравнивать.
Повсюду приносились жертвы, давались обеты богам. Находились люди, обещавшие отдать собственную жизнь в случае исцеления императора в жертву богам-спасителям. Недалек уже тот час, когда им вменят в обязанность выполнить клятву. И сделает это тот самый принцепс, о выздоровлении которого они горячо молились…
А пока – вымолили! Выпросили! Дождались!
Лекарь Харикл, унаследованный поначалу правящим ныне семейством от Тиберия, был отстранен от своих обязанностей молодой Друзиллой по истечении острого периода болезни. Старик не стал скрывать правду от женщины, без того удрученной. За это и поплатился.
– С конца лета и до месяца Германика[238]238
Месяц Германика – своего безвременно умершего отца Калигула почтил тем, что назвал в его память месяц сентябрь Германиком. Поскольку имя Германика пользовалось большой популярностью среди римлян, такая честь не показалась тогда чрезмерной.
[Закрыть], и даже больше, проболел принцепс. Кто был у его постели, тот видел, однако, напомню. Странная была эта болезнь. Лихорадка со слабостью, тошнотой да рвотой; не ты ли просила у меня противоядий? Император не спал, метался, ты плакала о брате, потому что чем-то похожим болел и отец ваш. Не так ли ты говорила? Когда начались припадки, судороги, и вовсе не стало мне житья, все кричали, что цезарь отравлен.
Друзилла кивала головой, роняла слезы, вспоминая ужас прошедших дней. Тогда казалось, что роковая судьба их семьи настигла брата. В расцвете молодости, на вершине власти. Она и сама умирала с каждым приступом, с каждой судорогой, что сводила тело Калигулы. И, может быть, действительно трясла старика-лекаря каждую минуту, требуя вылечить, найти противоядие, спасти. Даже пригрозила смертью, так что? Кто не бывал на краю, тот не поймет…
– Я указывал всем вам на начало болезни. Всем показался малым и незаметным тот случай, только мне-то нет. Помнишь, я вытащил из-под кожи на ноге у императора маленького, незаметного клеща? Ты назвала его мерзким, ты убежала от моих объяснений, не стала слушать. Что же, я не ждал от женщины интереса к медицине, не стал настаивать. А когда началась сама болезнь, меня и вовсе не стали слушать. Кричали одно: «Спаси, не то сам погибнешь!».
– Если не можешь вылечить, на что нам тебя? Приказ отдать недолго! – Друзилла теряла терпение, болезнь ушла в прошлое, но брат был странен, поступки его порой необъяснимы и страшны, и хотелось знать, что будет потом. А лекарь все поминал старое…
– Да не то! Когда бы я боялся смерти, что за лекарь я был бы тогда? На острове Асклепия[239]239
В Риме почитание Асклепия (Aesclapius) введено в 291 г. до н. э. Тогда, во время большой эпидемии чумы, по предсказанию, извлеченному из сивиллиных книг, из Эпидавра перевезли в Рим змею. А в ее образе, как верили тогда, и самого Эскулапа; построили ему храм на острове Тибра, там, где была выпущена змея.
[Закрыть], среди больных рабов искал я когда-то ответов на загадки болезней, и уж тогда-то не боялся. У Тиберия не боялся, а нрав его известен!
– Зачем ты мне говоришь про рабов? Я хочу знать, что будет с братом, когда, наконец, исчезнут последствия болезни, вовсе не прошу тебя поведать о своей судьбе, что мне за дело до нее!
– Не про судьбу я, кому она нужна, моя судьба, мне, одинокому старику, и то не интересна! Уж очень, должно быть, интересна судьба раба-медикуса женщине, римлянке, сестре принцепса, я-то понимаю! – ворчал старик.
Друзилла вздыхала, едва сдерживая гнев. Старик действительно был из рабов. То, что Тиберий дал ему волю, мало тронуло лекаря. С изрядной долей зловредной гордости продолжал Харикл носить галльскую рубашку, одеяние рабов. Он на удивление умел быть свободным – и когда носил ее в силу рабского положения, и теперь, не будучи рабом. Того, кто от Тиберия не раз уходил прочь на остров Асклепия, кого возвращали и не наказывали, просили остаться, трудно напугать гневом женщины.
Как правило, в столице рабов не лечили. Хозяин считал, что он вправе не оказывать никакой помощи заболевшему. Его отправляли на остров Асклепия на реке Тибр и оставляли там умирать. Ничем не ограниченные, неконтролируемые отныне больные люди, обреченные на смерть, сами по себе были опасны. Харикл не боялся быть с ними, не боялся и гнева Тиберия, а уж Друзилла и вовсе ему не страшна. Он стар, он одинок, и если пришла пора умереть, сделает это без особых сожалений. Казалось, он сумеет сдружиться с самою смертью, так к ней привык…
– Ну вот, на острове Асклепия лечил я и пастухов среди прочих. Болели они, как твой брат, да! И каждый мог рассказать, если расспросить хорошенько, что к нему присосался клещ. Я расспрашивал, я знаю. А уж потом начиналась болезнь, так-то! – победительно завершил Харикл.
Друзилла приняла решение быть терпеливой. С удивлением рассматривала она низенького, смуглого грека с непропорционально большим, горбатым носом. Перед ней был человек, который интересовался жизнью клещей и рабов-пастухов!
Видя, что молодая женщина слушает его без гнева, даже с долей интереса, старик смягчился и сам. Стал объяснять ей не торопясь, подробно.
– Конечно, не каждый раз и не у всех одинаково протекает болезнь. Знаешь, почему показалось тебе, что похоже на отравление все это? Человек, он и есть человек. Изнутри все устроены одинаково, как и снаружи. Два глаза, две руки, две ноги, туловище, так? Ну, а внутри – мозг, печень, почки, мочевой пузырь. Ну, и много чего, тебе оно не надобно. Только разные болезни задевают одни и те же места, вот и проявляется одинаково все. Ну, у одного больного меньше, он сильнее изначально, или болезнь слабее, у другого – сразу все намного хуже течет. Я видел рабов, что цеплялись за жизнь с завидным упорством, им везло куда больше, чем господам. Хотел бы я и сам знать, как оно бывает и почему, но можно только догадываться, наблюдать…
На лице у грека было написано глубокое внутреннее удовлетворение. Он наслаждался, рассуждая о равенстве людей в построении тел? О превосходстве рабов в борьбе с болезнью?
– У брата твоего оказался задетым мозг. Я понятно объясняю? Вот откуда судороги, припадки…
– Ну что? Что дальше, твои рассуждения не сказали мне о будущем! Пройдет ли безумие брата? Как долго он будет сражаться с собаками, страдать головной болью и бессонницей? Поступки его странны порой до невозможности, и начались пересуды. Такого не скроешь.
– Мда…
Грек задумался, бурчал себе что-то под нос, терзал рукой остренький подбородок.
Друзилла стучала ножкой по мрамору пола, ждала.
– Говорю же, – изрек лекарь наконец, – не знаю я этого. Не от меня сие зависит, и нет у меня ответа. Я уж с кем только не советовался. Я же понимаю, что не один я такой мудрый; что не все знаю, не все умею. Потому никогда не страшусь спросить, коли не знаю. Вот Цельс[240]240
Авл Корне́лий Цельс (лат. Aulus Cornelius Celsus: ок. 25 г. до н. э. – ок. 50 г. н. э.) – римский философ и врач. Оставил после себя около 20 книг по философии, риторике, праву, сельскому хозяйству, военном делу и медицине. В трудах по медицине собрал самые достоверные (на то время) знания по гигиене, диететике, терапии, хирургии, и патологии. Заложил основу медицинской терминологии. В психиатрии известен как автор термина «делирий».
[Закрыть], которого Рим прочит в Гиппократы[241]241
Гиппокра́т (др. – греч. Ἱπποκράτης, лат. Hippocrates) (около 460 г. до н. э., остров Кос – между 377 и 356 гг. до н э., Ларисса) – знаменитый древнегреческий врач. Вошёл в историю как «отец медицины». Гиппократ является исторической личностью. Упоминания о «великом враче-асклепиаде» встречаются в произведениях его современников – Платона и Аристотеля.
[Закрыть]; я спрашивал у него. Он посмотрел на больного, назвал делирием[242]242
Делирий (лат. delirium – безумие, бред; лат. deliro – безумствую, брежу) – психическое расстройство, протекающее с нарушением сознания (от помрачённого состояния до комы).
[Закрыть] расстройство рассудка, которым принцепс страдал. Указал мне, мол, не важно, что вызывает болезнь, важно то, что ее устранит. Когда бы был он женщиною, как ты, я бы не стал удивляться подобному высказыванию. Что с женщины возьмешь? А этот-то! Уж, кажется, учен во всех областях, а такую глупость…
Речь Харикла неожиданно прервалась. Друзилла потеряла терпение. Маленькая курильница для благовоний со звоном упала с круглого столика из лимонного дерева на ножке из слоновой кости, покатилась по мраморному полу, украшенному мозаикой…
Харикл вздрогнул, пробежал взором по изящным предметам обстановки; как будто понял, наконец, где он и с кем говорит. Покачал головой. Продолжил торопливо, подводя итог:
– Одно ясно, и тебя это не утешит. Коли уж прошел срок, настало время выздоровления, а принцепс все еще болеет! Бывает так, красавица моя, что болезнь остается внутри надолго, навсегда. Иногда обостряется, пугая новыми припадками, изменениями в личности человека, в характере его.
– Хочешь сказать, что брат мой останется таким? – Голос изменял ей, срывался.
– Был у меня один такой… Большой, сильный, добродушный такой молодец. Уж прости, рабом он был, рабом и остался до самой смерти. Не то, что твой брат, а такой же человек из плоти и крови, для болезни все равны. Но тоже все болел после укуса клеща, болел. И все удивлялись, как человек поменялся. Одно дело, что голова болит, и глаз правый не стал закрываться, оттого гноился вечно. И бессонница, и судороги порой, конечно, только не это главное. От былого добродушия и следа не осталось. Такой ненависти общей, как к нему у всех былых собратьев, я и не встречал никогда. По правде сказать, он ее заслужил, сделался мучителем ближних…
Друзилла не простила этого приговора старому Хариклу. Она стала перебирать лекарей для брата, одного за другим. Окончательный выбор пал на Ксенофона. Уроженца острова Кос, потомка самого Асклепия[243]243
Аскле́пий (в древнеримской мифологии Эскулап, др. – греч. Ἀσκληπιός, «вскрывающий») – в древнегреческой мифологии – бог медицины и врачевания. Сын Аполлона и Корониды, рождён смертным, но за высочайшее врачебное искусство получил бессмертие. Был воспитан кентавром Хироном, который научил его медицине. Вскоре Асклепий превзошёл в этом искусстве не только Хирона, но и всех смертных. Он прибыл на Кос и научил местных жителей врачеванию. Асклепий стал столь великим врачом, что научился воскрешать мёртвых, и люди на Земле перестали умирать. Бог смерти Танатос, лишившись добычи, пожаловался Зевсу на Асклепия, нарушавшего мировой порядок. Зевс согласился, что, если люди станут бессмертными, они перестанут отличаться от богов. Своей молнией громовержец поразил Асклепия.
[Закрыть], как говорили. Тот служил дяде, Нерону Клавдию. О дяде в Риме говорили всякое, чаще всего величали дураком. И, однако, Калигула относился к родственнику с уважением. Было в этом уважении много оттенков, даже доля снисходительного презрения к слабости дяди, его мягкотелости, что ли. Вместе с тем, ученость Клавдия, разнообразие интересов, его независимость – исключали открытое проявление презрения. Оттенки разных чувств по отношению к Клавдию отлично уживались друг с другом, и когда встал вопрос о выборе врача, Калигула сказал просто:
– Дядя, может, и дурак в чем-то, да не в этом. При его-то собственной учености, станет он держать при себе неуча и бездельника? Зови, раз уж надо…
Ксенофон не стал ни утешать, ни пугать. Отдал должное наблюдательности Харикла, опыту старого лекаря. Не стал унижать, отрицать, отмахиваться рукой на предшествующее лечение. Отметил, что сам о клещах знает мало, можно сказать, ничего не знает.
– И при всем при том, что бы ни было началом болезни, налицо ее последствия. Взаимоотношения органов нарушены. Будем восстанавливать связи. Бороться с судорогами. Припадки сами по себе зло, и есть опасность для жизни. Посмотрим…
Он окружил молодого принцепса заботой. Все волновало нового лекаря: и то, что принцепс ест, и то, как проводит день, и как спит. Благодаря новшествам, той системе чередующихся нагрузок и отдыха, что предложил Ксенофон, а также под воздействием снадобий, которыми поил его лекарь, состояние императора улучшилось. Судороги прекратились. Перестала дергаться правая щека, неимоверно раздражавшая Калигулу. И все же…
Калигула знал, что помочь нельзя. Звенья цепи, которые он выковал сам, должны были быть спаяны воедино, и рано или поздно, цепь должна затянуться на шее.
Будет преемник во власти. Преемник во власти!
Когда он метался в бреду на огромной своей постели, скрежетал зубами, рвался из рук сестры, что видел он внутренним взором?
Видений было много. Страшным приходил к нему отец. С перекошенным лицом, с кровавой пеной на губах. Поначалу все же лицо его было узнаваемым. Но лоскуты кожи отрывались, сползали, обнажая кости. Окровавленные кости, с белыми нитями сухожилий и кусками мышц. Потом исчезали и они. Оставался голый череп, пригвожденный стрелой к дереву. С пустыми глазницами, но у этих глазниц был взор!
Неведомо откуда, принцепс знал, что череп видит его, из глубины отсутствующего лица шел свет. Свет этот ширился, нарастал. И вместо черепа вставало перед Калигулой лицо сенаторского племянника. Он не пел, едва шевелились губы, и они, эти губы, шелестели: «Но за что, за что же? За поцелуй?». Вдруг меч рассекал изнутри это лицо, и тысячи осколков разлетались в стороны. Император представал перед ним, и, насмешливая улыбка расцветала на мерзком, в морщинах, лице Тиберия, проклятого старика: «Чем ты лучше? Все мы – одно. И ты таков, как я. Убийца…»
– Я не убийца! – кричал он в ответ. – Ты, ты убийца! Вспомни Агриппу Постума[244]244
Постум Юлий Цезарь Агриппа (лат. Postumus Iulius Caesar Agrippa; 12 г. до н. э. – 14 г. н. э.). Урождённый Марк Випсаний Агриппа Постум (лат. Marcus Vipsanius Agrippa Postumus) – сын Марка Випсания Агриппы от третьей жены, Юлии Старшей. Внук и один из возможных наследников Октавиана Августа. Агриппа Постум родился уже после внезапной смерти своего отца, бывшего другом и соратником Октавиана. Именно поэтому к его имени был добавлен агномен Постум (лат. postumus – после, позже, в латинских именах – родившийся после смерти родителя). Через несколько дней после смерти Октавиана, в 14 г. н. э., Постум был убит на Планазии охраной, по приказу Тиберия.
[Закрыть]!
– Либо убийца, либо жертва, да, верно, – отвечал старик, – и что же ты выберешь? На твоем месте выбор ограничен, а ты ведь долго шел к этому месту, и пришел!
Калигула знал, о чем разговор. Имя преемника отдавало в ушах болью. Звали преемника Тиберий Гемелл[245]245
Тиберий Юлий Цезарь Нерон (лат. Tiberius Iulius Caesar Nero), или Тиберий Гемелл (лат. Tiberius Gemellus; 19/20 – 37 гг. н. э.) – внук императора Тиберия, один из возможных его наследников. Родился в семье единственного сына императора, Тиберия Друза Младшего, и его жены, Ливиллы. Ливилла родила двойню – Тиберия и его брата Германика. Поэтому он получил когномен Гемелл (лат. Gemellus – «Двойняшка»). Убит в 37 году по приказу Калигулы.
[Закрыть]…
За два года до собственной кончины Тиберий назначил Калигулу, сына Германика, и родного внука, Тиберия Гемелла, своими сонаследниками. Тяжкое это было наследство для внука императора. Ничего хорошего оно принести не могло.
Правду ли говорят, что смерть одного из близнецов сводит в могилу и другого? Что тоска по родному телу, еще в утробе матери бывшему рядом, неизбывна? Трудно сказать, так учит опыт; но ведь многократно повторяемое не есть еще обязательное.
При взгляде на маленького Тиберия Гемелла казалось, что он недолго останется тосковать без брата. Им было четыре года, когда Германик Младший[246]246
Германик Юлий Цезарь, или Германик Гемелл (лат. Germanicus Iulius Caesar; 19/20 – 23 гг. н. э.), был одним из сыновей-близнецов Друза Младшего и Ливиллы. Один из сыновей был назван в честь отца, другой – в честь усыновлённого Тиберием брата, Германика. Тацит писал, что Германик умер на четвёртом году жизни, в 23 году. После смерти, скорее всего, был обожествлён.
[Закрыть] оставил брата-близнеца доживать на земле все, чего не хватило самому. Странная это была история, темная. Вначале от неведомой болезни ушел отец близнецов. Сын императора, наследник, видный полководец, молодой и красивый человек. Вскоре его вдова, красавица Ливия Ливилла, вновь зашлась рыданиями. Не успев просушить слезы вдовьего горя, стала еще и несчастной матерью, потеряв Германика Младшего. Тиберий же Гемелл – лишился опоры, второго своего «я», зеркала, в котором отражался с самого рождения. Это было заметно. Он рос тихим, незаметным мальчиком, здоровье его было слабым, был он каким-то хилым, тощим. Няньки перешептывались, делая большие глаза, о том, что мальчик не жилец на свете.








