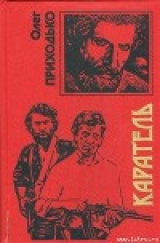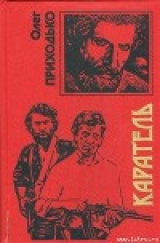сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
Воспоминание о брате отозвалось болью в душе. Да и о Катре с Павлом тоже: ведь не собирался он их грабить! Хлеба в дорогу попросил и одежду, так нет, нужно было Павлу вилами угрожать, вызывать мента!..
Теперь осталось идти до конца. А где он, конец, и каким ему быть — один Бог ведает. Предстояло отыскать Шепилу и скачать с него тысяч тридцать зеленых, чтобы можно было обзавестись нужными ксивами и дернуть куда-нибудь подальше. Таможенник с контрабандистов брал сполна, так что деньги у него водятся немалые.
Шалый спустился с пригорка к ручью, блестевшему в свете луны, умылся, доел сало с хлебом, чтобы избавиться от сидора, и побрел налегке в сторону шоссе. До границы было уже совсем близко, когда его остановила подозрительная тишина: не было слышно привычного шума моторов. Вначале он подумал, что сбился с пути, подобравшись поближе, увидел знакомые постройки и балки, только в окнах не было света. Не мелькали людские тени, ветер громко хлопал дверью вагончика погранконтроля; редкие машины проносились мимо, словно таможню вырезали ночные диверсанты или началась война.
Просидев в укрытии минут пятнадцать и убедившись, что он не ошибся и на таможне действительно ни души, Шалый пошел к дороге.
«Что случилось? — недоумевал он, слыша, как бьется от страха сердце. — Перенесли таможню, что ли? И где она теперь?»
Груженый «МАЗ» съехал на обочину и остановился. Водитель, не отходя от машины, справил нужду.
— Эй! — крикнул Шалый, появившись из-за пакгауза на противоположной стороне. Водитель вскочил на подножку и закрылся в кабине. — Эй, погоди, стой!.. Слушай, мужик… а где тут это… словом, таможня-то где?
— Нет больше таможни, отменили, — коротко объяснил водитель, поняв, что перед ним либо сумасшедший, либо беглый из тюрьмы, и поспешил убраться восвояси.
Шалый оторопел. Как это могли отменить таможню и куда девали таможенников, и сколько ж теперь людей, наладивших бизнес по обе стороны границы, останется без живой копейки?
Поселок, где жил Шепило, он знал. Телефон остался в записной книжке Пелевина, без звонка приходить было опасно, но опаснее терять время.
…Над поселком висела полная луна. Громко лаяли собаки. Шалый прошел по берегу реки, с трудом определил нужный поворот и вскоре оказался перед черной громадиной Шепилова жилища, прижатого к земле тяжелой черепичной крышей. Двухметровый забор из красного кирпича еще не достроили — во двор он вошел беспрепятственно. Остановившись перед дубовой дверью с едва различимой кнопкой звонка, прислушался.
«Нет никого, — мелькнула неприятная мысль. — Что тогда делать, где его искать?»
Он позвонил. В недрах несуразно-вычурного замка дзинькнуло. Никого. Позвонил еще раз. Очень не скоро, когда он собрался уже уходить, засветилось окошко на первом этаже, затем вспыхнул яркий фонарь прямо над входом, и уж совсем неожиданно справа, слева и сзади засветились яркие до рези в глазах прожектора, и зычный, будто глас громовержца, бас скомандовал:
— Шалов! Руки за голову! Лицом к стене!
Дверь распахнулась, в спину ему больно ткнулся ствол:
— Не двигаться!
Чьи-то мощные руки развернули его, бросили на стену, и он сразу обмяк, чувствуя, как шок сменяется безразличием.
Часа три его продержали в камере-одиночке ИВС в Могилеве, затем посадили в машину и в сопровождении целого отделения омоновцев повезли в Минск. Справить нужду позволили, но наручников не сняли и не отходили ни на шаг. «Разговаривали» пинками да подзатыльниками; за угрожающий взгляд младший прапорщик огрел его дубинкой поперек груди — очень больно, кость сразу провалилась и прижала сердце к лопатке, дыхание стало сиплым, горячечным, и каждая колдобина на дороге отдавалась в груди и животе острой болью.
В Минске Шалого отвезли во внутреннюю тюрьму УВД, за отсутствием свободных камер бросили в какой-то чулан с осклизлым полом и стенами, но продержали там недолго — повели на допрос.
В следственной камере за столом сидел «важняк» из Генпрокуратуры Родимич, с ним еще двое, кого представлять ему не сочли нужным. Женщина в форме прапорщика внутренней службы бойко отстукивала на машинке каждое слово.
— Знаете, в чем ваша ошибка, Шалов? — не по-приятельски, но и не зло спросил Родимич.
— В том, что живой остался. Надо было в Березине утопнуть, никакой вины бы не было. Схоронили бы с Василем на пару…
— Вы были за рулем «Урала»? Шалый промолчал.
— Не расслышали вопрос?
— Какая вам разница? Что хотите, то и пишите, я подпишу.
— Послушайте, Шалов. Мы не «особое совещание» и не воровская «сходка». Вы думаете, если вы имели судимость, к вам будут относиться предвзято?..
Полгода, проведенные в следственном изоляторе, да три с половиной — в колонии усиленного режима, кое-чему научили Шалого.
— В каких отношениях вы находились с пострадавшими?
— Ни в каких. Ехали с братом, они попросили их подвезти.
— Зачем? У Турина и Пелевина были свои автомашины.
— Не знаю, о ком вы говорите.
Родимич выложил на стол фотографию, где они все были запечатлены на берегу Немана в сентябре прошлого года. С ними были девушки, имен которых Шалый теперь не помнил. Счастливые улыбки на лицах, шампанское, водка, шашлыки на траве. Сам Шалый — в обнимку с Туричем и Пелевиным.
— Не надо у нас отнимать время, Шалов. Все две недели, что вы бегали по лесам, работали эксперты — трассологи, графологи, баллисты. Следователи производили у вас обыск, связывались с местом вашей работы, с вашими родителями, родственниками пострадавших. Итак, вы с двоюродным братом Василием Шаловым загнали «Урал» в лес. Ваши соучастники на двух автомашинах «ВАЗ-21099» (Родимич назвал номера) остановили машину (назвал номер, обнаруженный на пачке сигарет в кармане Василия Шалова), на которую вам указал инспектор таможни Шепило Петр Вениаминович. Вы с Пелевиным и Туричем ранее бывали у него дома, это подтверждает жена Шепило, оговаривали предстоящие налеты, выпивали, делили добычу — все зафиксировано в протоколах допросов свидетелей, большинство фактов доказано. Об остальном вы расскажете следователю милиции Плисецкому — вот он сидит перед вами. А меня интересует, кто и за что избил Шепило, какой марки была машина с фальшивыми номерами, которую вы собирались ограбить, и что вам известно о характере груза? Быстро, четко, ясно — все вам зачтется, я обещаю.
Такой нахрапистости, такого нарушения протокола и следственной тактики Шалый прежде не встречал и не ожидал. Видимо, что-то крепко прижало «следака» — не предъявляя никаких улик, фактов, доказательств, будто дело было давно решенным, перескакивая через пятое на десятое, он хотел добиться признания. Шалый наградил его язвительной усмешкой и отвернулся.
— Старлей, — посмотрев на часы, распорядился Родимич, — давай все по порядку: предъяви обвинение, оформляй протокол, доставай дело и мотай по полной, под «вышку» — групповой разбой под Крупками, убийство свидетелей, грабеж в Выселках, захват заложницы, нападение на водителя «Опеля», посягательство на жизнь работника милиции… в общем, сам знаешь. Завтра я должен лететь в Москву, вечером мне позвони.
— Я понял, Станислав Болеславович, — улыбнулся легавый.
Родимич поспешно вышел, прихватив папку со стола. Старший лейтенант подошел вплотную к Шалому, наклонился к его лицу:
— Будем говорить? — спросил, обнажив желтые зубы.
— А ху-ху не хо-хо, начальник? — также осклабился бывалый зек. — Не бери меня на понт. Надо — доказывай!
Плисецкий резко ткнул его основанием ладони в лоб. Этого оказалось достаточно, чтобы подследственный в наручниках, сидевший на привинченном табурете, опрокинулся на пол. Его тут же подхватили под руки и усадили на прежнее место.
Когда звон в голове прекратился и туман в глазах рассеялся, Шалый увидел следователя за столом. Разложив бумаги, старлей достал авторучку, снял колпачок и, подув на перо, посмотрел на подследственного:
— Назовите, пожалуйста, свою фамилию, имя и отчество, — попросил с подчеркнутой вежливостью.
Больше его не били. Ему задавали вопросы — очень много вопросов, и по их совокупности, по тому порядку, в котором их задавали, Шалый понял, что версия у них сложилась, все факты и улики были направлены на него, единственного, оставшегося в живых. Он отвечал «не знаю», «не помню», «не видел», а в большинстве — отмалчивался, тупо глядя то в пол, то в зарешеченное окно; во рту все время было солоно, тошнило — наглотался собственной крови, но больше головы и груди болела душа. Очень болела: думалось о матери, которую он любил, а теперь получалось — загнал раньше времени в гроб; думалось о родственниках в Выселках — тетке Катре и дядьке Павло, которых не собирался не то что грабить, но даже и обижать; о парне с девицей, которых вышвырнул из «Опеля» — просто так, потому что подвернулись, а машина оказалась не нужна, он и проехал-то на ней километров двадцать, мог бы дойти пешком…
— Не знаю!..
О жизни думалось проклятущей, которая сложилась совсем не так, как должна была сложиться, потому что в роду у них никогда преступников не было и не было необходимости грабить…
— Не видел!..
О невесте, которую обещал одеть-обуть, на руках носить, и действительно любил, а теперь она, должно, уехала из города от позора…
— Не помню!..
О бессмысленности этого запирательства тоже: а зачем в бутылку лезть?.. Сказать как было — может, скостят? Не стрелял он! Не хотел, не думал!.. Да не скостят они — подгонят под расстрел, а если и заменят на «пятнашку» — что толку? Сколько на воле — столько в тюрьме, выйдет в сорок — какая там жизнь! Уже не будет матери, уже у невесты будут взрослые дети, и имя его, Леньки Шалова, проклянут. Лучше сразу — вслед за Василем и остальными!..
— Уведите арестованного.
…Камера-одиночка для него все-таки нашлась — освободили. Громыхнула тяжелая дверь. Шалый рухнул на нары, стянул брюки без ремня (ремень забрали еще в Могилеве). Помогая себе зубами, располосовал одну штанину, затем — другую. Сплел полоски, связал между собой. Очень болело в груди и дышалось тяжко, иначе справился бы скорей. А так добрый час ушел на удавку, да еще шаги надзирателя, «подмигивание» глазка — то и дело приходилось нырять под одеяло. Потом он долго, до седьмого пота набрасывал свободный конец плетенки на решетку высокого оконца, отчаявшись, перетянул вертикальную фановую трубу над парашей. Когда наконец это удалось, силы уже покинули его и думать больше было не о чем — только бы скорей…
11
Ветер внезапно изменил направление и усилился, зашелестели деревья и кусты, заглушая слова и прочие звуки. Борис подошел к костру, подбросил веток и устало опустился на траву.
— Где Тархун? — спросил урка.
— Спит… вечным сном…
— Достал?..
— Я… — долетали до Влада обрывки фраз.
Влад растерялся. Кровь прилила к голове, гулко застучало в висках. Он боялся пошевелиться, но еще больше боялся признать происходящее реальностью — хотелось ущипнуть себя и проснуться.
Борис поднес к губам рацию.
«Влад, Влад, ответь, слышишь меня?..» — отозвался его голос в «смар-трунке» Влада.
— Он охотник?..
— …ник из него, как из говна пуля… Старик… не доверяет… Нашел мертвого Хохла возле «пружки»… ждет… Велсе…
Влад отказывался что-либо понимать. Один из беглецов оказался приятелем этого Бориса?! Но зачем же тогда все?.. Столько жертв! Чего они хотят?
— …проводник чуть не завалил… овраге за просекой… верстах…
— Где образцы?
— …чале золото, Боря… потом…
Борис полез в карман, вынул предмет, завернутый в тряпицу, и протянул урке. В свете костра блеснул самородок.
— Куда столько?..
— Не твоя печаль, — урка завернул золото, опустил за пазуху. Новый порыв северного ветра вышиб сноп искр из костра, преклонил траву; зарябило болотце, со стороны протоки послышался плеск волн о камни. Борис с неожиданным проворством вскочил, схватил урку за отвороты штормовки и оторвал от земли:
— …сука?!. В цацки играть?!.
— Пусти! — вырвался тот и, отступив на шаг, вдруг засмеялся: — Ищи дурнее себя!.. Спину подставлять?..
Некоторое время они стояли друг против друга, потом успокоились, подсели к костру. Борис вытряхнул из мешка содержимое, положил перед уркой два плотных и, очевидно, тяжелых целлофановых пакета.
— Давай сюда!
Урка достал из мешка точно такой же, положил рядом.
— Старик велел нас кончить?
— А ты думал — наградить? — сложил Борис пакеты, предварительно взвесив каждый на ладони. — Здесь все?..
— Сделаем так, — сказал урка твердо, как о деле, давно и бесповоротно решенном. — На рассвете я уйду. На какой волне… рации?
Борис ответил что-то, в руке урки появилась рация — очевидно, принадлежавшая одному из убитых им преследователей, перевел шкалу.
— Я отхожу на расстояние связи и говорю тебе, где банка с образцами.
— Смотри, Панкрат, если что…
— …все сказал! Пуганый…
Борис вел свою игру, не предусмотренную заданием Панича. Возможно, даже направленную против старика. Влад предположил, что может быть еще один вариант: просто старик не счел нужным посвящать его во все подробности, о которых было известно замкоменданта «базы» по режиму Борису. Но ведь он приказал убить всех троих, Борис же, судя по всему, собирался отпустить Панкрата, забрав пакет с порошком как доказательство его смерти.
Затекли ноги, и пальцы рук, сжимавшие ружье, свело судорогой. Между тем нужно было уходить: с рассветом Влад станет виден как на ладони, и тогда неизвестно, чья возьмет — спецназовец бил бекаса влет, на слух, и метал десантный нож в еловую шишку.
Двое у костра закурили и надолго замолчали. Влад дождался мощного порыва ветра, отполз в кустарник, затем, сгруппировавшись, броском преодолел открытое пространство. Выбрав удобную позицию в траве между ольшаником, он положил перед собой «АПС» и «кобру», снова прильнул к прикладу Тулымова «бюксфлинта». До рассвета оставалось, может быть, час-полтора. За это время предстояло принять решение: либо идти за Пан-кратом и выполнить приказ Панича, отправив его на тот свет (а там, по возвращении, доложить обо всем старику, и пусть он сам разбирается с Борисом), либо следить за Борисом до получения им сведений от Панкрата по рации.
«О каких образцах они вели речь?» — силился сообразить Влад, чувствуя, что слабеет с каждой минутой: веки смеживались, руки и ноги перестали повиноваться.
Огонек костра стал потихоньку затухать; промельки звезд между быстрыми облаками отражались в беспокойной воде; вдалеке надрывалась выпь и ухал филин. Влад прикрыл глаза — думал, на минуту, но многодневная усталось и нервное напряжение сделали свое дело…
Снилось ему, что он летит, а над ним светит ослепительно яркое солнце, внизу простирается море без берегов; руки его раскинуты, будто крылья, они тяжелеют, тянут вниз, и он из последних сил придерживается середины между морем и солнцем, но ничего не может с собой поделать: «крылья» складываются, он кренится, пикирует, падает, падает…
Внезапно проснувшись, Влад обнаружил, что лежит на спине. На просветлевшем небе звезд почти не осталось, и рваные синие облака проносятся над ним совсем низко, предвещая непогожий день. Он перевернулся на бок, увидел рядом рюкзак и покрывшееся влагой оружие, посмотрел на берег.
Борис, сбросив штормовку, стоял у протоки и делал дыхательную гимнастику. Мешок его лежал у потухшего костра, с оружием он не расставался — справа на ремне висел широкий длинный нож в ножнах, пистолет покоился в наплечной кобуре.
Урки не было.
«Ушел!» — понял Влад.
Теперь ничего не оставалось, как ждать и следить за Борисом. То напрягая, то расслабляя окоченевшее тело, выбивая зубами дробь, Влад старался отогнать недобрые мысли, боролся с искушением выскочить из укрытия и решить все вопросы разом, уложив старшего поисковой группы мордой вниз.
«Отхожу на расстояние связи и говорю тебе, где банка с образцами», — вспомнил он слова Панкрата. — Рация работает на дистанции десять километров. Значит, часа через два, не меньше?.. если он вообще выйдет на связь…»
Если бы знать, в каком диапазоне они договорились связываться, можно было бы выбрать убежище подальше и понадежнее, дождаться эфира и, получив координаты, опередить Бориса. Но его рация, настроенная на волну экспедиции, молчала.
Покончив с гимнастикой, Борис вернулся к кострищу. Килограммовая банка тушенки, которую он извлек из вещмешка, заставила Влада отвернуться, но рот тут же заполнился слюной. Ел Борис не спеша, тщательно пережевывая, как ест человек, не обремененный заботами. Сидел он в профиль, и Влад видел его лицо — ничего не выражающее лицо человека со стальными нервами.
Так прошел час. Затем еще сорок минут. За это время Борис сходил «до ветру», почистил оружие, подремал, положив под голову рюкзак: к засадам ему не привыкать — ледяное спокойствие, никакой суеты в движениях.