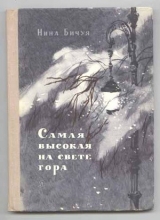
Текст книги "Самая высокая на свете гора"
Автор книги: Нина Бичуя
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Хорошо высоким и сильным – их не толкают, даже когда они вздумают идти посередине тротуара. А если у тебя в восемь лет вид как у дошкольника да к тому же при каждом шаге болят суставы, наверно, лучше ходить вдоль стен: безопаснее. Однако Славко не держался стен. С него хватало этого в больнице; тогда ноги болели так, что, казалось, не они его держат, а он тащит их за собою.
Болезнь настигла его весной, когда растаял снег, и пришлось два чудных зеленых месяца пролежать в больнице. Полосатая пижама, белые халаты, мамино посеревшее, через силу – для него – улыбающееся лицо. Все это запомнилось надолго. Встав с кровати, держался за стену, чтобы не упасть, чтобы сделать хоть несколько шагов.
– Свидетельствую, что ваш сын сдал экзамен на настоящего мужчину, – сказал главный врач, выписывая Славка.
Мальчик стоял возле матери – маленький, бледный, давно не стриженный и потому немного похожий на девочку. Он недоверчиво смотрел на доктора – этот высокий, широкоплечий дяденька, должно быть, шутил, он ведь никакого экзамена не сдавал, а лежал в больнице; с тоской думалось, что нельзя будет играть в футбол, бегать, прыгать. А что же тогда можно?
До самой зимы он был послушен и покорен, глотал какие-то лекарства, ходил на кварц и каждое утро просыпался с надеждой: «А вдруг прошло?» Надежда рассеивалась, стоило спустить ноги с постели и сделать первый шаг. Ноги стали худые, тоненькие, как две жердочки. Славко как можно скорее надевал штаны, чтобы не видеть своих ног.
Началась зима. Лужи затянуло тонким ледком, а потом ударил настоящий мороз, и мальчик больше не выдержал муки послушания. Он надел башмаки с коньками. Ноги подгибались, не слушались, разъезжались. Славко прикусывал губу, стоял с минуту, зажмурясь от боли, а потом все-таки шел. Он выбирался из дому украдкой, чтобы никто не видел, возвращался совсем без сил, а на следующий день снова шел на лед. Сперва около дома, поближе, потом – в парк и, наконец, на каток.
Ноги окрепли, мышцы пружинили, и уже не приходилось все время думать: как хорошо большим и сильным – их не толкают…
Потом мама никак не могла поверить, что мальчик сам себя вылечил.
– Хорошо, что я не знала о его упражнениях на льду, – сказала она папе, – я отобрала бы коньки, и кто знает, мог ли бы он сейчас бегать.
Однако не всегда бываешь победителем. Не решались задачи по арифметике – подмывало списать у Юлька Ващука. Не запоминались стихи, и как же утром не хотелось вставать и отправляться в школу, а потом исподлобья посматривать на учительницу: вызовет – не вызовет, спросит – не спросит… и думать при этом: «Хорошо Юльку, всегда он все знает!»
Юлько умеет рисовать, хорошо рисует. Славко попробовал – не выходит у него.
– Жаль тратить бумагу, – смеялся папа, – попробуй лучше вырезать самолет. Вот тебе дощечка, нож – попробуй вырезать два крыла, хвост, пропеллер. И никогда не старайся делать что-нибудь потому, что это делают другие. Свое ищи.
Свое найти нелегко. Как отличить его среди бесчисленных вещей и дел, которые захватывают, влекут, а потом вдруг перестают нравиться? Мальчики хватаются за все интересное и не чувствуют, что время уходит, они обращаются с ним свободно, как со своей собственностью.
Но однажды Славко вдруг ощутил бег времени.
Он шел с мамой вверх по улице Мицкевича. Слева – парк, там карусель и в клетке павлин со сказочно красивым хвостом. Справа – детский сад, куда когда-то ходил и Славко. Он вдруг остановился у палисадника. Смотрел на яркие грибки в полоску, на пожелтевшую истоптанную траву, на струйку воды, льющейся из черного, свернутого в бухту шланга, – после захода солнца будут поливать цветы. Все выглядело точь-в-точь так же, как раньше, когда Славко ходил сюда. Замурзанная девочка склонила набок головку и показала ему язык – мальчик не улыбнулся; он вдруг притих, он не находил ни одного знакомого лица там, где еще недавно знал всех.
– О чем ты думаешь? – поинтересовалась мама.
– Сам не знаю… Детского сада больше не будет, – то ли спросил, то ли определил он. Раньше ему не приходило в голову, что чего-то может больше никогда не быть.
Он думал об этом и позже, но уже значительно отчетливее и сознательнее. Они были всем классом в природоведческом музее. Славко увидел мамонта. В деревянной клетке стоял скелет, прикрытый темно-серой, как будто просмоленной шкурой, но Славку представился живой мамонт. Грустный и задумчивый, он покачивал хоботом – осторожно, чтобы не развалить деревянную клетку, которая мешала ему пошевельнуться; на белой бумажке значилось: «Мамонт». И по-латыни: «Элефант». Мамонту, верно, было обидно, что к нему прицепили этикетку.
Мальчик не спешил дальше вместе со всеми к орлам и совам, набитым опилками, и к метеоритам, найденным в конце прошлого столетия. Он положил портфель на ступеньку, сел рядом и долго смотрел на то, что осталось от величественного, могучего животного, и виделось ему нечто древнее, непонятное, которое когда-то было подвижным, живым, сильным, а потом пропало, исчезло, и вот – нет его. Славко побывал в музее еще несколько раз. Ему всегда говорили: «Мальчик, экспозиция начинается вот здесь, налево», – но он приходил только к мамонту. Иногда ему казалось, что мамонт поймет его, стоит только заговорить и рассказать ему о себе, но он никому не признавался в этих мыслях, потому что сам понимал: все это только его собственная выдумка.
Мамонта он забыл, когда началось фехтование. Впервые попав на соревнование шпажистов, Славко вдруг подумал, что видит настоящих марсиан, – такими удивительными показались ему спортсмены в белых костюмах и масках. А потом он увлекся. Все приковывало внимание. Соревнования закончились, спортсмены расходились, а Славко все стоял, переживая увиденное. Он знал с первого же вечера: без фехтования ему теперь не обойтись. И как тогда, когда осмелился натянуть на больные ноги тяжелые башмаки с коньками, понимал, что надо добиться своего.
ДВОЕ ДЕТЕЙ И ГОРОДНа окраине, за углом последнего дома, свищет в два пальца озорной ветер, словно радуясь, что вырвался на волю из лабиринта узких и коротких переулков.
Девочка в синем сарафане моет окно. Стоит на подоконнике, на шестом этаже последнего в городе дома, и моет окно. А под ней плывет улица – аккуратная мозаика тротуаров, желтые спины троллейбусов, пестрые девичьи платья.
В вымытых стеклах повторяются облака, клочки неба, лоскут синего сарафана. Когда девочка двигает оконную раму, – небо, облака, сарафан – все колышется; от этого становится страшно, девочка кажется себе невесомой, как во сне.
Внизу прошли солдаты. Раз-два, раз-два. Зеленые плечи, черные сапоги на мостовой. Раз-два…
На белом мотороллере – коричневый негр…
На гнедой лошади – белокурый всадник. Стройный и сильный, даже сверху видно, как он строен, а лошадь так легко, так ловко переступает ногами, ну просто танцовщица на канате; она словно похваляется и всадником, и собственной живой красотой перед стенами, машинами и пешеходами.
На улице стоит мальчик, стоит и смотрит, как девочка моет окно; ему немного жутко, оттого что она висит над улицей, как ласточка в высоком гнезде, и хочется окликнуть ее: «Эй, Лили!» – и страшно спугнуть криком.
И потому он ждет, пока его наконец заметят. А потом машет рукой: не могла бы ты сойти вниз, Лили?
Внизу шелестит желтый осенний листопад. В парках горят костры – как будто сухая листва, вдруг сама вспыхнув, обернулась терпким дымом, и из этой сухой дымовой кудели выпрядаются мягкие нити бабьего лета. Мостовая сверкает на солнце, по ней текут трамвайные рельсы. Улица – как длинная сказка, которую можно рассказывать без конца.
На окраине – новые современные дома с разноцветными квадратами маленьких балконов. Середина улицы – девятнадцатое столетие: на заржавленном флюгере значится 1887 год, и утомленный, с напрягшимися мышцами атлант подпирает серую глыбу балкона. А если спуститься по улице вниз, к центру, попадешь в старый Львов, где узкие проулки напоминают прорубленные в горах туннели.
– «Се же король Данило, князь добрый, хоробрый и мудрый, иже созда городы многи, и украси е разноличными красотами…»
– Где это ты слышал, Юлько? – спрашивает девочка.
– Не слышал. Вычитал где-то. Слушай, Лили, тебе не кажется, что здесь, в старом городе, не мы одни ходим? Наши предки остались здесь навеки – невидимые, как духи.
… И город поплыл со склонов Княжей горы, как река, двинулся в долины к холмам, убрал их в камень.
Через черные ворота вступают на Рыночную площадь горожане в странных одеждах. В аптеке на Ставропигийской похожий на монаха аптекарь толчет в тяжелой медной ступке сухие травы. По улице катится на обитых железом колесах воз. До металлических ободьев додумались только в пятнадцатом веке. Первую аптеку открыли во Львове в семнадцатом. А газовые фонари перед ратушей зажигали еще даже после Отечественной войны, всего лет двадцать назад.
К валам рвались татарские лучники. Средневековые школяры, которые, может быть, еще час назад спокойно сидели, слушая проповедь мудрого ритора, или красивыми тенорами и молоденькими басками вытягивали за кантором – учителем пения – чистую ноту, теперь брались за оружие и шли защищать город.
Отправлялись в поход против немецких полчищ отважные воины, на их знаменах золотом и лазурью отливал городской герб, а в замке тосковала по отцу княжна-галичанка с прекрасным личиком Лили…
События перемешались в мальчишеском воображении, выдумка сплетала и связывала вместе всё, как название улицы соединяло старые и новые постройки.
Юльку было приятно: он говорил о вещах, которых Лили не знала, и чувствовал себя первооткрывателем, наставником. Он исподтишка посматривал на девочку, чтобы поймать ее взгляд и определить, внимательно ли она слушает, но видел только белую прядь волос над черной бровью, повязанный на шее зеленый платок и желтый листочек на губах у Лили.
– Слушай, – сказал Юлько. – Слушай, Лили, я прочитаю тебе стихи… Хочешь?
– Хм.
– Я их еще никому… Это мои стихи, я тебе первой…
– Хм.
Юлько проглотил слюну, откашлялся, у него вдруг пересохло в горле:
Глазами таинственными, как подземные озера,
Ты меня манишь куда-то и кличешь.
Я хочу разгадать, что в лице твоем скрыто,
Я хочу узнать, куда меня кличешь…
– Хм… Это ты о ком?
– Так. Ни о ком.
– А ты видел подземные озера? Нет? Это тебе Беркута рассказал, что они таинственные?
Желтый кленовый листочек дрожал у нее на губах, когда она говорила.
– Почему Беркута? Никто мне ничего не говорил.
– Потому что он, наверно, видел эти озера. Он ведь интересуется спелеологией.
– Знаю, – сказал Юлько. – Это я ему подкинул идею.
– А! – протянула Лили и вдруг засмеялась: – Слушай, ты любишь барбарис? У меня есть десять копеек, дай еще восемь, и будет сто граммов барбариса. Он кислый, и от него краснеет язык.
Юлько тоже засмеялся, – что ж, барбарис так барбарис. Необычное настроение рассеялось: в черные ворота больше не входили горожане в средневековом платье, в аптеке больше не было заклинателя-волшебника, не стояла на валах стража… И Лили больше не напоминала галицкую княжну. Она буднично развертывала липкие конфетки, от которых краснеет язык. И разговор пошел совсем будничный.
– А ты сейчас не такой, как в школе.
– Может быть, не знаю. Мне кажется, я всегда такой… А помнишь, как ты пришла к нам в класс?
– Угу. Тогда еще Беркута стрелял из водяного пистолета… А ты сказал об этом учителю. Зачем ты сказал?
– Почем я знаю? Я уже не помню.
– И тогда вы подрались. А вообще вы дружите, правда?
– Может быть. Нельзя же все время молчать. Надо с кем-то разговаривать, а больше не с кем. Ребята у нас какие-то такие… Знаешь, я как-то выдумал историю и сказал, что это Шекспир. Они поверили – о чем с такими говорить?
– Хм! – сказала Лили, подкидывая на ладони конфетки, как жонглер. – А если я тоже… не всего Шекспира читала?
– Глупости! Ты все равно умница, ты бы догадалась, что я выдумал.
– Умница? Как ты? Или чуть поменьше? – Девочка наморщила нос, и вдруг уголки ее губ опустились, левая бровь приподнялась – это была гримаса Юлька, немножко снисходительная, немножко презрительная. С такой гримасой Юлько смотрел на мир.
ЛАЗУРНЫЕ ПЕЩЕРЫ (Глазами Славка Беркуты)Юлько Ващук развалился на учительском стуле, вытянул ноги и объясняет:
– Понимаете, ребята, надо обладать пространственным воображением и абстрактным мышлением. Без этого невозможно творить. Мышление можно развить. Ежедневный тренинг – и научишься всему на свете…
– Тре-енинг! Ты что, не способен уже говорить, как нормальные люди? Ну, тренировка, так нет же – тренинг!
– Слушай, Беркута, – вскипел Юлько, – ну чего ты всегда цепляешься? Каждый говорит так, как ему позволяет словарный запас.
С Юльком спорить – все равно что вызывать на дуэль каменную плиту: он будет стоять на своем, даже если неправ.
Вынимаю из портфеля учебник и читаю, заткнув уши.
Теперь речь Юлька звучит приблизительно так:
«У… ге-уууу-взв…»
Тренинг! Ай да Ващук!
Я даже не слышал, как прозвонил звонок, только увидел – все садятся за парты, и понял, что начинается урок. В класс вошел Антон Дмитрович. Придирчиво посмотрел, аккуратно ли повешена карта, зачем-то оглядел указку и начал урок.
Антон Дмитрович всегда начинает уроки как-то неожиданно. Возьмет, например, и спросит:
«Вам известно, что река Конго дважды пересекает экватор? Конго – единственная река в мире, которая дважды пересекает экватор. Она протекает на территории…»
Я знаю: мне надолго запомнится, что река Конго дважды пересекает экватор и какие народы живут на берегу этой огромной реки. И кто первый исследовал Африканский континент, и кто писал книги об Африке. Я запоминаю все, о чем говорит на уроках учитель географии, и у меня просто физически щемит сердце от сознания, что человек не может за всю свою жизнь обойти мир. Нет, я не увижу, как река Конго дважды пересекает экватор, и вряд ли попаду на Северный полюс или на Памир. А мне так хочется побывать сразу везде: и на берегу Амазонки, и на Черном море, и на Байкале!
Когда я впервые увидел географическую карту и мама объяснила, что города на ней обозначены кружочками, это меня удивило: как же, и улицы, и дома, и люди – все в одном кружочке?
Мама сказала:
– Все улицы просто невозможно показать на карте, их слишком много. Вот когда ты вырастешь, поедешь в эти города – и они перестанут быть для тебя кружочками.
А потом мама рассказывала мне про города, которые видела сама, – про маленькие, не похожие один на другой и не похожие на Львов, где мама родилась и ходила в школу, где она весной любовалась, как дымятся под первым теплым солнцем тротуары, а осенью собирала каштаны. Совсем как я…
Антон Дмитрович вызвал к карте Ващука. Юлько совсем не запинается, когда отвечает урок, для него это игрушки. Говорит он хорошо, это правда; впрочем, нет такой вещи, которую Юлько делал бы плохо. Может быть, он просто знает, с чем не справится, и не берется за это. Вот я опять думаю о нем так, что он мог бы сказать: «И чего ты цепляешься, Беркута?» А я и сам не знаю, чего.
Иногда он посмотрит на меня или спросит: «Ну, что ты умеешь?» – и я смущаюсь или, наоборот, огрызаюсь, хотя и без нужды. А когда действительно надо поспорить или даже обрезать его, молчу, как будто ничего не было.
Так получилось, когда мы надумали идти в Лазурные пещеры. Я рассказал Юльку, что ездил с папой в Страдче, небольшое село под отвесной горой, поросшей лесом, со старой-престарой деревенской церковкой на самой вершине и с пещерой у подошвы.
«Пусти в пещеру зайца – он выскочит под самым Киевом», – шутили в Страдчем мальчишки.
А еще рассказывали, что в этой пещере в древности татары сожгли жителей села, которые укрылись там от татарского полона. Потому будто бы и село зовется Страдчим: жители его пострадали от татарского нашествия. Вот мы и ходили с папой в эту пещеру.
«У нашего малыша новое увлечение, – смеется мама. – Смотри, немного походишь в спелеологах и бросишь, как все другое бросал».
Но я не обижаюсь, я вообще никогда не обижаюсь на маму, на нее просто невозможно обидеться. Мама почти одного со мной роста. Со своим маленьким портфелем она выглядит как школьница. Когда-то, еще в первом классе, ребята не верили, что мама – это мама. «Не бывает таких мам, – уверяли они, – это твоя сестра».
Я тогда очень сердился.
Так вот, мама не верит, что спелеология – это для меня серьезное дело, а я даже просил папу летом поехать на Тернопольщину, где находятся самые большие в мире карстовые пещеры. «До лета еще далеко», – неопределенно сказал папа, но кто знает, может, он и согласится.
Я рассказал Юльку о Страдчем, а потом позвал в Лазурные пещеры. О Лазурных пещерах я услышал от одного восьмиклассника. Он собирался туда со своими приятелями, и я попросился с ними. Он славный парень – согласился и сказал, что я могу взять еще несколько ребят, были бы только надежные люди, не хныкали и не жаловались, когда натрут мозоли. Дело в том, что вход в пещеры завален с войны, и с тех пор никто не пытался узнать, почему пещеры назвали Лазурными.
Надо было слышать, как Юлько загорелся:
– Наука о пещерах! Спелеология! Это же интереснейшее в мире дело. Нет ничего увлекательнее! Вдруг возьмешь да и откроешь на стене рисунки первобытных людей. А подземные озера! А сталактиты! А неожиданные повороты и впадины!
Мне очень хотелось перебить его – видел ли он когда-нибудь эти пещеры? Но я не сделал этого, а то еще опять скажет: «Чего ты всегда цепляешься, Беркута?» А мне совсем не хотелось ни цепляться, ни ссориться.
Одним словом, решили: идем в Лазурные пещеры. Юлько обещал принести фотоаппарат с блицем и два фонарика – один для Лили, другой для себя…
Стоим на автобусной остановке. Ребятам из восьмого не терпится:
– Да где же твой Юлько? Обещал собрать серьезных людей, а теперь приходится ждать какого-то соню!
Я молчу. Юлько, наверно, просто не захотел вскакивать в шесть утра. Проснулся, видит – небо сероватое, как будто задымленное, представил себе далекую дорогу к пещерам, лопаты, которыми надо откапывать вход, да еще откопаешь ли?..
– Может, с ним что-нибудь случилось? Может, троллейбус сломался? – попробовала защитить Юлька Лили.
– Ищите две копейки, – говорю я. – Телефон, как утверждает Юлько Ващук, – заслуживающее внимания средство коммуникации.
Я вошел в телефонную будку и через некоторое время спокойно вернулся на остановку.
– Что, Славко, он уже вышел? – спросила Лили.
– Как же, вышел! Мчится сюда на вертолете! Вышел!.. Спит, как медведь в январе, и лапу во сне сосет.
Подошел автобус. Я первый шагнул на ступеньку – говорить ничего не хотелось, ребята из восьмого сердились, и я чувствовал себя виноватым, как будто это меня ждали и я не пришел.
– А как же я без фонарика? – вдруг испуганно вспомнила Лили.
– Ничего. Как-нибудь, – говорю. – Я захватил два.
– Ты что же, знал, что он не придет? – тихо спросила Лили.
– Откуда я мог знать? Просто так… Мало ли что случается… Спелеология – это, кроме всего прочего, еще и предусмотрительность, как уверял один греческий философ…
На следующий день Юлько и не заикнулся о пещерах. Может быть, ждал, не спрошу ли, почему он не пришел? Но я не спросил.
Я думал: кто из нас изменился? Я ли раньше не замечал, каким был Юлько, или он был другим? А может, и в самом деле придираюсь? Или просто после того случая с папиным самолетом, после нашего разговора о предельной нагрузке мне захотелось, чтобы Юлько, мой друг, был таким, а не другим, – не таким, какой он на самом деле? Ничего не понимаю… Да и справедливо ли это?
А сам я – какой? Чем я измерю эту мою предельную нагрузку, о которой мы говорили с папой? Говорили почти год назад…
ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА– Мама, а у нас на трени… – с порога начал Славко и словно споткнулся. – Мама, что с тобой? Мама?!
Мамины руки опущены, она словно забыла, что у нее есть руки. На плечах большой пуховый платок – маме холодно? Но ведь в комнате страшная духота, пахнет валерьянкой и еще чем-то необычным.
– Мама! Ты что, мама?
– Сынок… – сказала мама. – Только ты не волнуйся. Все будет хорошо, но… Ты не волнуйся. Они не прилетели. Ничего не известно… Все должно быть хорошо, сынок…
Славка будто окатило большой холодной волной, сбило с ног и потащило по острым камням, в пучину, откуда нет возврата. Мальчик прикусил губу так, что ощутил солоноватый привкус крови, и через силу проговорил взрослым, чужим голосом:
– Конечно, все будет хорошо, мама. Иди ляг, я сам приготовлю себе ужин. Я сегодня тренировал новичков. Интересно, какие из них выйдут спортсмены.
– Да, интересно, – равнодушно согласилась мама и прибавила: – Чай на столе. И сухарики.
И папа с удовольствием хрустел вкусными сладкими сухариками.
– Хорошо, я найду. Ты ложись.
Возвращаясь вечером с тренировки, Славко всегда находил на столе стакан прохладного чая с лимоном и свои любимые сухарики с изюмом.
«Ну как, был укол?» – спрашивала мама и улыбалась, и при этом у нее чуть приподнималась верхняя губа.
А потом мама стояла перед зеркалом и заплетала на ночь свои длинные, цвета осенней кленовой листвы волосы. Мама все грозилась, что обрежет косу, но папа и слышать не хотел – только попробуй!
… Славко сидел за кухонным столом, покрытым белой скатертью, тупо смотрел на стакан, где плавал круглый, как спасательный круг, кусочек лимона, и повторял: «Только спокойно, только спокойно… Все будет хорошо, должно быть хорошо. Папа большой, сильный, мужественный, самый сильный на свете – с ним ничего не может случиться… Ведь правда, папа, с тобой ничего не случилось?»
Папа всегда летал. Папа испытывал самолеты. От него пахло облаками. Пахло простором и небом. У папы на левой руке выжжен синий номер. Он не стирался и не исчезал, хотя его поставили очень давно; папа, тогда чуть постарше Славка, был в немецком концлагере, фашисты выжгли ему это тавро. Но папа выжил, папа вернулся, папа есть, он будет, он войдет в комнату и скажет:
«Как дела, голубчик?»
Папа любит мамины косы. Самолеты. Неожиданные вопросы сына. Прозрачные яблоки-папировку. Белые-белые рубашки и резную из камня подставку для карандашей на мамином столе. И голубые на рассвете стволы берез. И их бурливую, даже слишком шумную и неспокойную улицу. Запах пекарни, что в доме на той стороне. «Он есть, он будет, придет и спросит: «Как дела, голубчик?» Он придет и спросит, он придет», – как заклинание, повторял Славко…
К утру в комнате все стало серым, приглушенно задребезжал ненужный будильник. Мама лежала, закрыв глаза, сын осторожно укрыл ее платком. Платок сполз с маминых плеч. Мама притворялась, будто спит, а может, и правда уснула. «Хорошо, что уже светает, ночь была ужасно длинная», – подумал Славко. За окном еще белело, виднелся, словно заплаканный, рогатый месяц. Глухо, верно спросонья, грохотали трамваи. Отзывался на нечастые шаги тротуар. Часы медленно переступали крохотными ножками, ножками-стрелками, с секунды на секунду. Ночь была ужасно длинная, и папа не приходил.
А потом звенел звонок, шелестели страницы учебника, шумели в коридорах первоклашки. В школе все шло своим чередом.
– Слушай, что нам задавали по английскому?
– Хочешь поездить на «Чезетте»? У моего брата новенькая «Чезетта», замечательный мотороллер…
– Эге! Наши выиграли! Ребята, наши вчера выиграли: два – ноль. Вы смотрели по телевизору?
– Пусти меня, чего толкаешься?
– Наречием называется часть речи…
– Ты решил задачу?
– Ты…
– Задачу…
Славко слышал и различал отдельные слова, но они не связывались в его сознании. Он улыбался и кивал, когда к нему обращались, даже отвечал что-то, не слыша собственного голоса. Видел, как перед ним ходят, жестикулируют; кто-то смеялся, кто-то кричал, но его ничто не трогало.
«Чезетта». Что такое «Чезетта»? Какая «Чезетта», когда до сих пор ничего не известно о папе? Звонят и успокаивают – с утра трижды звонили, а мама отвечала в трубку тускло и без надежды:
– Да, да. Конечно. Да.
… Отец не раз брал сына в аэропорт. Огромные «ИЛы» и «АНы» чувствовали себя там хозяевами, а крохотные «супераэро» выглядели игрушками, случайно позабытыми в поле каким-нибудь ребенком. Славко смотрел, как самолеты поднимаются в небо. Они отрывались от земли, и в это мгновение мальчику становилось жутко; именно в это мгновение, а не потом, когда машина была уже высоко. Потом уже безопаснее, думал мальчик; первое мгновение казалось особенно тревожным.
На поле дул ветер. Даже когда в городе было совсем тихо, на лётном поле ветер выдирал землю из-под ног, словно здесь он рождался и отсюда, как самолет, начинал свой путь…
Славко думал о самолетах, старательно обходя в мыслях воспоминания об отце. Вспоминать – это как бы о том, что было, а папа есть, есть, есть!
– Беркута! Славко Беркута! – Славка звал с порога дежурный по школе, с красной повязкой на рукаве. – Где Беркута, ребята? Его к телефону.
Сперва мальчик не понял. Беркута? Это он. К телефону! И вдруг, расталкивая всех, локтями продираясь сквозь толпу, Славко бросился в учительскую, где на стене висел чудной, старомодный телефон, который прозвали «ундервудом».
Сквозь треск и шипение донесся мамин голос:
– Нашлись, сынок! Вынужденная посадка. Рация испортилась, не было связи. Ты только не волнуйся… Ты не волнуйся, я тебе ска…
– Папа? Мама!
– Нет, не папа… Второй пилот…
Нижняя губа Славка мелко дрожала, рука никак не могла повесить телефонную трубку на крючок, словно эта рука больше не принадлежала мальчику, а двигалась сама по себе.
Радость: «Не папа, не папа, не с папой», – эта радость входила в него, словно он глотал свежий морозный воздух после духоты. Голова кружилась, и следом за радостью его настиг стыд – как он может радоваться! Как может говорить себе: «Не папа, не папа!» Как он может так подло радоваться!
Славко вышел из учительской. Было тихо. Уже шел урок. Из всех классов пробивались сквозь двери голоса – разные голоса, привычные интонации.
Нет, он в самом деле подлец, если может так радоваться. Но ведь он радуется не тому, что кто-то погиб, а только тому, что папа жив, только этому, только из-за этого – папа жив!
Второй пилот. Второй пилот. Тихий, маленький Евген Павлович. Евген Павлович, стриженный ежиком, как мальчишка. На нем еще форма сидела неуклюже, а на Новый год он звонил отцу в двенадцать и говорил одни и те же слова:
«Живем, старик!»
Отец отвечал, чокаясь рюмкой с телефонной трубкой:
«И будем, старик!»
На мальчика словно снова накатила холодная волна, и он весь скорчился, обессиленный и безвольный.
Дома, несмотря на бессонную ночь, Славко не лег отдыхать. Он хотел дождаться матери с дежурства в типографии, хотел расспросить обо всех подробностях, потому что хотя она и звонила вторично, но не добавила больше ничего к тому, что Славко уже знал.
Дежурства в типографии выпадали маме раз в месяц. Тогда она приходила за полночь, и Славко обычно уже спал. Мама ходила по комнате очень тихо, чтобы не разбудить ни его, ни папу, но они все равно просыпались.
«Нет ошибок? Все слова написаны правильно?» – сонно моргая на свет, спрашивал мальчик.
Мама смеялась;
«Завтра прочитаете газету. Может, найдете, а я не заметила, когда просматривала в последний раз».
Иногда она приносила с собой несколько первых номеров, которые назывались сигнальными. Фотографии на полосах казались наклеенными – такой черной была свежая краска. Славко брал в руки газету и искал там свою – разумеется, мамину – фамилию. Мамины статьи ему нравились. Они начинались неожиданно и занятно, как уроки Антона Дмитровича по географии. И их всегда хотелось дочитать – самое интересное мама обычно приберегала к концу. И Славко был уверен, что все об этом знают и обязательно дочитывают мамины статьи до конца, так же как и он…
В тот вечер Славко не находил себе ни места, ни занятия. Уроки делать было трудно. Прочитанные в учебнике слова выскальзывали из головы, математические знаки расползались перед глазами.
«Может, завтра не спросят». Он махнул рукой и попробовал почитать. Но и это не спасло от беспокойства, думалось все время о другом. «Где они сейчас? Когда прилетят? Не все…» Острое чувство радости пропадало – не папа, не с папой случилось худшее; вспоминалось много всякой всячины, простое, будничное о Евгене Павловиче, и от этого думать о втором пилоте было еще горше.
Нет, не читалось ему. Славко сидел, подперев лицо кулаками, и все думал и думал, и мысли складывались в четкие, стройные фразы, и если бы он стал их записывать, то сам удивился бы их взрослости и необычности.
Позвонили. Может быть, мама? Только это что-то не мамин звонок, мама звонит весело, кажется, ей нравится нажимать кнопку, а тут кто-то робко дотронулся до нее.
– Свои, свои, – заверил голос из-за двери.
Славко не узнал голоса, но все равно отпер дверь.
– Что, твоих нет?
– Нет, – ответил Славко, обрадовавшись гостю.
Это был механик из аэропорта, Комарин. Славко забыл, как его зовут, помнил только фамилию. Он видел этого механика не больше трех раз, но теперь обрадовался его появлению, потому что надеялся что-нибудь узнать и поговорить о папе. Вот этого, кажется, и надо было ему больше всего – поговорить об отце.
– Садитесь, садитесь, – суетился мальчик, подставляя гостю стул и пододвигая пепельницу: Комарин вошел с сигаретой.
– Эх, ты-и! – вдруг слезливо сказал механик и погладил Славка по голове.
Мальчик немного отстранился – он только теперь заметил, что гость здорово навеселе, от него несло неприятной едкой смесью водки, лука и машинного масла.
– Эх, ты-и… Что ты знаешь… Разве тебе скажешь? А мне говорить надо, мне душу, душу надо опростать. Ты понимаешь, что это за птица – душа?
– Может, чаю выпьете? С лимоном, – предложил Славко. Теперь он уже знал, что не заговорит с Комариным об отце.
– Эх ты! Да что мне чай? Мне бы сейчас душу, ясно тебе? Душа у меня горит, чем тут поможешь? Мне три ночи подряд одно и то же снится – я на земле лежу как приклеенный, а на меня самолет падает, падает, ревет и падает, и некуда от него деваться! Нет, брат, авиация – это тебе не футбол! Ты думаешь, я своей не говорил? Я ей говорю: брошу все к черту, на что оно мне сдалось, давай уедем куда-нибудь, ну, хоть к деду в Демидовку, там самолет раз в год в небе увидишь. Тихо, ни тебе шума, ни грохота, телеги буду ремонтировать, а что – ведь и телеги нужны…
Мальчик внимательно следил за ходом мысли гостя, вслушивался в запутанные фразы, но ничего не мог понять.
– Ты знаешь, где он садился? У него свой столик был возле окна. Они после полета приходят глотнуть чего-нибудь – после полета, знаешь, жажда мучает. Не думай, что крепкое, нет, стакан нарзана и бутерброд… Он, бывало, всегда спросит: «Как тут земля без нас, ребята, все в ту же сторону вертится?»







