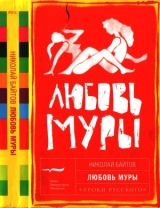
Текст книги "Любовь Муры"
Автор книги: Николай Байтов
Жанры:
Сентиментальная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Николай Байтов
Предисловие автора
Только что – где-то тут, в середине октября 2012 года – исполнилось 78 лет с того дня, когда Мура познакомилась с Ксюшей (Ксенией Порфирьевной Курисько). Место их встречи может быть локализовано примерно с такой же точностью, как и время, – это один из санаториев Мисхора.
Ксения Порфирьевна была, по-видимому, довольно заурядной женщиной, – ничем не примечательной в кругу таких же заурядных отдыхающих и лечащихся, – была БЫ, если б её в тот миг не коснулась ЛЮБОВЬ МУРЫ, одна из величайших любовей XX века… И лёгкие касания этой удивительной любви – жёлтые листики писем – длились шестнадцать лет – с трёхлетним перерывом на оккупацию – длились до гроба[1]1
Я думаю, что первой умерла Ксения и произошло это в 1950 году (письма обрываются). Мура в это время была очень больна, но если бы первой умерла она, то Ида, Мурина дочь, продолжала бы Ксюше писать, и мы почти наверняка нашли бы в этой пачке писем сообщение о Муриной смерти. А так – его нет… Ксеня была старше Муры лет на десять или чуть больше. В 50-м году ей могло быть лишь немного за шестьдесят…
[Закрыть].
Письма Ксюши (за исключением двух-трёх) не сохранились. Тем не менее, её образ рисуется мне достаточно отчётливо, чтобы сравнить его с образом Муры. И сравнение выходит не в Ксюшину пользу. – Понятно, что Мура в пылу влюбленности превозносила её до небес. Но мне – отстранённо – достоинства Ксюши представляются загадкой… как, впрочем, загадкой представляется и сама ЛЮБОВЬ МУРЫ, – так что это всё запутывается в один сложно-таинственный клубок, который невозможно распутать, да я и не ставил такой задачи. Я только знаю и чувствую, что Ксюша была, по-видимому, недостойна этой любви. Но что ж теперь делать?
Многие говорят мне, что я выдумал свою героиню, тычут мне в различные несообразности, неувязки… Я честно отвечаю, что не могу эти несообразности объяснить. Но и выдумать я тоже не мог. Как можно такое выдумать? – да помилуйте! Я жил со своей героиней! Я годами – изо дня в день – наблюдал её трудную жизнь в маленькой комнате на окраине Киева. Я до слёз вглядывался в особенности её быстрого почерка, дышал и не мог надышаться сладостным бумажным прахом. Я изучал орфографические и пунктуационные особенности её письма и забавные странности её речи. На очень многое я научился смотреть сквозь Мурино «воспринимание»… Может быть – при иных обстоятельствах – я готов был бы стать её любовником, – несмотря на то, что она презирала и третировала мужчин (а может быть, в какой-то мере и благодаря этому)… Во всяком случае, я, пересилив скуку, свойственную моему времени, внимательно прочёл её любимого автора, Ромена Роллана, – и ведь действительно смог найти и почувствовать кое-что из тех качеств, которые она так ценила в нём…
Мура не раз просила Ксюшу уничтожить её письма. Она приходила в ужас от мысли, что кто-то посторонний может это прочесть. Я не знаю, что на это сказать. Пусть читатель не смущается (или, наоборот, пусть смущается, – это тоже хорошо). Я могу только ободрить его. – Ведь трудно представить, что стало бы с Татьяной Лариной, если б она из послебытия видела все эти толпы, читающие и выучивающие наизусть её письмо к Онегину. Но думается почему-то, что там совершенно иное отношение ко всему этому… А может быть, мы ошибаемся – и своим чтением наносим раны скитающейся где-то душе? Но поскольку не знаем наверняка, то и не можем всерьёз этим смущаться…
Могут возразить, что Татьяна – персонаж, а Мура живая (была живая). Нет, не так всё просто. – Вон Даниил Андреев в «Розе мира» описывает область «литературных героев», – ему было открыто, что там это такие же реальные сущности. Или почти такие же… Как бы там ни было, вопрос этот очень сложный. Если здесь есть какой-то грех, то я его полностью беру на себя, – так что читатель может совсем об этом не думать.
И ещё один абзац. – Сказать об «эпистолярной конвенции»… —
В то время почти не было телефонов. Уж междугородные-то звонки были практически недоступны. Письменное общение оставалось единственным – для людей, разделённых порядочным расстоянием. (Мура писала каждый вечер по три-четыре письма разным людям, – это было для неё совершенно естественно.) Эпистолярная языковая конвенция была в полном ходу – она сохранялась, жила, модифицировалась. Она дышала и наполнялась реальными чувствами. Ещё десять-двадцать лет – и она начнёт приобретать некий дух затхлости, а там и музейности… Сейчас – при бурном развитии электронной почты и эсэмэсок – старая конвенция быстро рушится – уже разрушена, – но это не значит, что никакой конвенции нет вообще, – новая конвенция в становлении, она всё ясней прорисовывается: уже можно видеть ряд обязательных правил, действующих при такой переписке (хотя на поверхностный взгляд может казаться, что люди обрели абсолютную языковую свободу). Это вопрос отдельного – весьма интересного – филологического исследования. Я лишь хочу здесь отметить, насколько Мура была свободна внутри эпистолярного языка своего времени. Она не нарушала условностей, поскольку ощущала их как необходимую среду обитания. Вернее сказать, она её вообще не ощущала, и – уж подавно – не думала о ней. Перед ней была только та «простая» (иногда очень непростая) конкретика, которой надлежало быть выраженной. И она передавала её Ксене с непосредственностью, которая потрясает и увлекает за собой, заставляя забывать о форме старого письма, может быть, жёсткой теперь для нас и неудобной. У Муры несомненно был эпистолярный дар. Не зря Ксеня называла её письма «увлекательными», перечитывала их и с такой неохотой и так выборочно уничтожала, поддаваясь на Мурины просьбы. У самой Ксени такого дара очевидно не было…
Николай Байтов
Любовь Муры
(Роман в письмах)
14/XI. Вечер.
Моя хорошая, моя родная Ксеничка!
Итак, я дома, но как я разочарована, а чем и сама не знаю! Убого всё вокруг. Не могу только лишь наглядеться на своё сокровище Идуську, её изуродовали стрижкой, но для матери ребёнок всегда хорош. Первым моим движением по приезде было – разбор полученных за время отсутствия писем, в надежде, что застану от Вас хоть несколько слов. Но увы! Почему Вы так пренебрегаете мной? Пожалуйста, не делайте своего брезгливого «je m’en fiche!» по отношению ко мне. Пишу это письмо наугад, навряд ли оно застанет ещё Вас в Крыму. Вначале решила было написать через несколько дней в Москву, но не выдержала и сейчас несмотря на большую усталость (ведь я часа 3 назад приехала!) пишу Вам.
Москва выжала меня, как лимон, бегая от утра до вечера по городу, я там просто ослабла. Мама надо мной хнычет, я ей уж сказала, что меня ожидает, и сама с трепетом жду своей Голгофы, боюсь этого момента, хоть бы не умереть! Не смейтесь надо мной, страх отнимает остаток разума.
Деньги вышлю Вам завтра или послезавтра.
Меня, наконец, пугает Ваше молчание, что с Вами? Не заболели ль Вы? Осведомилась бы я о Вашем самочувствии у кого-нибудь из Ваших соседей, но просто неудобно, и без этого моя привязанность к Вам смешила кое-кого, напр. Аню. Может быть, Вы утеряли мой адрес? Наивное предположение, не правда ли? Но всё-таки я не сомневаюсь, что Вы меня не обидите настолько и дальше напишете.
Завтра начинаю «свой трудовой день», но без горенья, а пожалуй, с отвращением и тоской. Если не включусь и дальше в работу – буду несчастным человеком, работать без радости – я не могу.
23/XI.
Ксенюш, родной мой!
Придя, как все эти дни, домой обозлённой и подавленной, я ещё больше была огорчена от отсутствия известий от Вас и вдруг – о, радость! – мама, выйдя в коридор, находит Вашу открытку. Спасибо, детка, за неё. Это время, тяжёлое для меня время – не оставляйте меня. Я наделала много нехороших вещей, о которых гадко вспоминать и которые, увы, нельзя и выправить, пока время не затушует мои «милые проделки»… [Слова «тяжёлое для меня время» и «я наделала много нехороших вещей» Ксения подчеркнула красным карандашом. – Н.Б.]
В Москву я Вам послала одно объёмистое письмо – это накопленные впечатления нескольких дней. Не знаю, как приняли Вы его, не «занудило» ли оно Вас? [Это письмо отсутствует. Видимо, не дошло. – Н.Б.]
Самый процесс писанья к Вам, как форма общения с Вами, хотя и не даёт полного удовлетворения, но всё-таки мне мил, вот поэтому я слишком обильна в своих письменных излияниях.
Скоро, а именно 25-го числа я получу полный комплекс удовольствий у частного врача. После «операции» я в тот же день, вернее вечер, буду дома. Я очень боюсь предстоящего. Во время моего пребывания в Москве Пётр на дом снова прислал возмутительное письмо, на которое я не ответила. Довольно с меня этой ругани, при одном воспоминании которой кровь приливает к голове! О том, что ждёт меня при создавшемся положении, я никому из своих не говорила. Знают только мои сотрудницы. А в общем… тоска, – по ночам нет сна. И вот в таком безрадостно-мутном течении дней моих – каким светлым пятном являетесь Вы, Ксения. И сама не знаю, почему так привязалась к Вам за такой короткий срок! Очевидно, большую роль сыграла наша общая неудовлетворённость и мой, мягко говоря, беспокойный характерец никогда, никогда не даст мне чувства удовлетворения, что навряд ли посетит и Вас. Такая общность очень роднит. [Слова «общая неудовлетворённость» и «никогда не даст мне чувства удовлетворения» подчёркнуты Ксенией. – Н.Б. (Далее все такие вставки – в квадратных скобках и курсивом – мои. «Н.Б.» больше ставить не буду.)]
Детка моя, высылайте фотоснимок, ведь этим я буду надоедать Вам в каждом письме. Так или иначе, а его я буду иметь. Не удивляйтесь моему нахальству! Я рискну, по своём приезде в Москву, просто выкрасть у Вас снимок, если до этого времени не заполучу его «добровольно». Цель оправдывает средства.
Ваши письма, открытки я просто «обсосала» – знаю их на память. Когда-то Вас увижу?
27/XI.
Вот уже 2-й день не тает выпавший снежок. Полная картина зимы. Ида стала на лыжи – она в восторге от снега. Я же чувствую себя опустошённой, как физически, так и морально…
Но не надо нытья и жалоб. Следует крепко помнить, что человек бодрый, самоуверенный в такой же степени умеет подчинить себе судьбу, в какой судьба вертит и швыряет в разные стороны людей хныкающих и растерянных.
Ксеничка, как нужны мне Ваши письма! Дружба, – если она утончает наши переживания, если укрепляет то хорошее, что у нас есть, то разве следует ей противиться? Нет, пусть будет радостен тот момент, когда такое чувство охватывает нас. Я уже начинаю говорить высокопарно…
Воспоминания, мысли о Вас меня облагораживают – за это я Вам благодарна; Вы несравненно выше, цельнее меня. Мои нравственные нормы расплывчаты, расхлябаны, – им не мешает принять более твёрдую форму… Я знаю, что я надоедаю Вам своими письмами, что я, может быть, злоупотребляю Вашим терпением. Дальше я постараюсь писать реже, а сейчас, именно сейчас, Вы мне необходимы. О себе вообще не надо много говорить, а я так грешила этим ещё в Мисхоре – поэтому больше о своих переживаниях говорить не буду. Но ещё одна оговорка – поймите меня, пожалуйста, правильно. Не подумайте, что к Вам я прибегаю только в свою «несчастную минуту». Хотите или не хотите, но я всем своим дальнейшим поведением докажу, что к Вам прибегать я буду «во всякие минуты».
28/XI.
Детка моя дорогая, получила с таким запозданием Ваше письмо из Севастополя. Оно наполнило меня большой горячей радостью за Вас. Как мне приятно Ваше утверждение о том, что я послужила первым толчком к улучшению Вашего самочувствия! Я довольно-таки самонадеянна, – мне думается, что если б я была около Вас, то приложила бы много усилий к появлению у Вас большей жизнерадостности и с течением времени – добилась бы этого. Вот теперь я хандрю, но это, надеюсь, временно, а обычно ведь я до особого, мучительно простого чувства беру эту красоту жизни, несмотря на то, что я баловнем жизни никогда не была.
Результаты «операции» не прекращаются – я на следующий день была на ногах. Нужно взять себя в руки: я замечаю, что и для окружающих становлюсь непереносимой.
Пора кончать, от курения тошнит, – за письмом к Вам я утопаю в облаках дыма. Вы курите или нет? Целую Вас горячо.
29/XI.
Поздно пришла домой, буквально приплыла, утопая в жидкой грязевой кашице. Шла домой с твёрдой решимостью приготовиться к проведению завтрашнего заседания сотрудников, но искушение черкнуть Вам несколько слов так велико, что я изменила намеченный план.
Чем-то Вы сейчас заняты? Сейчас 10 час. вечера. Вы, конечно, дома и, по всей видимости, слушаете радио. Музыка действует на Вас успокаивающе, через 1/2 часа Вы будете укладываться спать, рассказывая Оленьке, борясь с дремотой, о своей жизни в Мисхоре и т. д.
Интересно, каково Ваше мнение обо мне? Очевидно, укореняется мнение не совсем лестное для меня, как о какой-то сумасбродке, что не желает отстать от Вас?! Да и в самом деле, в наши дни такая привязанность кажется по меньшей мере странной. Только я способна на такие «чудачества». Хотела бы я знать искреннее Ваше мнение об этом… [Слова «в наши дни такая привязанность» и «по меньшей мере странной» подчёркнуты красным карандашом Ксении. И следующая фраза подчёркнута вся целиком:]
Жизнь хороша только лишь тогда, когда мы её берём без таких «интеллигентских» ковыряний.
30/XI.
Своим молчанием, вернее изредка брошенными мне письмами в ответ на мои потоки слов, – Вы меня просто ставите в неудобное положение. Эта переписка носит какой-то, если можно так выразиться, вымогательский характер, ведь я у Вас, чуть ли не помимо Вашего желания, вытягиваю редкие письма. Конечно, это досадно. Я и сама себе давно уж кажусь смешной. Моя дорогая, предлагаю Вам следующую сделку: обещаю Вам реже писать в том случае, если Вы «откупитесь» от моего письменного обилия своей фотографией. Идёт?!
Мой выходной день прошёл не так, как намечала. С утра долго играла на пианино, разучивая 5-ю сонату Бетховена. Allegretto этой sonat’ы – лучшая часть её, тут дано нарастание скорби, переходящей в мягкую, как будто уходящую грусть. Ни одно искусство не действует на меня так непосредственно и глубоко как музыка. Она смывает всю грязь, всю мелочность, всё дурное, она настраивает на более высокий тон. Но странно, как только прекращается музыка и приходится снова из мира звуков погружаться в свою «милую» повседневность, то нетерпимость к ней и раздражение всем окружающим охватывает в удвоенном размере. Поэтому вторая половина сегодняшнего дня проходит в сплошном остервенении, я уж ни с кем не говорю, даже Иду отталкиваю от себя. Вы не узнали бы в этой мегере «прежнюю Муру».
3/XII.
Моя родная! Как тронули Вы меня своей телеграммой – я растрогана. Спасибо. Но вопрос «почему молчите?» – ирония! Я забросала буквально письмами, причём размером своим они не уступают фолиантам.
Здоровье намного лучше, а общее состояние весьма неважное. Я ничем не удовлетворена. Учреждение почти процветает, без конца посещают различные делегации, оставляя в книге посетителей самые лестные отзывы. Сегодня была представительница ВОКСа (Всесоюзная организация культурных связей с заграницей), обследовала нас с тем, чтобы включить учреждение в список организаций, намеченных для ознакомления иностранцев с постановкой работы в подобных дошкольных учреждениях. Если командование не запротестует (военная территория!..), то нам будут отпущены специальные средства на оформление как помещения, так и… сотрудников. Как видите, по работе как будто бы неудовлетворения не должно быть. Чувство – недовольства собой, мужем, ребёнком (от учительницы ежедневно получаю записки: «дерётся, ругается, хулиганит»…) разъедает. Всё вместе затирает жизнерадостность.
[Письма первого года я иногда сокращаю, потому что кое-что из них уже было мной использовано в книге «Ботаника». Позже таких сокращений не будет.]
3/XII (12 часов ночи).
Только что пришла домой. Застала 2 письма – от Вас – тощее и от Петра – объёмистое. Перед сном хочу сказать Вам несколько слов.
Снова повторяю, что счастлива, безмерно рада улучшению Вашего душевного состояния. По-женски думаю, что в этом немалую роль сыграл «пожилой химик». Всё это великолепно, так оно и должно быть. Вы ведь очаровательны и должны пользоваться большим вниманием, нежностью, чем Вам давал (судя по вашим словам) В. [Василий?]. Конечно, в Москве продолжайте это знакомство.
Родненькая Вы моя, то безразличие, апатия, которые я наблюдала у Вас в Мисхоре – меня доводили иногда до бешенства (если можно так сказать) от сознания своего бессилия в оказании помощи Вам. [Курсивом в Муриных письмах я буду выделять то, что она сама подчёркивает – теми же чернилами, как правило, одной чертой.] Я не могла Вам тогда говорить об этом, но бывала иногда прямо в отчаяньи. Вот поэтому так радостно мне слышать о Вашем «бодром состоянии».
Детонька моя! Вы так скупо мне пишете, а я ведь Ваши письма выучиваю на память!
5/XII.
He имея возможности (ни малейшей) Вам эти дни писать – загружена заданиями от Наркомпроса (написать частушки, рецензии на книги, приготовиться к докладу и т. д. помимо повседневной работы в учреждении) – я вынашивала в «интимных» уголках своей мозговой коробки строки, в которых собиралась обвинить Вас в том, что Вы меня забываете, что я Вам не нужна. Несколько фраз последнего В/письма – дорогих, милых фраз – направили по иному «стилю» моё настоящее письмо. Конечно, смешно думать, что я могу так резко порвать с человеком, которому без конца говорю о своей привязанности. Я благодарна Вам за то, что Вы существуете, и всё пребывание в Мисхоре в воспоминаниях окрашивается милой, очаровательной Вашей личностью. У меня бесчисленное множество приятелей, но вот этими днями я бессонной ночью подвела им баланс и осталась с нулём – друзей среди них нет! Все они ко мне внешне прекрасно относятся, но внутренней связи, крепкой вот такой проникновенной нет ни с кем [слова с «внутренней» по «вот такой» подчёркнуты красным карандашом Ксении]. Никто из них меня не интересует, никто так не дорог, как Вы, моя родная Ксеничка. Вот поэтому навряд ли когда я оставлю Вас в покое, хотя бы мне пришлось проявить назойливость, как это было вначале.
Хотя Вы и не просите (но я человек, с родными мне людьми «не гордый») – я высылаю Вам то, что нашла в архиве – давнюю (3 года назад) любительскую фотографию. Я вышла, как всегда, скверно, у Идочки мордочка, не помню уж почему, испугана. Всё-таки эта порыжевшая карточка, может быть, устыдит Вас и ускорит присылку Вашего фотоснимка…
Уже очень поздно, 2 часа ночи, спать не хочу, но в висках кровь стучит так, что перо бегает по бумаге не с обычной уверенностью. Отгородила я себя от своих ширмой, но всё-таки даже иллюзию одиночества создать трудно… Я по отношению к близким прямо преступница. Сейчас в Ессентуках находится моя сестра, в очень болезненном состоянии; я должна была ей давно ответить на письмо, но всё так складывается, что не имею возможности и пожалуй желания. Её, свою единственную сестру – я очень люблю и кроме того, с холоданием своего нутра знаю, что она не долго ещё проживёт. Бедная она страдалица. Завтра непременно ей напишу… [Как выяснится из дальнейшего, здесь речь идёт о Кате, которая проживёт ещё порядочно, м.б. дольше самой Муры.]
7/XII.
Я не имею права писать Вам сейчас, но совладать с собой нельзя, и я хоть несколько фраз, но напишу. Не могу – потому, что к завтрашнему дню должна дать доклад (всё на тех же Всеукраинских курсах методистов, о которых я Вам писала) от сознания, что времени для подготовки нет и усталая голова не даёт продукции и в результате доклад не выйдет, каким хотелось бы мне, – я нервничаю ещё больше, что тоже не способствует успеху…
8/XII.
Попробуйте не плакать. Я не переношу, между прочим, слёз, они вызывают у меня жалость, они простительны только в большом неожиданном горе. Кошечка моя, не отравляйте сами своих дней, ведь нам осталось их не так много. Не с безрассудной щедростью мота, а с экономией скупого рыцаря (только разумно скупого!) мы должны расходовать наш уже такой скромный жизненный фонд. Говорю «наш», потому что у нас приблизительно он одинаков. Пройдёт лет 5 – и как тогда мы пожалеем о сегодняшних днях, которые будут сквозь призму прошлых лет казаться и милыми, и желанными… Между прочим, эта мысль настолько подбодрила меня, что сегодня только поэтому мне удался доклад – сознание ценности сегодняшнего помогло справиться с обычной застенчивостью. Понятно ли Вам это чувство?
О Петре не пишу – он для меня ничто, нет, хуже, чем ничто – моя давящая постоянно жизненная ошибка, с которой я не имею силы покончить. [Слова «он для меня ничто» подчёркнуты Ксенией: красным карандашом. Слова «жизненная ошибка» подчёркнуты чернилами, волнистой линией. Сначала я думал, что Мура сама их подчеркнула, но потом, приглядевшись, увидел, что тон чернил немного светлее. А затем и дальше встретились такие же подчёркиванья. Видимо, рука опять Ксении. Видимо, она перечитывала письма не один раз.] Моё ярмо, постоянно гнетущее меня. Его отпуск задерживается, к счастью, до января. О том непонятном мне времени, когда думала о нём и ожидала с нетерпением его писем – вспоминаю так, будто бы эти переживания были у другого человека. [Вся последняя фраза подчёркнута красным.]
Несчастный я человек. Сказать ему об этом не смею и, что хуже всего, выдушиваю редкие ответы с отдалённой пародией на ласковость, хотя временами бываю и некрасиво груба. Чем кончится – не знаю. Может быть, смирюсь снова, как это было не раз. Но зачем он мне?! Уже столько лет я переношу с трудом этого человека рядом с собой и только это лето случилось небывалое со мной, что никогда не повторится. [Конец фразы, начиная со слова «случилось», подчёркнут волнистой тонкой чертой – чернилами.]
Какой ужас прожить всю жизнь с нелюбимым мужчиной, с которым соединяют тебя только ночные часы, после чего, при дневном свете, приходится корчиться от отвращения к себе.
8/XII – на работе.
Моя родная! вечером начала Вам писать, а сейчас, сидя на лекции днём, минутами, урывками, пишу Вам. 2 часа назад прочитала я свой доклад – он прошёл блестяще (отзывы аудитории), я на миг удовлетворена. Лектор, по заданию которого я делала доклад, только отъехала в Москву, её говор и миловидная внешность, немного застенчивая манера держать себя – чем-то отдалённо напомнила мне Вас. Вот только сейчас чувствую, как нечеловечески устала и, пожалуй бы, заснула. Сна не было этой ночью.
«Ночь протекла в лихорадке кошмарной,
К утру лишь только мной сон овладел».
(Не помню уже, откуда?)
Так много хочу Вам сказать на Ваше последнее письмо, но тут, отрываясь, неудобно.
Вчера прошёл месяц со дня моего отъезда из Мисхора – месяц я Вас не вижу. Простите, но не говорить больше о присылке В/фотографии – я не берусь, т. е. впервые не выполню Вашей просьбы и буду по-прежнему зудить о ней. Вы сохранились прекрасно – Вы это знаете, но морщины – ведь это неизбежно, и я люблю не созданный мною в воображении образ, а Вас, какой Вы есть в жизни, значит я приняла и дороги мне и Ваши «морщины», и всё остальное.
Правда, видеть, как умирают постепенно, становясь дряблыми, клетки Вашего тела – чудовищно тяжело, об этом я Вам могла бы рассказать, до чего мучительно я переносила да и сейчас не могу сбросить с себя иго таких страданий. К слову скажу, что, потерявши столько крови, я постарела резко и не могу подходить к зеркалу, но надо скушать и эту жизненную неизбежность. Вы противопоставляете свои годы моим; объективно беря эти возрасты, Вы, конечно, правы, говоря так метко о свойствах 30-летнего возраста, когда организм полон жизненных соков и к этому есть уже накопленный жизненный опыт. Но субъективно я, к сожалению моему, выгляжу на хороших 40 лет, и разница в нашем внешнем облике стушёвана. Глядя на нас 2-х, трудно сказать, кто старше.
Ксенюш, в конечном итоге, не в этом суть – только бы быть удовлетворённой; ведь сколько и уродливых, и старых людей чувствуют себя так удобно в жизни, и уютному их жизненному расположению не мешают и «морщины». Когда же мы с Вами расчистим себе такое местечко?!
Все эти мысли вызваны Вашим упорным нежеланием прислать фотографию. Может быть, я не настаивала, если б у меня не было моей ненормальности, о которой я Вам говорила, что лица близких, дорогих мне людей в воображении стираются и линяют, и это раздражает, мучит. С трудом, временами по кусочкам, складываю Ваш облик, и Вы знаете, при каких обстоятельствах курортной жизни мне удаётся Вас склеить – с усилием вижу Вас сидящей за столом, больше никак не могу, нигде в иной обстановке представить Вашего лица. Всё это дико, но так всегда бывало со мной.
Перерыв.
После моего успешного доклада публика вы называет мне большое внимание; приятно ли мне это? – безусловно – да, но не настолько, чтобы я долго останавливалась на этом.
Итак, продолжаю. Когда хочу доставить себе удовольствие, я силюсь представить Ваше лицо, обращённое с упрёком на меня во время моей несдержанной беседы с врачом. Помните ли эту сцену? Я ей благодарна, что хоть она врезала в мою голову Ваше лицо.
9/XII.
Сегодня Пётр мне снился, – и, проснувшись, я почему-то чувствую угрызения совести. Я немножко, только немножко, Иуда по отношению к нему. Этот человек меня не заслуживает, и в этом я не ошибаюсь. Поверьте мне, что наш союз – это святотатство!
Зима, Ксеничка, подошла сразу и дерзко хватанула нас 15° морозами. Как холодно! В квартире градусник показывает 15°, Идочка прыгает по комнате «в классы», всё сотрясает, но я сегодня терпеливей обычного. Всё-таки как я люблю это негодное существо! Растёт она совершенно безнадзорной и выходки у неё дикарки-папуаски… Интересно, если б мы с Вами жили в одной квартире, например, как соседи – изменились бы под влиянием житейских обстоятельств (как это бывает) наши отношения? О, это было бы ужасно. Хотя мы обе не мелочны, а это в обиходе много значит!
Да, ещё о книге Роллана «Мать и сын», – хочу, чтобы Вы её впитали в себя ещё потому, что образ Аннет здесь дан на грани переходного возраста, и как интересно она переносит его! Детка, достаньте себе одеколон «Цветы мои» [или «мая» – неразборчиво]. Из одеколонов любимый мой запах.
10/XII.
Я уж настолько привыкла к Вашим письмам, что без них чувствую себя не по себе. Если б Вы могли наблюдать за мной, когда с поспешной жадностью распечатываю конверт Вашего письма. Я несносна в своей привязанности, так же как и в пренебрежении к людям…
По странному чувству контраста, сталкиваясь с случаями смерти, я отмечаю у себя новые приливы желания значительней принимать жизнь. Отсюда часто поражающая окружающих неутомимость в работе и радость в нашей угарной и бурной трудовой повседневности. Если б не тяжесть неудовлетворения своей личной жизнью, я бы сейчас сказала: «хороша жизнь, прекрасно творчество, великолепны моменты удовлетворения работой!» Меня недавно обвинили в цинизме (не вульгарно понимая это слово) – не оттого ли, что здраво анализируя окружающее, часто смотрю я в корень вещей и высказываю суждения, что коробит обычно принятый шаблон.
Приехала час тому назад моя сестра из Ессентуков [Катя]. Измождённая и постаревшая, бедняжка. Писать неудобно, но поздним вечером я Вам должна уделить часок. Вместе с Вашим получила письмо от Петра – ругает, раздражён, ни одного слова нежности (тем лучше!) и преподносит мне конкретный срок приезда.
Несколько слов относительно Вашей «боязни» нашей дружбы: моё отношение к Вам надолго, навсегда зацементировано [подчёркнуто красным карандашом]. Вы для меня нечто такое существенное, что я сейчас не представляю себя без Вас, и я только опасаюсь Вашего безразличия ко мне.
Ах, как мешают мне писать – до чего отвратительна жизнь при отсутствии отдельной комнаты! И как всё усложнится приездом Петра (я так отвыкла от его присутствия!) Каждый шаг, каждое письмо – под контролем. Исчезнут мои вечера за письмами к Вам, буду писать тогда днями, у себя в учреждении.
11/XII.
Кисынька моя, не особенно завидуйте моей «не сухой работе». Окружающая меня среда – нудна. Материальные шероховатости заставляют терять голову – в гонках за различными субсидиями; для выполнения всех заданий не достаточно 24-х часов – отсюда лихорадочная напряжённость и неудовлетворённость от сознания невыполненного – и т. д. Что является положительным – это разнообразие заданий, в которых грузнешь по макушку и не успеваешь думать о своей особе. Зато ночь существует для погружения в прелести своих личных горестей и, переплетаясь с дремотными видениями, получаются иногда затейливые комбинации, от которых с облегчением освобождаешься утрами…
О, как мешают жизни материальные шероховатости – это то, что вечной тяжестью душило, омрачало моё детство, да и последующая жизнь даёт в этом отношении себя чувствовать. Беспечность в этом Петра – умилительна! Беря сравнения из библейской завали, я бы сказала: «как птица небесная!». Неужели я с ним так и не развяжусь. Единственный выход – выехать подальше с Украины.
13/XII.
Пишу Вам из зала съезда. Дома не была уже сутки. Эту ночь не пришлось спать – прошла вечеринка (окончание работы курсов), я безумствовала, была шальной, разошлась, как я умею. Сейчас идёт съезд – выступления очень интересные, но я «угроблена» для работы. Не была дома и «с вожделением» решаю: а вдруг меня там ожидает Ваше письмо?! Да ещё с фотографией!.. Я по Вас скучаю, снова говорю Вам, думая о Вас, читая Ваши письма, я воспринимаю внутреннюю Вашу сущность, но попутно мне необходимо представлять Вас внешне, что мне, как Вам известно, не даётся…
13/XII. Вечер. Дома.
Ксенёчек, голубка моя рыжая! Благодарю и благодарю! Не напрасно сегодня я робко рассчитывала на Ваше письмо, но результаты превзошли самые смелые ожидания. Из всех присланных снимков – милей мне взятый из архива. Вы встали живой передо мной. К досаде – Оленьку не могу представить – туманный снимок. По фотографии Василий, кажется, мне не нравится… Но как Вы прелестны! До чего приятно писать, имея тут же около себя Ваше личико! Вот именно эта полуулыбка, чуть поднимающая уголки рта, наиболее памятна мне. Ещё спасибо, моя рыжая.
Между прочим, родненький мой, пусть не смущает Вас эпитет «рыжая» – это наиболее ласковое слово моего лексикона для близких людей.
Усталость обволакивает меня, мышцы точно из ваты, мысли выползают так тягуче-клейко, но несмотря на это особенно сегодня я пишу с большим удовольствием. Ксенюш, как я Вас люблю, – присланный подарок (временный – sic!) дал такой подъём.
Как только у Иды отрастут волосы, я её сфотографирую. Она написала белое стихотворение на смерть Кирова – прекрасные, эмоциональные слова, которые тронули даже меня, взрослого человека… До чего наше юное поколение чувствуют эпоху и какие иногда дают красивые созвучия ей!
Больше суток я её не видела, ожидала с нетерпением её прихода из школы. Как хорошо, когда кого-то ждёшь… Ещё год назад я жалела, что имею ребёнка, а сейчас не сомневаюсь, что не будь ея у меня – чувствовала б себя совсем одинокой.








