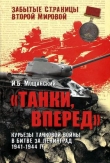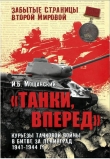Текст книги "Мерецков"
Автор книги: Николай Великанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 37 страниц)
Власов сознательно изменил Родине, перешел на сторону врага. Находясь в Винницком военном лагере для пленных высших офицеров, он согласился сотрудничать с нацистами и возглавил «Комитет освобождения народов России« (КОНР) и «Русскую освободительную армию« (РОА), которые составляли пленные советские военнослужащие.
Бывший заместитель командующего Волховским фронтом выступил с открытым письмом «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом». Кроме того, он подписывал листовки, призывающие свергнуть сталинский режим, которые впоследствии разбрасывались нацистской армией с самолетов на фронтах, а также распространялись среди военнопленных.
В мае 1945 года Власов был захвачен военнослужащими 25-го танкового корпуса 13-й армии 1-го Украинского фронта неподалеку от города Пльзень в Чехословакии. Танкисты корпуса преследовали машину Власова: капитан-власовец сообщил, что именно в этой машине находится его командующий. Власов был доставлен в штаб маршала И.С. Конева, оттуда – в Москву
30—31 июля 1946 года состоялся закрытый судебный процесс по делу А.А. Власова, С.К. Буняченко, В.Ф. Малышкина, В.И. Мальцева, М.А. Меандрова, Ф.И. Трухина и других руководителей власовского движения. Все они признаны виновными в государственной измене. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР они были лишены воинских званий и 1 августа повешены.
Любанская операция закончилась трагично. От этой правды никуда не деться. Вместе с тем нельзя не отметить, что, принеся огромные жертвы, она перемолола несколько полнокровных немецких дивизий, отвлекла силы от Ленинграда. Захват фашистами Северной столицы не состоялся. Любанская операция стала предтечей перехода стратегической инициативы к советским войскам.
ИЗМУЧЕННЫЙ ГОРОД СПАСЕН
Затрещала стена фашистской блокады
Положение Ленинграда с каждым днем ухудшалось. Город на Неве с почти трехмиллионным населением погибал от непрерывных обстрелов немецких крупнокалиберных орудий, авиационных бомбардировок и голода. Рушились неповторимой архитектуры здания, но главное – гибли тысячами ленинградцы. Множились случаи смертности на улицах, убийств и ограблений граждан с целью завладения продуктовыми карточками. Росло людоедство, люди сходили с ума, теряли человеческий облик.
* * *
Наступил август 1942 года. Кирилл Афанасьевич мечтал хотя бы о небольшой передышке для Волховского фронта. Только что закончилась тяжелая Любанская операция, солдаты устали от изнурительных боев. Однако он понимал: рассчитывать на отдых нельзя. Ленинград изнемогал в ожидании снятия блокады, а фашисты в это время готовились к решительному штурму с целью стереть город с лица земли. Задача Красной армии – как можно быстрее разорвать кольцо окружения. Это сейчас для командования Волховского и Ленинградского фронтов было главным.
Два месяца назад Волховская оперативная группа (бывший Волховский фронт так называемого первого формирования) была вновь преобразована во фронт и его вновь возглавил Мерецков. Фронт занимал линию между озерами Ладожским и Ильмень. Начинаясь к востоку от Новгорода и спускаясь по реке Волхов, эта линия неподалеку от Киришей делала дугу, изгибаясь в сторону Шлиссельбурга.
Штабы Волховского и Ленинградского фронтов, а также Ставку заинтересовало синявинское направление, где войска Волховского и Ленинградского фронтов разделяло всего лишь 16-километровое пространство, занятое и укрепленное противником. Это был шлиссельбургско-синявинский выступ севернее параллели Лодва – Ям – Ижора.
Здесь, думалось Мерецкову, прорыв обороны противника и соединение с войсками Ленинградского фронта в случае успеха могли быть осуществлены за два-три дня. Вместе с тем он понимал, что при проведении операции неизбежно возникнет немало непредвиденных трудностей.
Ставка одобрила идею командующего Волховским фронтом. Она рассчитывала, помимо прорыва блокады, активными действиями на северо-западном направлении сковать вражеские войска и не позволить противнику перебрасывать свои силы на юг, где в то время развертывались решающие события.
Район шлиссельбургско-синявинского выступа обороняли пять дивизий вермахта. Но только две из них были обращены фронтом на восток против войск Волховского фронта и находились на участке главного удара. Еще одна дивизия находилась в прикрытии. Выступ был защищен прочным рубежом глубокоэшелонированной и высокоорганизованной обороны во всех отношениях. На один километр приходилось по одному пехотному батальону, по 7—8 противотанковых орудий, столько же дзотов и пулеметных площадок. Помимо первой позиции, имелась вторая, где оборудовались отдельные опорные пункты. Особенно прочными были укрепления на Синявинском плато, высота которого достигала 10—15 метров.
Командование Волховского фронта учитывало возможность быстрого маневра боевых сил и средств противника. Уже с первых часов наступления советских войск немцы могли сосредоточить на опасном направлении необходимое количество авиации, поддерживающей группу армий «Север», а также перебросить с соседних участков отдельные подразделения и части. На второй-третий день могли быть перегруппированы в район выступа более мощные резервы 18-й армии.
Волховский фронт на этот момент имел шесть общевойсковых армий: 4, 8, 52, 54, 59, 2-ю ударную. И еще 14-ю воздушную армию. Военный совет фронта для выполнения поставленных задач выделил семь дивизий против трех вражеских: от 8-й армии – четыре, от 4-го гвардейского стрелкового корпуса – две и от 2-й ударной армии – одну. Кроме того, благодаря заботам Ставки фронт располагал возможностью привлечь к операции около 26 артиллерийских и минометных полков, в том числе четыре артиллерийских полка большой мощности, пять гвардейских минометных полков, из них три тяжелых, десять гвардейских отдельных минометных дивизионов, четыре зенитных артиллерийских полка, четыре зенитных артиллерийских дивизиона и другие средства. Всего для прорыва предназначалось более 600 орудий и минометов, не считая артиллерийских орудий и минометов дивизий, 100 гвардейских минометных установок, свыше 50 танков. Средняя плотность орудий и минометов составляла от 70 до 100 на один километр фронта. В целом превосходство в живой силе составляло более чем в два раза, в артиллерии – почти в четыре.
Мерецков решил построить ударную группировку войск в три эшелона. В первом – соединения 8-й армии. Им придавались почти все средства усиления артиллерии и танков. Они должны были прорвать оборону противника на участке от мыса Бугровского на южном берегу Ладожского озера до Воронова и овладеть селением Синявино, озером Синявинским и районом Карбусель. Во второй эшелон предполагалось поставить 4-й гвардейский стрелковый корпус, предназначенный для развития успеха наступления 8-й армии и завершения прорыва обороны. В третьем эшелоне находились стрелковая дивизия и стрелковая бригада 2-й ударной армии в готовности к вводу в сражение для разгрома вражеских резервов на завершающем этапе операции.
Местом проведения операции шлиссельбургско-синявинский выступ был избран не случайно. Учитывались несколько факторов. Основные из них: это направление выводило с юго-востока самыми кратчайшими путями к Неве и Ленинграду; неожиданность для противника наступления Красной армии на этом участке: немцы вряд ли предположат, что именно здесь, в самом укрепленном отрезке обороны и на такой тяжелой болотно-лесистой местности, им будет нанесен удар.
Местность в районе выступа была действительно тяжелой, крайне непригодной для развертывания наступательных действий. Обширные торфоразработки, протянувшиеся от побережья Ладоги до Синявина, к югу – сплошные леса с большими участками болот. Единственным сухим местом были Синявинские высоты. Но фашисты сделали их неприступными. Повсюду вдоль рек и озер, вдоль оврагов и болот, по кромкам лесных массивов протянулись позиции со множеством узлов сопротивления и опорных пунктов. В центре узлов сопротивления располагались артиллерийские и минометные батареи. Личный состав размещался в прочных блиндажах, а передний край был прикрыт проволочными и минно-взрывными заграждениями.
21 августа неподалеку от Тихвина встретились руководители Волховского, Ленинградского фронтов и Балтийского флота. Волховцы познакомили ленинградцев и командующего Балтфлотом адмирала В.Ф. Трибуца с планом операции своего фронта и вместе обсудили степень их участия в ней. Было решено, что Невская оперативная группа во взаимодействии с авиацией свяжет активными действиями войска противника, расположенные в Шлиссельбурге кой горловине, и не допустит поворота их в сторону наступающих частей Волховского фронта. Если произойдет заминка с выходом к Неве, планировалось наступление Невской опергруппы с форсированием реки. Ленинградцы выразили желание начать наступление одновременно с Волховским фронтом.
Вскоре Ставка вызвала на доклад о готовности к проведению операции Военные советы обоих фронтов. Развернутый план ее представил Мерецков, озвучив желание командования Ленинградского фронта начать наступление одновременно с Волховским.
Сталин заметил:
– Ленинградцы хотят форсировать Неву, а сил и средств для этого не имеют. Мы думаем, что основная тяжесть в предстоящей операции должна лечь на Волховский фронт. Ленинградский же фронт окажет Волховскому фронту содействие своей артиллерией и авиацией.
Операция готовилась в строжайшем секрете. Благодаря этому выход ударных сил в исходные районы остался для гитлеровцев незамеченным.
Однако фашисты тоже оказались не лыком шиты. Готовясь к окончательному овладению Ленинградом, они скрытно перебросили для подкрепления своей группы армий «Север» значительную часть войск из Крыма (11-я армия под командованием генерал-фельдмаршала Манштейна) и дополнительно сосредоточили на подступах к блокированному городу крупные силы артиллерии и авиации.
Операция началась 27 августа. После артиллерийской подготовки, продолжавшейся 2 часа 10 минут, войска 8-й армии атаковали противника. И сразу его оборона дрогнула, а к исходу дня во многих местах была нарушена. Две стрелковые дивизии – 24-я гвардейская [91]91
Бывшая 65-я стрелковая дивизия.
[Закрыть](командир – полковник П.К. Кошевой) и 265-я (командир – полковник Б.Н. Ушинский) – преодолели реку Черную и вклинились в гитлеровские позиции на глубину 1,5—2,5 километра на участке Гонтовая Липка – Тортолово, овладев мощным тортоловским опорным пунктом. На второй день еще успешнее действовала 19-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием полковника Д.М. Баринова. Она с упорными боями продвинулась на 5,5 километра и вышла на подступы к Синявино. 265-я дивизия захватила поселок 1-й Эстонский.
Противник начал переброску с соседних участков на угрожаемое направление не только пехотных и танковых подразделений и частей, но и артиллерии. Это сразу же почувствовали войска 8-й армии: немцы стали наносить сильные контрудары. Мерецков ввел в бой из второго эшелона 4-й гвардейский стрелковый корпус.
На третий день наступления в сражение вступили подошедшие части 11-й армии Манштейна. На стороне фашистов оказалось превосходство в силах.
Тогда Мерецков приказал ввести в бой свой третий эшелон. Но эта мера, как и ранее введенный в сражение 4-й гвардейский стрелковый корпус, не оказала существенного влияния на обстановку. Части 2-й ударной армии не помогли изменить ход событий, они лишь ликвидировали несколько огневых точек врага и местами улучшили занимаемое войсками положение. Мерецков отметит в своих воспоминаниях, что 2-я ударная не оправдывала тогда свое громкое название. К моменту ввода в сражение в нее входила одна стрелковая дивизия восьмитысячного состава и одна стрелковая бригада, поэтому никакого наращивания сил не произошло.
К 5 сентября против ослабленных семи дивизий Волховского фронта сражались девять вражеских, причем в большинстве своем свежих, хорошо укомплектованных и оснащенных. Теперь не только в живой силе, но и в артиллерии гитлеровцы имели превосходство.
Чтобы поддержать Волховский фронт, развернула наступательные действия Невская оперативная группа Ленинградского фронта. Однако действия ее оказались неэффективными. Попав под удар артиллерии и авиации, ленинградцы вскоре лишились почти всех переправочных средств. Форсирование Невы затормозилось, малочисленные подразделения, которым удавалось пересечь реку, сбрасывались противником в воду. Чтобы избежать напрасных потерь, Ставка Верховного главнокомандования в директиве от 12 сентября Военному совету Ленинградского фронта отдала приказ операцию по форсированию Невы прекратить.
Фашисты еще более активизировались. 10 сентября они нанесли мощный удар по флангу 2-й ударной армии, за ним последовали еще несколько других. Для Мерецкова и его штаба стало очевидным, что немцы намереваются ударами по северному и южному флангам вклинившейся группировки Волховского фронта взять ее в кольцо и разгромить. Пришлось перейти к обороне.
27 сентября начался отвод частей на восточный берег реки Черной, то есть на рубеж, который войска группировки фронта занимали до начала операции. Отражая непрерывные атаки превосходящих сил врага, стойко выдерживая массированный огонь артиллерии и удары авиации, дивизии остановились на прежнем рубеже.
Прорваться к Ленинграду не удалось, однако в ходе Синявинской операции блокада города зашаталась. Попытка врага организовать новое наступление на Ленинград сорвалась. Бывший командующий 11-й армией Э. Манштейн впоследствии признавал, что после проведенной советскими войсками Синявинской операции о скором проведении наступления на Ленинград не могло быть и речи. Чтобы избежать катастрофы, вспоминал он, Гитлер приказал ему немедленно взять на себя командование этим участком фронта.
В это время на юге нашей страны разворачивалась грандиозная Сталинградская битва (она начнется 19 ноября 1942 года). Гитлеровцы стягивали туда большие силы. Планировалась переброска резервов и с Северо-Западного направления. Но теперь немецко-фашистское командование было серьезно озабочено Ленинградом: все труднее становилось удерживать блокаду. Оно было вынуждено усиливать группу армий «Север» за счет частей, прибывавших из Европы. А эти части так необходимы немцам на Волге.
Синявинская операция не достигла успеха из-за допущенных ошибок в ее подготовке и проведении. Командованию Волховского фронта недоставало умения вести операцию с применением крупных сил артиллерии и других средств борьбы против хорошо подготовленного и сильного противника. Были и другие недостатки, связанные с организацией взаимодействия артиллерии и авиации, противовоздушным и инженерным обеспечением в ходе боев. Также сказалась старая болезнь – недостаточная согласованность действий войск Волховского фронта с действиями Невской оперативной группы Ленинградского фронта.
Но, как говорится, на ошибках учатся. Лучше бы, конечно, на чужих.
Операция «Искра»
Новый план операции по прорыву ленинградской блокады стал созревать сразу после окончания Синявинской. Нужно было любой ценой проделать расширенный сухопутный проход в блокадном кольце, по которому срочно наладить снабжение города и войск Ленинградского фронта всем необходимым.
Маршал Василевский в своих мемуарах писал: «Сегодня у Вагановского спуска к Ладожскому озеру высится монумент в виде двух несмыкающихся полуарок, которые символизируют блокадное кольцо с просветом автомобильной трассы, названной ленинградцами "Дорогой жизни".
"Дорога жизни" не имеет прецедента в военной истории. Ее создание явилось одним из наиважнейших мероприятий, призванных облегчить положение города и его населения, обеспечить войска и силы флота всем необходимым для ведения боевых действий. Днем и ночью непрерывным потоком, нередко под бомбежкой и артиллерийским обстрелом, шли в Ленинград автомашины, груженные продуктами питания, медикаментами, топливом, техникой, боеприпасами, а обратными рейсами увозили женщин, детей, стариков, раненых и больных…»
Но этой сезонной автотрассы было мало для того, чтобы поддерживать жизненные силы ленинградцев.
Ф. Гальдер, отмечая в своем дневнике трудности фашистских войск под Ленинградом, выражал надежду, что «положение здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник – голод». Гитлеровцам казалось, что еще немного – и город падет.
* * *
К концу декабря для войск Ленинградского и Волховского фронтов сложилась относительно выгодная в оперативном отношении обстановка. Как вспоминает Мерецков, его фронт активно готовился к прорыву блокады, накапливал силы для предстоящих боев.
Руководство фронтом к тому времени претерпело некоторые изменения: членом Военного совета фронта был назначен генерал-лейтенант Л.3. Мехлис (перед этим он был представителем Ставки на Крымском фронте и не оправдал возлагавшихся на него надежд), вместо Г.Д. Стельмаха начальником штаба стал генерал-лейтенант М.Н. Шарохин.
Мерецков и члены Военного совета фронта раздумывали над тем, где лучше всего нанести удар по врагу. Снова у Синявина? Или пробиваться к Чудову? А может, обойти противника с юга, от Новгорода?..
День и ночь проводилась разведка. Допрашивались пленные, изучались документы, добытые во вражеских штабах. Обобщались сведения, полученные от партизан.
«Чуть западнее места впадения Вишеры в Волхов вросло в землю наше небольшое предмостное укрепление, – вспоминал Мерецков. – Южнее по обе стороны 250-метровой реки раскинулся Новгород. В воде отражались его древние строения. Дома стояли с бесформенными зубчатыми проемами. Городские улицы перепоясаны вражескими окопами. На колокольнях установлены пулеметные точки и оборудованы наблюдательные пункты. С обратных скатов холмов, на которых стоит город, в нашу сторону то и дело с визгом неслись фашистские мины».
Важным опорным пунктом обороны противника на северной стороне был 40-метровый Банковский холм. Даже в самое сильное половодье вершина его оставалась сухой. Гитлеровцы превратили его в мощную артиллерийско-минометную цитадель, холм изрыгал огонь и свинец, на многие километры вокруг сея разрушения.
Недалеко от пересечения Волхова шоссейной дорогой из Будогощи в Чудово стояло селение Грузино. Через него шел передний край фашистского укрепления. Разбитое артиллерийскими снарядами, селение служило вражеской авиации одним из наземных ориентиров: здесь фашистские самолеты делали поворот от реки к железной дороге Москва – Ленинград, в сторону Горнешно и Малой Вишеры…
Еще зимой 1941 года удалось захватить на левом берегу Волхова, между устьями рек Оскуи и Тигоды, плацдарм, требовавший постоянного внимания. Линия фронта тянулась здесь через покрытые буреломом болота и островки, выглядевшие как плавучие рощи. Передвижение было возможно только по настилам. Дождливыми ночами колонны подносчиков тащили на себе патроны, снаряды и продовольствие, а возвращаясь, выносили раненых. После дождя настилы скрывались под водой. Тогда люди передвигались в болотной жиже иногда по пояс, толкая перед собой плоты, проваливались в воронки, обходили пни, кусты и затопленные проволочные заграждения.
Укрепляя плацдарм, командование заботилось о быте бойцов в этих суровых природных условиях, которые тоже надо было победить. Вколотив в болото сваи, бойцы крепили к ним настил. Через несколько дней он, как правило, уходил под воду. Тогда строился новый, внутри блиндажа, под самым потолком, настилали полати, на которых лежали солдаты, ведя огонь через амбразуры. После дождя приходилось перебираться на крышу. Блиндаж превращался в островок, на котором воины несли боевую службу…
На фронт прибыли представители Ставки Ворошилов и Жуков. Они внимательно изучили обстановку и приняли решение прорывать блокаду возле Ладоги, чтобы соединить Большую землю и осажденный Ленинград прочным приозерным коридором.
Непосредственно вдоль Новоладожского канала боевые операции не велись с тех пор, как сюда прорвались через Мгу дивизии 18-й немецкой армии и сомкнули клещи блокады. Здесь было самое маленькое расстояние между Шлиссельбургом и Липками, но эта полоса была буквально забита мощными оборонительными укреплениями.
28 декабря Ставка утвердила план проведения прорывной операции, условно названной «Искра». Замысел ее сводился к тому, чтобы встречными ударами двух фронтов – Ленинградского и Волховского – разгромить вражескую группировку на шлиссельбургско-синявинском выступе, прорвать блокаду и восстановить сухопутную связь Ленинграда с центральными районами страны. Время начала операции было установлено на середину января 1943 года. Лучше бы на февраль, чтобы как следует подготовиться. Однако Ленинград не мог столько ждать.
Перед бойцами и командирами Волховского фронта вставали сложные задачи, решая которые необходимо было преодолеть влияние морально-психологического фактора: здесь, в районе шлиссельбургско-синявинского выступа, только что закончились бои, не давшие желаемого результата.
Мерецков понимал, что предстоящая операция увенчается успехом лишь в том случае, если действия Ленинградского и Волховского фронтов будут строго согласованы. В связи со сложностью ситуации в Ленинграде он вылетел в осажденный город, где была организована встреча командующих.
Встреча была недолгой, прошла в деловой обстановке.
– Какое участие сможете вы принять в предстоящей операции? – спросил Мерецков Говорова.
– Мы можем нанести встречный удар, но в том месте, где ваши войска находятся близко к Ленинграду. На глубокую операцию у нас сил не хватит, – ответил он.
Обсудили некоторые детали. Согласовали, где должны встретиться передовые части двух фронтов, – примерно в районе железнодорожной ветки, что шла через Рабочие поселки № 5 и № 1.
По решению Ставки для прорыва блокады были образованы две ударные группировки. Первая состояла из войск 67-й армии (командующий – генерал-майор М.Н. Духанов) Ленинградского фронта, которая должна была форсировать Неву, прорвать оборону врага на участке Московская Дубровка – Шлиссельбург и соединиться с войсками Волховского фронта. Во вторую входила переформированная и пополненная 2-я ударная армия (командующий – генерал-лейтенант В. 3. Романовский [92]92
После трагедии 2-й ударной армии и измены Власова ее вновь возглавил Н.К. Клыков (24 июля 1942 года). Пополнившись и переформировавшись, она приняла участие в Синявской операции, по завершении которой Клыков был освобожден от должности. 2 декабря командующим 2-й ударной армией стал В. 3. Романовский.
[Закрыть]) Волховского фронта. Ей предстояло при содействии части сил 8-й армии (командующий – генерал-лейтенант Ф.Н. Стариков) наступать на участке Гайталово, Липки, разгромить неприятеля в восточной части шлиссельбургско-синявинского выступа и соединиться с войсками 67-й армии.
Ленинград осаждала 18-я армия вермахта (командующий – генерал-полковник Г. Линдеман), имевшая почти 26 дивизий и занимавшая полосу протяженностью до 450 километров от Балтийского моря до озера Ильмень. Наиболее плотная и сильная группировка войск находилась в «бутылочном горле» – «Flaschenhals» (так немцы называли шлиссельбургско-синявинский выступ между Ладожским озером и городом Мга; ширина его у берега Ладоги – 12 километров, у основания – 16—17 и от основания до озера – 15 километров). Фашисты здесь сконцентрировали около пяти дивизий, численность каждой достигала 10—12 тысяч человек, обученных действовать в лесисто-болотистой местности. В составе группировки насчитывалось до 450 орудий и 250 минометов различных калибров (плотность – около 28 орудий и минометов на километр), до 50 танков и штурмовых орудий. Действия сухопутных войск поддерживали несколько эскадрилий 1-го воздушного флота люфтваффе (до 450 самолетов).
Противник был готов к отражению атак как с западной, так и с восточной стороны. К югу от Шлиссельбурга перед войсками Ленинградского фронта передний край его обороны проходил по левому берегу Невы. Там был создан земляной вал шириной до одного и высотой до полутора метров с крутыми скатами и минными полями. Река хорошо просматривалась.
Перед Волховским фронтом также был построен прочный оборонительный рубеж. Целая система мощных опорных пунктов, соединенных двумя дерево-земляными валами высотой до полутора и толщиной до двух метров. С наступлением морозов гитлеровцы облили валы водой, превратив их в ледяные. Рубеж плотно насыщен огневыми средствами: оборудовано свыше 400 пулеметных точек и площадок с артиллерийскими установками. Сооружена сплошная сеть проволочных заграждений.
Чтобы опрокинуть такую оборону гитлеровцев, советским войскам необходимо было иметь значительное превосходство сил. Командование обоих фронтов его обеспечило.
Ударная группировка Ленинградского фронта, усиленная артиллерией Балтийского флота, в своем составе имела более 103 тысяч человек (численность стрелковых дивизий составляла 7—9 тысяч, стрелковых бригад – 5 тысяч, лыжных бригад – 2,5 тысячи человек), 1873 орудия и миномета калибром от 76 до 406 мм, 222 танка.
В составе 2-й ударной армии Волховского фронта насчитывалось 165 тысяч человек. В группировку прорыва входили 12 стрелковых дивизий, насчитывавших от 6,5 до 7 тысяч человек в каждой, 2 лыжные, 4 танковые и 2 инженерно-саперные бригады, 37 артиллерийских и минометных полков, отдельный танковый полк прорыва и 4 танковых батальона – всего около 130 тысяч человек. Группировка имела 2100 орудий и минометов калибра 76 мм и выше, более 500 реактивных установок М-8 и М-13 и почти 300 танков и САУ, в том числе 30 тяжелых и 135 средних танков [93]93
См.:История Второй мировой войны: 1939—1945. Т. 6. С. 120; ЦАМ О.Ф. 309. Оп. 4077. Д. 31. Л. 47, 69, 70, 78.
[Закрыть].
8-я армия обеспечивала левый фланг ударной группировки Волховского фронта и наносила удар частью своих сил: две стрелковые дивизии, стрелковая бригада, 679 орудий и минометов, 92 танка.
Наступающие войска поддерживала 14-я воздушная армия Волховского фронта во взаимодействии с 13-й воздушной армией Ленинградского фронта.
Таким образом, путем привлечения стратегических резервов и осуществления внутрифронтовых перегруппировок удалось создать перевес над противником: по дивизиям – 2:1 (двадцать против десяти), по артиллерии и минометам – 7:1 (около 5000 против 700), по танкам – 10,3:1 (539 против 50), по самолетам (с учетом авиации Балтийского флота) – 3,3:1 (829 против 250) [94]94
Там же.
[Закрыть].
Мерецков со своим штабом и командование 2-й ударной армии организовали и провели занятия и военные игры. Был обобщен боевой опыт ведения наступления в условиях лесисто-болотистой местности и суровой многоснежной зимы.
Войска наступающей группировки, прежде всего 2-й ударной армии, были построены в два эшелона с выделением резервов. В первом эшелоне восточнее населенного пункта Липки развертывалась 128-я стрелковая дивизия генерал-майора Ф.Н. Пархоменко. Ее командование хорошо знало это направление по предыдущим оборонительным и наступательным боям. На дивизию была возложена задача атаковать противника в секторе Рабочего поселка № 2 и обеспечить безопасность правого фланга армии со стороны Ладожского озера.
Южнее, на Рабочий поселок № 8, нацеливалась 372-я дивизия полковника П.И. Радыгина. Она находилась на Волховском фронте с момента его организации, участвовала в Любанской операции и имела большой опыт ведения наступательных боев в этой местности.
К югу от Рабочего поселка № 8 занимали позиции части 256-й стрелковой дивизии под командованием полковника Ф.К. Фетисова. Им предстояло наступать по равнинной торфяной местности, на которой гитлеровцы соорудили два дерево-земляных вала с большим количеством огневых точек.
В направлении рощи Круглая должна была действовать 327-я дивизия полковника Н.А. Полякова. В составе армии она с конца декабря 1941 года также участвовала в Любанской, а затем в Синявинской операциях, личный состав ее во всех боях проявил большую стойкость и упорство.
На левом фланге армии между рощей Круглая и деревней Гайтолово – 376-я стрелковая дивизия генерал-майора Н.Е. Аргунова. Она также принадлежала к соединениям-ветеранам Волховского фронта. Здесь же, на левом фланге армии, находилась и 314-я дивизия полковника И.М. Алиева. С переходом армии в наступление ее задачей являлось обеспечение левого фланга армии (со стороны рощи Круглая, Гайтолово) и стыка с 8-й армией.
Второй эшелон составляли пять дивизий. В резерв были выделены стрелковая дивизия и две лыжные бригады.
На первый эшелон возлагалась задача прорвать главную полосу обороны противника и овладеть укрепленными опорными пунктами: Рабочими поселками № 2 и 8, рощей Круглая. На второй – развить наступление до соединения с войсками Ленинградского фронта, вместе с которыми занять на юге рубеж в районе Синявина.
* * *
Накануне операции «Искра» на Волховский фронт приехал генерал-майор Д.И. Ортенберг, главный редактор газеты «Красная звезда». В своей книге «Сорок третий: рассказ-хроника», изданной в 1988 году, он поместил краткие заметки о том, что увидел на фронте, и впечатления от встречи с Мерецковым.
«Эту операцию мне посчастливилось увидеть своими глазами. Поездка в Ленинград была мною задумана давно. Я бывал на многих фронтах, но как-то внутренне ощущал, что не съездить в Ленинград – значит не увидеть всей войны…
Наступление двух фронтов – Волховского и Ленинградского – намечалось на 12 января. Выехал я 10-го. Мой маршрут пролегал в объезд все еще занятых врагом районов. В памяти остались заметенные снегом полевые, а чаще всего лесные дороги. Стояли сильные, с колючим ветром и поземкой, морозы. Заночевали в деревушке, и чуть свет – дальше в путь. Неболчи, Тихвин, Волховстрой. На командный пункт Волховского фронта прибыли за день до наступления. Зашел к Мерецкову, командующему фронтом. Встретил меня человек выше среднего роста, широкоплечий, плотный. Серые глаза на его полном, со вздернутым носом, лице смотрели пронзительно, испытующе».
Далее Давид Иосифович рассказывает, что в это время комфронта как раз собирался в войска и посоветовал поехать вместе с ним.
Как гостеприимный хозяин, он предложил заправиться на дорогу и завел гостя в соседнюю комнату, где он жил. Принесли завтрак или обед, а быть может, и то и другое; время было предобеденное. На стол поставили чарки и «горючее», но комфронта к ним не притронулся. Ортенберг уже знал, что генерал Мерецков, отправляясь в войска, не позволял себе и капли в рот брать. И, конечно, он последовал его примеру.
Отправились в войска не на комфортабельной редакционной «эмке», на которой Ортенберг приехал из Москвы, а на открытом «виллисе». Гостя это не удивило. Он слышал и об этой привычке Кирилла Афанасьевича. Генерал требовал, чтобы командиры и политработники, в каких бы чинах они ни находились, ездили на фронт в открытых машинах. Если он встречал на дороге «виллис», на котором была надстроена «башня», останавливал и выговаривал:
– Почему прячетесь? Солдат должен вас видеть, а вы его…
Мерецков в открытой машине поеживался от пронизывающего ветра, то и дело прикрывая лицо рукавицами. Он терпел, и гостю пришлось показать свою выдержку.