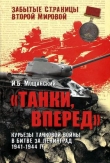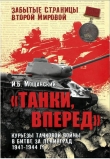Текст книги "Мерецков"
Автор книги: Николай Великанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц)
В общем, операция провалилась. Всю вину за этот провал высшее командование возложило на Тухачевского.
Поляки с помощью Франции и США сумели организоваться, хорошо оснаститься технически и повести решительное контрнаступление против красных. Их план предусматривал концентрацию крупных сил на реке Вепше и внезапный удар с юго-востока в тыл войск Западного фронта. Для этого из двух армий Центрального фронта Рыдз-Смиглы были сформированы две мощные группы. К середине августа они ударили по растянувшемуся фронту Тухачевского. Создалась угроза окружения всех войск РККА в районе Варшавы.
Учитывая критическое положение на Западном фронте, главком Каменев 14 августа приказал командующему Юго-Западным фронтом Егорову передать 12-ю и 1-ю Конную армии под начало Тухачевского.
Существует мнение, что руководство Юго-Западным фронтом, осаждавшим Львов, проигнорировало этот приказ, что послужило причиной поражения большевиков под Варшавой. Одним из противников переброски 12-й и 1-й Конной армий на западное направление был член РВС Юго-Западного фронта И.В. Сталин, который выражал принципиальное несогласие с планами завоевания исконно польских территорий, в частности столицы Польши.
Это мнение появилось почти сразу после Гражданской войны. Затем о нем забыли. С новой силой его стали культивировать в 60-е годы XX века в связи с развенчанием культа личности Сталина.
Надо сказать, что РВС Юго-Западного фронта не отказывался передать армии в состав Западного фронта, была лишь задержка с поворотом их на север. Причина тому – трения в работе аппарата управления.
Вопрос с задержкой поворота 1-й Конной армии на север был подробно разобран еще в 1920-е годы в работе Н.Е. Какурина и И.И. Вацетиса «Гражданская война». Известный историк советско-польской войны Какурин, опираясь на документы, пришел к выводу, что реализовать окончательно принятое главкомом 10—11 августа решение о переориентации 1-й Конной и 12-й армий на север своевременно не удалось в первую очередь из-за трений в работе аппарата управления. «У многих участников Гражданской войны, – заключает Какурин, – осталось впечатление, будто бы командование Юго-Западного фронта отказалось от выполнения директивы главкома. На самом деле это не соответствует действительности. К тем недочетам, которые касаются исполнения этой директивы команд-юзом, мы еще вернемся, но не они имели решающее для нас значение. В данном случае эту роль сыграла плохо еще в то время налаженная полевая служба штабов… Решение главкома из-за плохо работавшего аппарата управления не успело вовремя оказать своего решающего влияния на судьбы всей кампании на берегах Вислы».
Значит, именно трения в работе аппарата управления и инерция, связанная с выводом 1-й Конной из боев на Львовском направлении и переброской 12-й армии на север, предопределили ту роковую задержку.
«Конармия вела бои в четырехугольнике Здолбунов – Кременец – Броды – Дубно, – пишет в своих воспоминаниях Мерецков о времени конца июля – начала августа 1920 года, когда 1-я Конная, находясь под Львовом, получила приказ отступить в связи с ухудшением общего положения Западного фронта. – Шла полупозиционная война вроде той, какую мы вели в конце мая возле Белой Церкви. Люди вымотались, отдыхая лишь урывками. Порой бойцы засыпали, лежа в поле под вражеским огнем. Многие, будучи раненными, оставались в строю. Все почернели и осунулись. Не хватало патронов, продовольствия, фуража. Ремонтные комиссии не справлялись с поставкой лошадей. Отсутствовало пополнение людьми. Но никакой передышки или хотя бы кратковременного отдыха не предвиделось. Напротив, ожесточенность боев непрерывно нарастала. В начале августа 6-я дивизия пыталась дезорганизовать войска противника между Козином и верховьями реки Стыри, однако безуспешно. РВС армии временно отстранил от должности и перевел в резерв начдива Тимошенко и начштаба Жолнеркевича. Их место заняли бывший комбриг-2 И.Р. Апанасенко и недавно приехавший на фронт слушатель Академии Генштаба Я.В. Шеко».
Далее Мерецков пишет, что неделя с 4 по 11 августа прошла в сражениях за переправы через Стырь и за подступы к Радехову. Новое руководство дивизии действовало энергично. Это было очень кстати, так как вконец измотанные 4-ю и 11-ю дивизии Буденный своей властью вывел на отдых, а в первом эшелоне Конармии остались 6-я, 14-я дивизии и Особая кавалерийская бригада. Подчиненные Буденному соседи тоже напрягали все силы: на севере пехота взяла Луцк; на юге Золо-чевская группа И.Э. Якира с кавбригадой Г.И. Котовского и червоноказачьей дивизией В.М. Примакова упорно наступали на Ясенов. Апанасенко получил задачу овладеть Буском. Это означало, что бригадам буденновцев доведется в ближайшие дни воевать в непролазных болотах по течению Буга.
У Кирилла в те дни было много работы. Спать приходилось урывками. По приказу комдива Апанасенко он отыскивал броды на реках, конские тропы в заболоченных перелесках и готовил с выделенной командой подручные средства для переправы, а потом временно исполнял обязанности начальника штаба дивизии.
В середине августа Конармия собиралась перейти в общее наступление, когда была остановлена встречным и фланговым ударами поляков. Развернулись напряженные бои.
Вскоре Конармию известили о переподчинении ее Западному фронту…
* * *
В это время Мерецков был отозван в академию наряду со многими другими ее слушателями, также находившимися на фронтах, чтобы продолжить учебу на третьем курсе. Так что ему не пришлось быть участником прорыва Конармии через Сокаль в направлении Замостья и Грубешова, чтобы затем через Люблин выйти в тыл наступающей на север польской ударной группировке, но потом столкнуться с сильной группой войск польского резерва. Он не был свидетелем неорганизованного отступления на восток частей Западного фронта, занятия поляками Бреста, Белостока. О том, что 23 августа 4-я армия А.Д. Шуваева, 3-й кавалерийский корпус Гая и две дивизии из состава 15-й армии Корка (всего около 40 тысяч человек) перешли германскую границу и были интернированы, он узнает значительно позже. Как и значительно позже узнает о горьком для Красной армии конце Варшавской операции. В результате поражения под Варшавой погибли 25 тысяч красноармейцев, 60 тысяч попали в плен, несколько тысяч человек пропали без вести. Западный фронт потерял также большое количество артиллерии и техники. Польские потери оцениваются в 15 тысяч убитых и пропавших без вести и 22 тысячи раненых.
Конармию после Варшавской операции сначала вывели в резерв, а затем направили на Южный фронт для борьбы против генерала Врангеля. Осенью 1920 года во взаимодействии с другими войсками Южного фронта она осуществила успешное наступление с Каховского плацдарма в направлении Асканиянова – Громовка. Зимой 1920/21 года вела бои с частями махновцев на Левобережной Украине, а затем уничтожила белогвардейскую повстанческую армию генерала Пржевальского на Северном Кавказе. В мае 1921 года 1-я Конная армия была расформирована.
О своем пребывании на советско-польском фронте Мерецков позже отзовется: «…Ни 1918-й, ни 1919 год вместе взятые не дали мне столько боевого опыта, сколько получил я в 1920 году». Особо он отметит месяцы, проведенные в Конармии. Для него, по его словам, они сыграли очень большую роль в формировании его как красного командира. «Вплоть до середины 20-х годов, – скажет он, – мои взгляды на военное искусство и практическое их воплощение в жизнь определялись опытом, вынесенным именно из боевых операций 4-й и 6-й дивизий 1-й Конной армии».
В БОЛЬШУЮ ВОЕННУЮ ЖИЗНЬ
Женитьба
В январе 1921 года у Кирилла разболелась рана, полученная в боях на Южном фронте. На время болезни он попросил руководство академии отпустить его в краткосрочный отпуск с выездом в Судогду. Просьбу мотивировал необходимостью устройства личных дел.
Кирилл мечтал о встрече с Дусей Беловой. Около трех лет прошло с тех пор, как они в последний раз виделись. Когда летом 1918-го он уходил из Судогды с красногвардейским отрядом на борьбу с врагами революции, они с Дусей сговорились навсегда связать свою судьбу после войны. Война, правда, не кончилась, но Кирилл в этом году завершает учебу в академии и уйдет на фронт. Когда он вернется, и вернется ли?..
Кирилл послал телеграмму Дусе, чтобы она ждала его в городе. Он приехал в Судогду 29 января. Встреча была радостной.
Утром 31-го они пришли в исполком Судогодского совета, где, как и во времена работы Кирилла комиссаром, всё оставалось прежним: родные стены, знакомая обстановка, добрые лица друзей. Объятия. Улыбки. Шумные воспоминания.
Регистрация молодой пары прошла под аплодисменты. После получения брачного свидетельства молодоженов пригласили в Судогодский уком РКП (б).
– Свадьбу отпразднуем у нас, – не принимая никаких отговорок, сказал секретарь укома Малков, давний товарищ Кирилла.
Организовать свадебное празднество в то трудное время было непростым делом. Стол накрывали, как говорится, всем миром. Одному поручили принести хлеб, другому – рыбу, третьему – еще какое-то блюдо. Спиртное доставали всеми правдами и неправдами…
1 февраля молодожены в санях отправились в Ликино к Дусиным родителям. Отец и мать встретили их приветливо, а «оппозиция» выявилась с несколько неожиданной стороны. Младшие сестры Дуси посматривали на командира-«академика» с иронией. Все дело в том, что у новобрачного вид был далеко не респектабельный. На здоровой ноге его был надет аккуратный сапог, начищенный до блеска, а на больной – затрапезный, растоптанный донельзя. Гимнастерка старенькая, местами залатанная. Девушки смотрели на Кирилла пренебрежительно, поддразнивая сестру частушкой: «Наша Дуня – точно роза, а пошла за водовоза». Однако это не повлияло на общее радостное настроение в связи с приездом молодых. Все были счастливы. Особенно Кирилл и Дуся.
В Назарьево Мерецковы не поехали. Там из близких Кирилла почти никого уже не осталось: упокоилась бабушка Лукерья, рано ушел из жизни отец, Афанасий Павлович, а мать, Анна Ивановна, жила у младшего сына. Остальных родственников судьба раскидала по разным селам и городам. Так что показывать молодую было некому.
В Москву Кирилл вернулся с Дусей. Два дня неприютно провели в академическом общежитии, потом сняли недорогую квартиру. В ней прожили до окончания Кириллом учебы.
В октябре 1921 года Мерецков, которому минуло 24 года, выпустился из академии. Он чувствовал себя обретшим крылья. Высокие армейские горизонты, казавшиеся ему раньше почти недосягаемыми, теперь стали значительно ближе. Ничто не мешало достичь их. В путь, Кирилл! В большую военную жизнь!..
Что дала ему академия? Кирилл так отвечал на этот вопрос. «Очень многое. Жизнь моя сложилась так, что я не сумел получить систематического среднего образования. Однако все годы, насколько помню, я тянулся к знаниям, хотел расширить свой кругозор. Возможность приобрести военное академическое образование прямо соответствовала моему желанию стать кадровым военнослужащим, посвятить всю жизнь Красной армии. И я с жадностью ухватился за сбывающуюся возможность».
Мерецков считал, что практика сражений на полях войны и полученная академическая теория переплелись, слились для него воедино. Он говорил: «Я не стал бы… мало-мальски толковым военачальником, не пройдя через горнило боев в течение трех кампаний 1918—1920 годов. Но полагаю также, что из меня не вышло бы ничего путного и в случае, если бы я не получил достаточно серьезной военно-теоретической подготовки. Особенно понадобилась она позднее, в период боев в Испании, в финскую кампанию и Великую Отечественную войну. Здесь опять теория и практика оказались неразрывно связанными».
За два года – семь ступеней
По окончании академии Мерецков был аттестован на должность командира бригады. Согласно распределению Реввоенсовета Республики он должен был ехать служить в Петроград, в Отдельную учебную бригаду. Но начальник академии Тухачевский не поддержал это назначение. Он считал более целесообразным использовать молодого комбрига как бывшего кавалериста в кавалерийской части.
Решение вопроса, куда для прохождения службы направить Мерецкова, затянулось, и Кирилл до января 1922 года находился в распоряжении штаба РККА. Наконец было решено отправить его в Западный военный округ.
Западный округ в то время находился за границей – на белорусской территории. Белоруссия еще не вошла вместе с РСФСР в одно союзное государство. Как известно, СССР был создан в декабре 1922 года. Однако государственному союзу между советскими республиками предшествовал военный союз. Он был заключен в Гражданскую войну для совместной защиты Советской России, Украины, Белоруссии и Закавказья от империалистической агрессии и явился в дальнейшем одной из предпосылок их объединения в СССР. Поскольку западное направление было наиболее опасным для РСФСР, то здесь создавался особый военный округ. Назначение в Западный округ Мерецков оценил как специальное боевое задание и в душе гордился оказанным ему доверием.
По прибытии в округ он сразу получил задачу: заняться формированием штаба кавалерийского корпуса. Для свежеиспеченного выпускника академии было не просто решить ее: во-первых, создание на пустом месте сложной управленческой структуры крупного войскового соединения само по себе дело трудное, во-вторых, было обусловлено, что штаб должен состоять из опытных и знающих работников.
Кирилл энергично взялся за дело. В течение двух с лишним месяцев спешно комплектовались кадры, отбиралась материальная часть. Но потом выяснилось, что торопиться с формированием штаба кавкорпуса незачем, так как в Белоруссию прибывает уже готовый корпус, которым командовал известный герой Гражданской войны Н.Д. Каширин.
Кипучая деятельность Мерецкова прервалась, ему предложили должность начальника штаба 1-й Томской Сибирской дивизии 3-го кавкорпуса Каширина.
Комкор Каширин очень понравился Кириллу. За время службы под началом Николая Дмитриевича он хорошо изучит его, как и его брата Ивана, с которым будет часто встречаться. Позже Мерецков отзовется о комкоре так: «Поскольку с Н.Д. Кашириным я прослужил вместе довольно значительное время, хочу сказать о нем несколько слов. От своего брата Ивана, тоже героя Гражданской войны, Николай Каширин отличался отсутствием наклонности к щегольству, строгостью поведения и чуть более сухим характером. Это был человек беспредельной преданности делу Советской власти, подтянутый, организованный, вдумчивый руководитель войск… Он пользовался… большим авторитетом и… уважением».
Состояние Томской дивизии поразило Мерецкова. Она была совершенно небоеспособна. С потертыми чуть ли не до костей спинами, сильно хромавшие лошади годились только на убой. Чтобы они не падали от изнурения, их в стойлах приходилось подвешивать на ремнях.
Кирилл недоумевал: как комкор мог терпеть такое в одном из своих соединений?.. Свое огорчение Мерецков мягко высказал Каширину, на что тот так же «мягко» ответил:
– Вам не приходилось по несколько суток не расседлывать лошадь и гонять на ней до полусмерти по степи? Бойцы Томской в течение нескольких месяцев не слезали с седел, носились по Таврии, сражаясь с махновцами…
Поднимали дивизию в прямом смысле на ноги усилиями всего корпуса. Начали с 1-го полка. Многих больных, искалеченных лошадей отбраковали, многих определили в ветлечебницы. Постепенно все эскадроны получили пригодных к строевой службе лошадей. И тут поступил приказ: приведенный в порядок полк передать в другую кавдивизию. Штаб взялся за следующий полк. И когда он был восстановлен по образцу первого полка, его тоже передали соседнему соединению. Так и продолжалось, пока не была приведена в боеспособность последняя часть. В конце концов от 1-й Томской Сибирской сохранился лишь штаб, но вскоре и он был ликвидирован – дивизию сократили.
Кирилл был откомандирован в Москву, в Главное управление кадров РККА. В то время ЦК РКП(б) потребовал от Наркомвоенмора выделить в распоряжение Главного управления рабоче-крестьянской милиции (РКМ) нескольких армейских командиров для инспекционной работы. Мерецков буквально подвернулся под руку, и его зачислили в группу инспекторов для проверки состояния РКМ. Для него это было совершенно новое дело, к которому не лежала душа. Но для военного человека приказ есть приказ: Кирилл полгода осваивал инспекторские секреты. Наркомвнудел, как говорится, по полной загрузил его работой, выделив для проверки сразу шесть местных управлений милиции северных районов – Мурманское, Кандалакшское, Петрозаводское, Тихвинское, Вологодское и Архангельское.
Мерецков не пожалеет о том, что потратил столько времени на работу в Наркомате внутренних дел. Как оказалось, эта работа была для него интересной и весьма полезной. Поездка по северным губерниям расширила его кругозор и обогатила наблюдениями, пригодившимися впоследствии. Она станет прелюдией к будущей многолетней службе его в этом регионе в качестве командующего Ленинградским военным округом, потом, в годы Великой Отечественной войны, командующего фронтами и после нее – командующего войсками Северного (Беломорского) военного округа.
На обратном пути в Москву Мерецков случайно встретил начальника штаба 15-го стрелкового корпуса М.М. Ольшанского, с которым когда-то служил вместе. Разговорились о прежнем времени, обменялись мнениями о текущих событиях. Он, как выяснилось, нуждался в помощнике. Как человека, уже побывавшего на штабной работе, Ольшанский пригласил Кирилла на этот пост. 15-й корпус находился в Северо-Кавказском военном округе, к которому Мерецков уже давно присматривался: его интересовали проблемы постановки военного дела в разных экономических и географических условиях.
Кирилл отправился в штаб РККА с запиской от Ольшанского к знакомому ему работнику. Назначение на Северный Кавказ состоялось в сентябре 1923 года. Направление ему давал Б.М. Шапошников.
Мерецков пишет в воспоминаниях: «Со времен Гражданской войны все командиры, проходившие через этот штаб, попадали в ведение этого аккуратного, выдержанного, трудолюбивого и организованного человека, который свои выдающиеся способности старого кадрового офицера отдал Красной армии, ставшей для него родной и близкой. С тех пор десятки раз я получал различные назначения. И почти всегда меня напутствовал в дорогу Борис Михайлович. Крупное лицо его было неизменно спокойным, распоряжения – краткими и точными, слово "голубчик" – обязательным».
Кирилл ехал на Дон, в места, где всего четырьмя годами раньше сражалась памятная ему 9-я армия Южного фронта, которым командовал В.М. Гиттис. Теперь там размещался Северо-Кавказский военный округ, возглавляемый К.Е. Ворошиловым.
Помощником начштаба 15-го стрелкового корпуса Кирилл Мерецков пробыл совсем недолго. В скором времени его перевели на должность начальника штаба 9-й Донской стрелковой дивизии того же корпуса. Этот перевод совпал с началом военной реформы в вооруженных силах СССР.
* * *
Союз Советских Социалистических Республик как новое государство на большей части территории бывшей Российской империи начал существовать с 30 декабря 1922 года. 27 декабря Договор об образовании СССР подписали РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская Советская Федеративная социалистическая республика (ЗСФСР). Наряду с Декларацией об образовании СССР, договор был утвержден Первым съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года. В дальнейшем в состав СССР войдут: в 1925 году – Узбекистан (Узбекская ССР), Туркмения (Туркменская ССР), в 1929-м – Таджикистан (Таджикская ССР). В 1936 году ЗСФСР будет расформирована и союзные республики – Азербайджан (Азербайджанская ССР), Армения (Армянская ССР), Грузия (Грузинская ССР) войдут в СССР. В том же году союзными республиками в составе СССР станут Казахстан (Казахская ССР) и Киргизия (Киргизская ССР); в 1940-м – Молдавия (Молдавская ССР), Латвия (Латвийская ССР), Литва (Литовская ССР) и Эстония (Эстонская ССР).
* * *
Кирилл был доволен переходом в Донскую дивизию. Он говорил: «Раньше я работал начальником штаба дивизии только временно, да и то в дивизии кавалерийской. Девятимесячное пребывание на этой должности в пехоте было поэтому чрезвычайно полезным, тем более что Донскую дивизию ее командование и штаб стремились превратить в действительно регулярную. Прежде с регулярными пехотными соединениями я фактически не имел дела. Под Казанью в 1918 году такие соединения только еще формировались, представляя собой конгломерат различных отрядов. В 1919 году на Южном фронте 14-я дивизия, где я служил, тоже не могла считаться образцовой. Она была очень громоздкой, плохо поддавалась управлению и не имела современной техники. Фактически я там видел недостаточно организованное скопление людей с винтовками и орудиями, в разной степени обученных и дисциплинированных, хотя и отличавшихся высоким боевым духом. И когда перед нами встала задача превратить Донскую дивизию в так называемое опорное соединение Северо-Кавказского военного округа, я использовал то, что видел и чему научился, прежде всего в Конармии, дивизии которой были лучше обучены, сколочены и вооружены.
Находясь в Томской дивизии, я наглядно уяснил себе, каким соединение не должно быть. Служа в Донской дивизии, понял и впервые в жизни попытался показать практически, каким соединение должно быть. Но я еще не обладал опытом штабной работы в масштабе военного округа и не участвовал в достаточно крупных организационных мероприятиях».