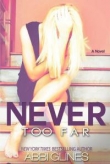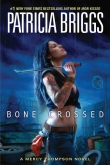Текст книги "Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 6. Художественная проза"
Автор книги: Николай Гумилев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 44 страниц)
Автограф 1 представляет собой рукопись на 20 листках бумаги, сложенных пополам («книжечкой»), на которых содержится 5 законченных текстовых фрагментов (глав). Исключением является лишь финал первой главы, оборванный на полуслове (стр. 160), так что строки 160–222 возможно реконструировать только с помощью английского перевода (автограф 3) «обратным» переводом на русский язык; в настоящей публикации они взяты в квадратные скобки. Начало и конец каждого фрагмента обозначены отступлением соответственно от верхнего и нижнего полей листа. Порядковые обозначения фрагментов присутствуют только в первой (римская цифра I) и третьей (заголовок «Глава третья») главах, однако реконструкция сюжетной последовательности очень проста (непостижимой загадкой поэтому остается ошибка Г. П. Струве): вторая глава определяется по обозначенному римской цифрой II переводному эквиваленту в автографе 3, а последовательность четвертой и пятой – по содержанию, исключающему их перестановку. Рукописный текст выполнен «классической» гумилевской скорописью, – весьма трудно поддающейся расшифровке, с произвольной пунктуацией, – которой выполнены все его «окончательные черновики» (являющиеся источниками перебеленных окончательных вариантов). Таким образом, можно почти наверняка предположить, что, во-первых, имелись какие-то предварительные материалы, и, во-вторых, что был сделан и окончательный, беловой вариант. В первом убеждает малое количество правки в автографе: трудно предположить, чтобы текст такого качества в таком объеме мог создаваться как чистая импровизация. Во втором – то, что рукопись, выполненную черновой скорописью, Гумилев не мог отдать переводчику – если и не из вежливости, то, по крайней мере, из-за трудности дешифровки (расшифровка гумилевских черновиков – особая текстологическая проблема, являющаяся прерогативой ограниченного числа специалистов).
Автограф 2 Г. П. Струве, основываясь на графологическом анализе, атрибутирует как беловой автограф (см.: СС IV. С. 592). Формально это, действительно, так, однако окончательным данный текст признать невозможно не только из-за того, что фрагмент не был продолжен Гумилевым. Главным аргументом в пользу существования иного (и окончательного) белового варианта, является то, что английский перевод первых трех абзацев первой главы гораздо больше соответствует варианту автографа 1 нежели варианту автографа 2 (ключевой фразой в данном сопоставительном анализе являются стр. 17–21: ср: «Да и какие секреты могла бы иметь эта милая пара, он сочинял старообрядческие гимны, розовый и кудрявый, как венециановский мальчик, она – всегда спокойная и послушная, с сияющими глазами и со смуглой кожей, которая выдавала татарскую или даже половецкую кровь» (автограф 1); «Да и какие тайны могла бы иметь эта милая пара, он запевала старообрядческим <...>, розовый и кудрявый, как венециановский мальчик, она – спокойная и послушная, с вечно сияющими, как в праздник, глазами» (автограф 2); «Besides, what secrets could these children have?.. Vania the composer of hymns and sacred songs, curly and rosy cheeked as a Venezianov painting; and Masha, the gentle and obedient, with bright eyes and dark skin revealing her Tartar or Indian blood» (автограф 3)). Очевидно, данный фрагмент был попыткой создания Гумилевым белового автографа. Собственно, беловой автограф, отданный затем переводчику, был записан в другой тетради, которую Гумилев забрал с собой в Россию, как это он сделал с рукописью «Отравленной туники» и беловыми списками стихотворений, с которых затем набирался текст «Костра».
Наличие автографа 3 (публикуется впервые) является не только текстологической, но и биографической проблемой гумилевоведения. Г. П. Струве отмечает, что этот перевод – «неизвестно кем и когда сделанный, но, очевидно, в Лондоне» (СС IV. С. 592). Такая справка почти начисто отметает соблазнительное предположение, что гумилевским переводчиком был Б. В. Анреп: сложно представить, что, передавая материалы «из рук в руки», тот не проинформировал Струве, своего «доброго знакомого и тогдашнего сослуживца (мы оба были русскими «слухачами» на радиостанции агентства Рейтер под Лондоном)» (см.: СС III. С. 247), о таком важном обстоятельстве (хотя возможность случайной забывчивости, конечно, есть всегда). Другим вероятным кандидатом на роль переводчика «Веселых братьев» является граф Карл Бехгофер Робертс, в будущем – автор многочисленных биографий, романов и путевых записок, а тогда – корреспондент «The New Age», знакомый с Гумилевым еще по Петрограду 1915 года. В «лондонские месяцы» Гумилева Бехгофер взял у него интервью, помещенное затем на страницах еженедельника. Можно предположить, что и фрагменты повести предназначались для публикации там же (по крайней мере, читая интервью, трудно отрешиться от мысли, что это не своеобразный «анонс» грядущей публикации, – настолько схожи некоторые идеи, высказанные поэтом, с мотивами «Веселых братьев» (см.: Русинко Э. Гумилев в Лондоне: неизвестное интервью // Исследования и материалы. С. 299–309)). Перевод мог сделать также и Дж. Курнос, – один из «лондонских» знакомых Гумилева, профессиональный переводчик и сотрудник «The New Age». Он был русского происхождения, переводил Блока, Сологуба, Ремизова и мог потому справиться с трудным (с точки зрения перевода) гумилевским текстом.
Несомненно одно: Гумилев попытался дебютировать с повестью на европейской «литературной арене». Однако когда возвращение в Россию было решено, данный перевод остался невостребованным. В общем он довольно точно (если не считать типично переводческих нюансов, связанных с поиском английских аналогов русским идиомам) соответствует тексту первой и второй глав в варианте автографа 1, хотя имеются и несомненные расхождения, свидетельствующие, опять-таки, об очень высокой возможности другого источника перевода. Во-первых, это перестановка местами двух первых абзацев второй главы и исключение в ней же эпизода пляски Мити и его конфликта с деревенским парнем (стр. 87–112), и, во-вторых, исключение или добавление некоторых значимых деталей в повествовании: упразднение указания на Пермскую губернию в переводном эквиваленте стр. 1 первой главы, уточнение, что отец Маши был мельник в стр. 14 первой главы, пробел между стр. 68–69 (очевидно оставленный для перевода стихотворного текста песни Вани), упразднение названий методов первой помощи в стр. 130 первой главы, буква О. вместо названия села Огрызкова в стр. 5 второй главы, иная версия стр. 216–217 второй главы, а также замена «князей» на «профессоров» в стр. 194 второй главы.
Публикуя повесть, Г. П. Струве писал: «Веселые братья» производят довольно странное впечатление. Мы имеем в виду не шероховатости стиля – по всей вероятности, при отделке повести набело Гумилев подверг бы ее стилистической правке... Странное впечатление производит самый замысел повести (до конца, правда, неясный) и ее персонажи – и то, и другое ничуть не похоже на то, что мы находим в другой прозе Гумилева. Местами кажется, будто Гумилев кого-то и что-то хочет пародировать (приходит на ум, например, «Серебряный голубь» Андрея Белого), но рядом с этой пародийностью чувствуется и наличие серьезного замысла. В персонажах повести – в «сермяжном алхимике» Мише, в братьях Сладкопевцевых с их рассказами о Франции и их «учеными» фантазиями – есть что-то от Лескова и Ремизова. А в инженере Шемяке – что-то от Ремизова и от Достоевского (такой персонаж можно смело вообразить себе позже на страницах Пильняка, даже в фамилии звучит что-то пильняковское). Сказалось, может быть, немного и влияние Алексея Н. Толстого. Во всяком случае во всей повести чувствуется какая-то новая и на первый взгляд неожиданная для Гумилева нота. <...> Надо думать, что тема темной мужицкой Руси и провинциальной России, где
На базаре всякий люд,
Мужики, цыгане, прохожие,
Покупают и продают,
Проповедуют Слово Божие, —
как-то владела в то время Гумилевым. В «Веселых братьях» она вошла в сочетание со свойственной Гумилеву романтикой и фантастикой и с некоторой нарочитой мистификацией. <...> Отзывов о «Веселых братьях» (после публикации Неизд 1952 – Ред.) было мало. Б. А. Филиппов в «Новом журнале» (кн. 31, 1952) нашел, что «Веселые братья» чем-то напоминают «Приключения Никодима» А. Скалдина и прибавлял: «Повесть эта, вышедшая, кажется, в 1913 году, была одно время настольной книгой у многих писателей Петербурга. Сама идея тайного общества «Веселых братьев» напоминает полубредовые, полуиздевательские построения Скалдина, его фабрику живых людей и т. д.». Мельком отозвался о «Веселых братьях» в одной из своих статей о Гумилеве (см. в посмертном томе «Литературные очерки». Париж, 1961. С. 36) Н. А. Оцуп, назвавший повесть «находкой для всех, кто любит Гумилева», и связавший ее, как и мы, со стихами Гумилева о России» (СС IV. С. 592–594). Комментарии Р. Л. Щербакова открываются несколько рискованными предположениями: «Судя по тому, что он (Гумилев – Ред.) не взял с собой ни черновиков, ни набело переписанного начала, автору стало ясно: жизнь в Советской России так радикально изменилась, что заканчивать начатую работу не имеет смысла. <...> Столь сложную конструкцию можно было начинать сооружать, только имея тщательно разработанный план. Но на него среди гумилевских бумаг нет никаких намеков, и возникает кощунственная мысль, что стилистическая «разноголосица» повести погубила ее, словно Вавилонскую башню. Но и незавершенная она производит сильное, хотя и несколько странное впечатление» (Соч II. С. 475). «Вся она пронизана стихией народной речи, образами русской крестьянской культуры, – писала И. Ерыкалова, полагавшая, что замысел повести Гумилева восходит к «вневременному сюжету вечного столкновения добра и зла». – Но жизнь словно искажена воздействием какой-то гипнотической злой силы. История гибели Маши и ее измены Ване, пир инженера путей сообщения в огромном сарае с тысячами свечей, шерсть на лице химика-самоучки вновь обращают нас к теме существования дьявола в современном мире. Эта тема пронизывает литературу начала века, находя завершенное воплощение в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (Ерыкалова И. Проза поэта // АО. С. 288–289). «Своеобразным путешествием в тайны народной души» назвала «Веселых братьев» М. Ю. Васильева, обращавшая особое внимание на образ Мезенцова как на «новый тип героя-интеллигента» в гумилевском творчестве: «Дело тут не только в смене социального статуса и занятий этого персонажа. В повести выявлено также движение его мысли от внешнего к внутреннему, от явного к потаенной сущности явлений. Обычное, казалось бы, для лингвиста побуждение собрать образцы устного народного творчества оборачивается нелегким познанием духовных устремлений русских крестьян. Но процесс этот на редкость усложнен тем, что обитатели глухих деревень захвачены сокровенными вопросами о Боге, о сущности религии. <...> Герой-интеллигент оказывается перед необходимостью открыть не только смысл и причины ошибочных представлений в этой области, но и установить... собственное отношение к “христовой вере”» (Васильева. С. 15). Касаясь мотива «вожатого», «посвященного», ведущего «неофита»-интеллигента к откровению некоей «истины», М. Ю. Васильева проводит параллели между повестью Гумилева и прозой М. А. Кузмина («Крылья», «Нежный Иосиф», «Мечтатели»): «Различия наблюдаются на уровне идейно-эстетической позиции двух писателей. Проза старшего «странная, непривычная, загадочная» (Б. М. Эйхенбаум), соединившая в себе «французское изящество» и «византийскую замысловатость». Во многих его произведениях отмечено влечение к чудесному, к сверхъестественным силам, мистическим мотивам. В произведениях Гумилева самые необычные ситуации... прояснены в общей концепции произведения, а «потусторонние» образы введены чаще в образе... снов и видений. Кузмин... дает предсказания о близком перевороте в человеческой душе, Гумилев... проникает в характер и истоки духовных запросов личности» (Васильева. С. 17). Исследование В. В. Десятова содержит сопоставление повести Гумилева с другим кругом текстов – книгами Ф. Ницше («Так говорил Заратустра», «Генеалогия морали») и о. Павла Флоренского («Столп и утверждение Истины»): «Интерес Гумилева к «Столпу...» (где автор неоднократно сочувственно ссылается на Ницше) весьма показателен: он демонстрирует стремление примирить православную ортодоксию и православный модернизм (о. Павел, казалось, воплощал в себе и то, и другое), традиционное христианство и современную философию. Крайняя противоречивость взглядов Ницше позволяет Гумилеву актуализировать его образы и идеи не только для изображения “веселых братьев”... но и для их скептической оценки. Ницше как бы опровергается Гумилевым с позиции самого Ницше. Ницше – проповедник смеющегося человеко-бога и враг аскетического идеала опровергается с позиции Ницше – страстного защитника этого идеала от покушений “подделывателей (первый вариант названия гумилевской повести!) и комедиантов” (“Генеалогия морали”), Ницше-аскета “Распятого”» (Десятов В. В. Фридрих Ницше в художественном и экзистенциальном мире Николая Гумилева. Автореферат кандидатской диссертации. Томск, 1995. С. 12).
Для прояснения замысла повести прежде всего необходимо уяснить, кого имел в виду Гумилев под «веселыми братьями». Разумеется, в силу незавершенности дошедшего до нас текста, сделать это достаточно трудно, однако в комментариях к первой отечественной публикации повести В. Полушин писал: «Это сложное произведение. Неизвестно, чем бы его закончил поэт, останься он в живых, но ясно одно: нельзя полностью согласиться с комментарием, приведенным в вашингтонском четырехтомнике. Повесть эта могла быть направлена не столько против хлыстов (имеется в виду соотнесение «Веселых братьев» с «Серебряным голубем» Андрея Белого, сделанное Струве (см. выше) – Ред.), сколько против масонства. Об этом убедительно свидетельствуют и сюжетные линии повести. Не случайно «Веселые братья» воспринимаются как межгосударственная тайная организация со своим уставом. Братья Сладкопевцевы отправляются во Францию. Известно, что именно там были особенно сильны масонские ложи. <...> Гумилев в повести продолжает развивать тему крестьянской России, которую он поднял в стихотворении «Мужик». Есть в Мите что-то распутинское – черты распущенности и авантюризма, а в Ване и Мише-алхимике, жертвах ловких пройдох – черты одураченной российской глубинки» (ЗС. С. 664). «Веселые братья» упоминаются также (правда – вскользь, что, как мы увидим сейчас, не случайно) в лучшей работе о хлыстовстве в культурно-политическом контексте «серебряного века» – книге А. Эткинда «Хлыст. Секты, литература и революция» (М., 1998. С. 131–132). На «Серебряного голубя» как на «основной образец» «Веселых братьев» указывает и Н. А. Богомолов (см.: Изб (XX век). С. 533–534). Подобные упоминания (примеры можно продолжить) создают вокруг повести Гумилева определенную «идейную ауру», могущую дезориентировать читателя, незнакомого с тонкостями отечественной сектологии начала XX века. Между тем и хлыстовство, и масонство, весьма значимые сами по себе в российском культурно-историческом контексте 10-х годов XX века, с той «таинственной Русью», которая изображена в повести Гумилева, имеют очень мало общего.
Хлыстами (а также богомолами, лядами, кантовщиками, шалопутами, вертухами, баклушниками и т. д.) называли русскую мистическую секту, основанную в 1643 (или в 1631) г. костромичем Данилой Филипповым, ставшим хлыстовским «Саваофом». Впрочем, само «хлыстовство» как феномен духовного творчества народа историки относят едва ли не к эпохе св. Владимира Равноапольстольного, когда вместе с «греческой верой» на территорию Киевской Руси через апокрифическую письменность стали проникать и идеи средневековой еретической секты богумилов. Эти идеи, соединяясь с отечественными пантеистскими языческими верованиями, и создали основу хлыстовского учения, в центре которого стоит представление о возможности многократного воплощения Бога в человеке, многократном явлении живых человеческих воплощений божества – «христов» – на всей протяжении истории человечества, сообразно с «божественной надобностью» и нравственным достоинством избранников. Соответственно и Иисуса из Назарета хлысты воспринимали как «одного из христов», а Его евангелие полагали актуальным лишь для современного Ему человечества (поскольку потом были и другие «христы», которые говорили со своими современниками о другом на другом языке). Священное Писание здесь трактовали сугубо в аллегорическом смысле и видели его ценность лишь в «назидательном» плане, а к Церкви относились безразлично, как к «ветхозаветному пережитку» (и даже рекомендовали принадлежать к ней «внешне», дабы избежать гонения со стороны российских властей). Главным в духовной жизни хлыстов были личные мистические практики непосредственного соприкосновения с «трансценденцией», чувственные контакты с потусторонними энергиями, которые они считали «вхождением Святого Духа» – радения. Целью же «земного» бытия хлысты полагали «очищение» души, которая, пройдя цепочку «воплощений» в разные тела (людей и животных), попадает в конце концов в тело «человека божьего» (как называли себя сами члены секты) и после его физической смерти возносится на небо в виде ангела. Характернейшей чертой хлыстовства является его демонстративное пренебрежение к «мертвой букве» (книжности) и радикальное смещение акцентов в духовной жизни на непосредственную мистическую практику, из которой они и получали «слово божие» в виде «пророчеств», выкрикиваемых в ходе радений пришедшими в состояние экстатического исступления участниками. Этот принципиальный антиинтеллектуализм хлыстовства подчеркивает в упомянутой выше монографии А. Эткинд, многократно акцентируя внимание читателей на том, что, начиная свою проповедь, Данила Филиппов демонстративно «бросил книги в реку», знаменуя тем самым переход от «слова» к «делу».
Роман А. Белого «Серебряный голубь» (1910) действительно постоянно идентифицировался в восприятии читателей и критиков именно с изображением русского хлыстовства (хотя сам Белый подчеркивал вымышленный характер изображенной им «секты голубей»). «Сюжетно «Серебряный голубь» примыкает к многочисленным произведениям второй половины 1900-х гг., трактующим вопросы взаимоотношений народа и интеллигенции. Герой романа московский студент Петр Дарьяльский... ищет спасения в народной среде; он расстается с образованным кругом и поступает в работники к столяру Кудеярову, руководителю тайной секты «голубей». Таинственные чары Кудеярова и страстное влечение к «духине» «голубей», рябой бабе Матрене, чудовищной и привлекательной одновременно, порабощают Дарьяльского, мечтающего о новой, «почвенной» религии Св. Духа. Однако опьянение «голубиными» мистическими экстазами неизбежно ведет к зловещему концу: «голуби», убедившись, что Матрена не сможет родить от Дарьяльского «духовное чадо» (с этой целью он был завлечен в их сообщество), и боясь разоблачения секты, убивают его. Такова сюжетная схема романа, написанного, при всем его «символизме», с необычайной для Белого «реалистичностью»: рельефно запечатлен крестьянский, городской и поместный бытовой уклад, подробно воссозданы психологические мотивы поведения героев» (Лавров А. В. Андрей Белый в 10-е годы. М., 1995. С. 285–286).
Все сказанное выше позволяет представить касательство гумилевской повести к «Серебряному голубю»: если о каком-то влиянии и уместно говорить, то лишь в самом общем тематическом плане, связанном с проблемой «народа и интеллигенции» в литературном процессе «серебряного века». Трезвый петербуржец-этнограф Мезенцов весьма далек от экзальтированного московского мистика Дарьяльского, и «в народ» он идет, движимый как познавательно-научными интересами, так и жаждой приключений, но никак не в чаянии «мистического преображения». Равно и гумилевские «бродяги-интеллигенты» из народа, движимые желанием «спасти человечество», обличив ничтожество современной им позитивистской идеологии, никак не напоминают изуверов-«голубей» Белого с их чувственно-плотскими, «бессознательными» мистическими переживаниями.
Еще меньше в «Веселых братьях» можно обнаружить «масонских» нюансов, ибо образ «мужицкой» масонской ложи никак не укладывается ни в какие – даже самые широкие – представления о реальном историческом бытии «вольных каменщиков». Масонство изначально создавалось по образу тайного рыцарского ордена, его история генетически связана с историей тамплиеров, разгромленных Филиппом Красивым, но продолжавших тайно существовать в эпоху гонений. Отсюда и функционирование масонских лож в истории как Европы, так и России, исключительно в среде национальных элит – родовых, интеллектуальных, политических, военных, духовных. Высокие общественные «связи» «братьев», позволяющие ордену непосредственно влиять на представителей властных структур, были основным оружием масонства. В отношении к «народной массе» масоны придерживались взглядов, хорошо сформулированных египетскими жрецами (с которыми и в идеологии, и в практике у них было много общего): «Все для народа, ничего через народ». Масоны могли «втемную» использовать каких-то смышленых «простолюдинов», могли осуществлять манипуляцию «толпой», используя в своих целях ее слепую силу, но делать эти цели достоянием «масс» или широко востребовать собственно «интеллектуальный» потенциал «низов» они, насколько это известно, никогда не пытались. С гумилевскими «веселыми братьями» масоны сходятся лишь в «конспирологии» (это, впрочем, в той или иной степени – черта всех нонконформистских организаций) и в общем глобализме целей («спасение человечества»), но этим их сходство и исчерпывается: конкретика бытия «веселых братьев» лежит полностью вне пределов бытия масонства (см.: Масонство в его прошлом и настоящем. М., 1991. Т. 1–2; о восприятии масонства Гумилевым именно как рыцарского ордена см.: Новиков В. И. Масонство и русская культура. М., 1993. С. 56–58; Зобнин Ю. В. Странник духа (о судьбе и творчестве Николая Гумилева) // Русский путь. С. 35–37).
Определяя специфику гумилевской тематики, необходимо исходить из того, что уже с первых строк повести автор вводит мотив «русского Заволжья» («В Восточной России вообще, а в Пермской губернии в особенности бывают такие ночи...») – мотив, обладающий для читателей начала XX века устойчивым значением «раскольнического топоса». Именно заволжские русские губернии «до Урала» – место действия романов Мельникова-Печерского – были традиционными топонимическими символами русского раскола (не имеющими, конечно, в таковом качестве никакого отношения ни к хлыстам, селившимся повсюду и не обладавших поэтому особой «географической символикой», ни, тем более, к горожанам-масонам, которых было бы несколько странно видеть в приуральских просторах). Очевидно, что и прототип организации «веселых братьев» нужно искать в этой «заволжской» среде – в многочисленных течениях («толках»), возникших после «официального» оформления раскола русской Церкви на соборе 1666 г.
Как известно, раскольническое движение почти сразу образовало два больших направления, по которым позиционировались группы, по разному трактовавшие соотношение экклесиологических и эсхатологических приоритетов в общераскольнической протестной идеологии. Первое течение, получившее название «поповщины», объединяло «умеренных» приверженцев раскола, являвшихся «староверами» в буквальном смысле этого слова. Они полагали, что никонианская церковная реформа является порочной, и их основные интересы сосредоточивались потому в сфере экклесиологии (учение о Церкви) и церковного строительства, где они отстаивали старые обряды: двуперстные сложения для крестного знамения, сугубую аллилуйю, посолонное хождение, седьмипросфорие, чтение «обрадованная» вместо «благодатная», употребление лестовок и подручников и т. д., а также резко критиковали иерархов «никонианства» за «непотребные» для духовных лиц «нравы». Собственно церковь ими не отвергалась, напротив, сами себя они считали первыми ее хранителями и защитниками, а все их инвективы направлялись против современного (пост-никонианского) ее состояния. Вопрос же о том, является ли трагедия раскола знамением Конца Света и началом воцарения Антихриста (эсхатологическая проблематика), не поднимался ими, по крайней мере, как остро-злободневный, требующий немедленной реакции, залогом которой является спасение души. Поэтому «поповщина» в исторической перспективе либо организовывала «свои» храмы и приходы, куда поставлялись, вне преемственности рукоположения, «свои священники» («белокриницкая иерархия»), либо частично воссоединялась с «никонианской» церковью, принимая священнослужителей от православных архиереев (единоверчество).
В отличие от них сторонники «беспоповщины» исходили из того, что Антихрист уже пришел и Православие утрачено, а следовательно на земле «истинной Церкви» больше нет, нет таинств и нет священства. В расколе они видели процесс «отнятия благодати» у русской Церкви, после чего ни о какой экклесиологической проблематике дискутировать не было смысла. Любая обрядность – как «старая», так и «новая» – в «последние времена» «антихристова царства» является лишь мертвой, лишенной содержания формой, равно как и любые священники – хорошие или плохие – собственно «священниками» не являются, ибо таинство рукоположения «иссякло», стало просто «жестом». В «последние времена» для «истинных христиан» для общения с Богом достаточно молитвы и духовных упражнений, посредничество Церкви в этом общении не нужно (и невозможно, так как «Церкви нет»). Поэтому «беспоповщина» формировалась из всевозможных «братских общин», имеющих не священную, а духовно-организационную иерархию, объективно сближающую эти «раскольнические толки» с сектами. Здесь также были свои «радикалы и умеренные» (соответственно – «филипповцы» и «феодосьевцы»): первые ставили условием спасения полный разрыв с «миром антихриста» вплоть до самоубийства (инок Филипп швырнул во время богослужения на пол кадило с криком «наша вера христианская!», а затем – сжег себя вместе с 70 приверженцами, чтобы не попасть в руки «слуг антихристовых»), вторые – допускали какие-то «контакты» с «никонианами» (их лидер Феодосий признавал браки, заключенные православными священниками, законными). И «филипповцы» и «феодосьевцы» породили уже внутри себя множество «толков» («пастухово согласие», «аароновщина», «нетовщина», «рябиновщина», «дырники», «средники» и т. д.), однако и здесь нашлись «радикалы от радикалов», дистанцировавшиеся от обоих «беспоповских» версий как от «конформистских» (хотя дальше идти в «нонконформизме» было, на первый взгляд, некуда). Это были «странники» или «бегуны».
Основателем странничества был Ефимий из Переславля (ум. в 1792 г.). Ратуя за «чистоту беспоповства», он послал «московским старцам» 39 вопросов, ответов на которые не получил. Это подвигло его выступить с обличением вин и пороков старообрядцев и проповедью полного отрицания каких-либо связей с обществом, в котором восторжествовал Антихрист. «Апокалипсический зверь, – писал Ефимий, – есть царская власть, икона его – власть гражданская, тело его – власть духовная». Путь спасения потому «не пространный, еже о доме, о жене, о чадах, о торгах, о стяжании попечение имети», а «тесный и прискорбный, еже не имети ни града, ни села, ни дома», нужно «достоить таитися и бегать», т. е. «уйти» из порочного общества вовсе, уклоняться от всех видов гражданских повинностей, платежа податей, военной службы, принятия паспорта и присяги и т. д. (см.: Энциклопедический словарь. СПб., 1901. Т. 62. С. 723). Вступивший на этот путь Ефимием перекрещивался. Вслед за Ефимием неофиты уходили в пошехонские и галичские леса, в пустынные, труднодоступные местности, в том числе и горные, и там основывали убежища, дабы жить абсолютно независимой от «апокалипсического зверя» жизнью. С первых лет существования странничества членам этого «братства» был присущ повышенный интеллектуализм, сам Ефимий был большой любитель книг, много читал и сочинял, прекрасно владел слогом. Странничество не культивировало изуверство, присущее другим беспоповским «толкам», но призывало к исповедничеству и мученической кончине в случае, если уклониться от столкновения со «слугами антихриста» будет невозможно. С другой стороны «странники» широко практиковали самые тесные контакты с бродяжим и уголовным миром, из которого вербовали своих эмиссаров, так что в истории бегунства встречались и пьянство, воровство, убийство. Несмотря на проповедь аскетизма, за «странническими наставниками» прочно укрепилась слава соблазнителей женщин, что, впрочем, не мешало успеху их проповеди, увлекавшей самых ярких и способных из раскольнических общин других, более пассивных «толков». Вскоре целые районы восточной России были покрыты системой «пристаней», в которых обитали «жиловые» члены братства, т. е. оседлые содержатели тайных странноприимных домов. «Столицей» «странничества» стало село Сопелки Ярославской губернии, очень много страннических поселений было в вологодских и пошехонских лесах. Уже после смерти Ефимия, в XIX веке «странничество» обрело «устав», согласно которому во главе толка стоял «управляющий», районами заведовали «старшие», а отдельными местностями – «настоятели».
Как видно из сказанного, именно этот раскольнический «толк» ближе всего подходит к изображенному в повести Гумилева «веселому братству». «Странники» с их вечным бродяжничеством и таинственными, неведомыми «внешнему миру» селеньями-убежищами в труднодоступных местностях «необозримой Руси» были тем более привлекательны для Гумилева, что их история могла быть легко переосмыслена в категориях значимых для гумилевского творчества романов Р. Хаггарда, сочетавших «приключенческий» сюжет «путешествия» и мистику. Собственно замысел «Веселых братьев», насколько можно судить по дошедшим до нас пяти главам, вполне напоминает хаггардовский «сюжетный архетип», реализованный в «Аллане Квотермене» и в «Копях царя Соломона», – путешествие разнородной группы персонажей, ведомых «вожатым», в некую таинственную, удаленную и труднодоступную область, населенную людьми, располагающими нетрадиционными, «тайными» знаниями (см. о роли романов Р. Хаггарда в гумилевской прозе комментарии к № 3, 6, 9 наст. тома). Кроме того, в отношении заглавия возможно и влияние заглавия рассказа Р. Л. Стивенсона «Веселые молодцы» (см. комментарии к № 7 наст. тома).