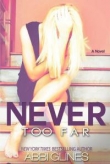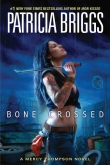Текст книги "Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 6. Художественная проза"
Автор книги: Николай Гумилев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 44 страниц)
Дез Эссент все пытался понять символический смысл цветка. Являлся ли лотос фаллическим, как в индуизме, символом? Или был для Ирода жертвоприношением девственности, кровью за кровь, раной за убийство? А может являлся аллегорией плодородия, индуистским образом полноты бытия или олицетворял цветок жизни, вырванный из рук женщины жадными руками самца, обезумевшего от страсти?
Или, может быть, художник, вручив богине священный цветок, имел в виду смертную женщину и сосуд нечистоты, от которого пошел грех и беззаконие? Или даже вспомнил об обычаях древних египтян и их погребальном обряде: жрецы и посвященные в тайны бальзамирования кладут тело на скамью из яшмы, крючками извлекают мозг через ноздри, а внутренности – из надреза в левом боку; затем они умащают мертвеца смолами и душистыми снадобьями, золотят ногти и зубы, но прежде кладут в гениталии, чтобы очистить покойника, воплощающие целомудрие лепестки лотоса» (Гюисманс Г.-К. Наоборот. Гл. 5). Стр. 135–139 – ср. роль «европейца» в ст-нии «Озеро Чад» (№ 95 в т. I наст. изд.). Стр. 148–150 – помимо уже отмеченных параллелей в романах Райдера Хаггарда (самоубийство королевы Сораис кинжалом в грудь на глазах у ее любовника в «Аллане Кватермане»; жуткие размышления о самоубийстве любовников, пронзенных кинжалом в грудь, среди катакомб владений Айеши в гл. 16 романа «Она»), ср. также внезапное самоубийство другого воина – «молодого сирийца», капитана королевского происхождения в «Саломее» О. Уайльда. Воин, заколовшись в ее присутствии, падает мертвым у самых ног Саломеи («падает между Саломеей и Иоканааном»), не в состоянии вынести, опять-таки, непристойные речи обожаемой им женщины (намеренно дразнящей его, не слушающей его увещаний) в ее длинном, непомерно сладострастном обращении к св. Иоканаану. «Лживость» ее слов окончательно проясняется в конце пьесы, где подчеркнуто подтверждается девственность этой изумительно красивой молодой принцессы; между тем, кровь от самоубийцы, эксплицитно обагряющая пол дворца, становится тематически значимой. Следует добавить, что пьеса Уайльда являлась очевидным источником заключительных строк ст-ния 1907 г. «Заклинание» («Бледная царица уронила / Для него алеющий цветок»; ср. обещание Саломеи сирийцу: «...завтра, когда меня пронесут на моем ложе <...> я уроню для тебя маленький цветок», – при наличии в первом варианте ст-ния Гумилева ст.: «А царица, наклоняясь с ложа, / Мировой играла крутизной» (см. № 63 в т. I наст. изд. и раздел «Другие редакции и варианты»). Другие возможные отзвуки «Саломеи» в лирике Гумилева этих лет можно усмотреть в «дворцовой экзотике» «танцовщиц» и «цистерн» в ст-ниях «Каракалла» и «Семирамида» (№№ 53, 158 в т. I наст. изд.), и в параллели с описанием Саломеей глаз Иоканаана «как черные озера, встревоженные фантастическими лунами» в первых строках ст-ния «Портрет мужчины» (№ 167 в т. I наст. изд.). Но заметнее всего ее связь с концовкой другого рассказа, «Лесной Дьявол» (см. комментарии к № 11 наст. тома). Стр. 153–155 – ср.: «Царица, иль может быть только капризный ребенок» («Отказ» № 80 (1)). Стр. 157–158 – ср. мотив «верблюдов» и «гиен» в «Отравленной тунике» (ст. 111 первого, ст. 100, 161 второго и ст. 6 четвертого действий № 7 в т. V наст. изд.).
10
Весы. 1909. № 7. В стр. 182 исправлена очевидная опечатка: «погребения» вместо «покаяния».
ТП, СС IV, ТП 1990, ЗС, Проза 1990, ШЧ, СС IV (Р-т), Соч II, Круг чтения, Изб (XX век), СС 2000, ТП 2000, Изб 2000, АО, Проза поэта, Мистика серебряного века, Музыкальная жизнь. 1987. № 18, Кодры. 1989. № 4.
Дат.: до мая 1908 г. – по письму к Брюсову (ЛН. С. 478).
Одно из самых значительных созданий раннего Гумилева, рассказ «Скрипка Страдивариуса» был передан В. Я. Брюсову для публикации в «Весах» (где к тому времени уже появились «Радости земной любви») при их второй встрече в конце апреля 1908 г. (см.: Соч III. С. 357). Вероятно, эта встреча была менее «безоблачной», нежели прошлогодняя (Гумилев впервые свиделся со своим постоянным корреспондентом и «учителем» 15 мая 1907 г.), ибо Гумилев за минувший год во многом разочаровался в символизме, в который ранее верил, по выражению Ахматовой, так, «как люди верят в Бога» (см.: Тименчик Р. Д. Заметки об акмеизме (III) // Russian Literature. 1981. Vol. 9. P. 176). По крайней мере в письме от 12 мая 1908 г. Гумилев, двумя месяцами ранее провозглашенный «мэтром» самым «перспективным» из «дебютантов» «новой школы» (см.: Брюсов В. Я. Дебютанты // Брюсов В. Я. Среди стихов: 1894–1921. Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 261–262), уже вполне допускает возможность, что публикация его новых произведений в «Скорпионе» и «Весах» может быть сопряжена с некими «затруднениями», – и в очень осторожной, деликатной форме пытается «прощупать почву». «Теперь Вы конечно знаете, возьмется ли «Скорпион» за издание моих стихов, и я со жгучим нетерпением жду Вашего ответа по этому поводу, – пишет он, намекая, что вопрос об грядущем издании «Жемчугов» во время московской встречи, так сказать, «повис в воздухе». – Еще раз повторяю, что если объявление о моей книге будет печататься в списке изданий «Скорпиона», я буду ждать хоть два года. Мне было бы также интересно знать, пойдет ли в «Весах» мой рассказ «Скрипка Страдивариуса», потому что в случае отказа я мог бы предложить ее в другое место. Но с этим не торопитесь и прочтите ее, когда Вам будет удобно» (ЛН. С. 478). Ответ Брюсова пришел спустя без малого месяц, и Гумилев, очевидно не без основания связывающий паузу в переписке с какими-то возникшими между ним и его корреспондентом трениями, выражает желание вновь повидаться с Брюсовым: «А то, правду сказать, я не вполне удовлетворен нашими прежними встречами. Вы были моим покровителем, а я ищу в Вас «учителя» и жду формул десятичности, которым я поверю не из каких-нибудь соображений (хотя бы и высшего порядка), а вполне инстинктивно» (ЛН. С. 479).
Встреча так и не состоялась, Брюсов уехал в заграничный вояж, а по возвращении его опять ждало письмо Гумилева (14 июля 1907 г.), где вновь мы находим прозрачные намеки на возникшие проблемы в отношениях «учителя» и «ученика». Так, Гумилев прямо спрашивает: «заслуживают ли внимания его темы и не является ли философская разработка их ребячеством», и заявляет, что «помнит» высказанные Брюсовым «предостережения об опасности успехов». Тем не менее, это не мешает ему считать, что «успехи действительно есть: до сих пор ни один из моих рассказов не был отвергнут для напечатанья. “Русская мысль” взяла два моих рассказа и... напечатает их в августе. “Речь” взяла три и просит еще. <...> ...Я хочу... издать книгу рассказов...» (ЛН. С. 481). После такого «китайского» предисловия Гумилев приступает к существу дела, ради которого, вероятно, и было написано письмо: «Теперь я дошел до щекотливого пункта. У Вас есть мой рассказ “Скрипка Страдивариуса”, по общему мнению много выше “Трех новелл” (т. е. “Радостей земной любви” – Ред.), и он должен войти в книгу. Поэтому для меня очень важно, если в случае его принятия он будет напечатан в августе. И так как это может ввести “Весы” в дополнительные расходы по увеличению номера, я с удовольствием откажусь от гонорара за него. Если же это все-таки не удастся, то прошу Вас, не откажите сообщить мне об этом, я предложу его в другое место» (ЛН. С. 481). Против последнего Брюсов отнюдь не возражал, – и рукопись была возвращена им Гумилеву с изумительной оперативностью: уже 20 августа, ошеломленный таким оборотом дела, Гумилев пишет «покаянное письмо». Он сообщает, что «убедился в своем ничтожестве», что, созерцая «путь для искусства», указанный Брюсовым, «был похож на того, кто любит иероглифы не за смысл, вложенный в них, а за начертания и перерисовывает их без всякой системы», что «надо начинать все сначала». «В силу того же соображения, – сообщает, наконец, уничиженный “ученик”, – я возвращаю Вам “Скрипку Страдивариуса” с просьбой напечатать ее в “Весах”, когда это будет для них удобно. Книгу я решил не издавать...» (ЛН. С. 482–483; см. также о настроениях Гумилева в момент написания этого письма во вступительной заметке к комментариям). Возвращенная рукопись легла на самое дно редакторского портфеля и была извлечена оттуда лишь без малого через год, – и то после очередного «напоминания» Гумилева (21 апреля 1909 г.), уже менее деликатного: «Интересно бы узнать, наконец, судьбу “Скрипки Страдивариуса”» (ЛН. С. 491).
Столь долгая история с публикацией рассказа именно в «Весах» (мы видели, что для Гумилева это было важно), конечно, во многом объясняется его очевидной «антисимволистской» направленностью. Не случайно, что этот рассказ, явившись-таки на страницах «Весов», был отмечен как положительный пример новейшей русской прозы уже в «стартовом» номере «Аполлона» – журнала, который вскоре превратился в главный орган молодых литераторов, «преодолевающих символизм» и ищущих «противоядий» от «искуса декадентства»: «Яркий, оригинальный язык, фантазия, интересная в большинстве случаев архитектоника фразы...» (см.: Анненский-Кривич В. Заметки о русской беллетристике // Аполлон. 1909. № 1 [октябрь 1909]. С. 25; впрочем, объективности ради, автор указал и на недостатки (с его точки зрения): «...Проза г. Гумилева несколько утомляет. Она как-то уж слишком густа, а периоды ее тяжеловесны для самой формы рассказа»). В контексте всего творчества поэта рассказ воспринимается как один из первых самостоятельных эстетических манифестов, предвосхищающих позднейшую проблематику «акмеистического бунта» против символизма.
Впрочем, некоторые из современных исследователей склонны трактовать его в еще более «общем» плане, как «рассказ о трагедии искусства» вообще, как поиск Гумилевым ответа на вопрос, «в чем же отличие гения от мастера, таланта от шарлатана», в ходе которого автор приходит к выводу «о неизбежности роковой участи посвятившего себя искусству и отсюда – о трагичности самого таланта» (Полушин В. Волшебная скрипка поэта // ЗС. С. 28). О. Обухова видела в истории гибели Паоло Белличини изображение завершающего этапа «инициационного мифа» (по ее мнению, – «сквозного мотива» всей ранней прозы поэта) – «инкорпорации и нового рождения», выражающихся в данном случае в «отказе от благого труда искусства» (см.: Обухова О. Ранняя проза Гумилева в свете поэтики акмеизма // Гумилевские чтения 1996. С. 121–122), а по мнению М. Ю. Васильевой рассказ «передает прозрение главного героя... которому открывается недостижимость страстно жаждуемой божественной гармонии силами человеческого таланта», и в этом смысле «Скрипка Страдивариуса» оказывается смысловым средоточием всех ранних рассказов поэта, где «непременное для Гумилева поклонение искусству проступает иной смысловой гранью – освещением истоков художественного дарования человека в глубинах его души. Поэт, композитор, скульптор для писателя достигают вершин только в том случае, когда поднимаются до осознания нетленных, вечных, духовных ценностей. По этой линии обобщений проза Гумилева... обладает несомненной самостоятельной значимостью» (Васильева. С. 14).
Однако в большинстве работ анализ «Скрипки Страдивариуса» производится непосредственно с помощью содержательных ассоциаций с проблематикой полемики акмеистов с символистами, а также ассоциаций с теми произведениями русской литературы, как классической, так и современной Гумилеву, в которых проблема искусства поднималась схожим образом. «В «Скрипке Страдивари» руки музыканта стали руками убийцы, – пишет С. А. Зинин, – с которых он тщетно пытается стереть невидимую кровь жертвы. «Слабое и жадное» сердце человека дрогнуло под чарами дьявольского наваждения: «И опять на много веков отдалился священный миг победы человека над материей». <...> Гумилев-акмеист не отказывался от принципа образной символизации, признавая, что символизм был «достойным отцом». Вместе с тем поэтика акмеизма решительно отвергала любые попытки мистического толкования мировых явлений. «Наш долг, наша воля, наше счастье и наша трагедия – ежечасно угадывать то, чем будет следующий час для нас, для нашего дела, для всего мира, и торопить его приближение», – писал поэт. В этом смысле художник, по Гумилеву, «начинатель игры», условием которой является напряженный духовный поиск, требующий жертвенной самоотдачи и неискоренимой веры в торжество гармонии. <...> «Еще одно тысячелетие такой же напряженной работы, и я навеки погружусь в печальные сумерки небытия», – замечает дьявол... По Гумилеву, цель «напряженной работы» человечества состоит в достижении сил духовного совершенства, прорыве в область «горнего величья», в решении этой сверхзадачи заключается главный смысл и логика исторического прогресса:
Так век за веком – скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
Особая роль в этом великом духовном строительстве принадлежит художнику-мастеру, переплавляющему тяжесть земной материи в «бессмертные стихи», «звуки легкие оркестра», «сокровища немыслимых фантазий». Миссия художника требует колоссального напряжения творческих сил, беззаветного служения Истине. ...Пушкинский тип «взыскательного художника» получает у Гумилева двоякое наполнение. Поэт, взыскующий единоличного успеха, стоящий в оппозиции по отношению к «общему делу» духовного возвышения человечества, рискует сойти со священной «дороги скрипачей», доверив свой дар темной силе. Ему противостоит тип подвижника, неуклонно совершенствующего свое мастерство и готового поделиться его секретами с начинающими (известно, что в первые годы революции Гумилев организовал поэтическую студию для молодежи, способствуя тем самым сохранению «культурного пространства» в недрах пролетарского государства). Художник, в полную меру осознающий ответственность перед собственным талантом, по праву владеет волшебной скрипкой – великой тайной вдохновения, посещающего избранных» (Зинин. С. 23–24). По мнению С. А. Зинина, образ скрипки в подобном символическом смысле является «сквозным образом» в русской литературе («Скрипка Ротшильда» А. П. Чехова, «Гамбринус» А. И. Куприна, «Скрипка стонет под горой...» А. Блока, «Смычок и струны» И. Анненского, «Скрипка и немножко нервно...» В. Маяковского). Образ скрипки имеет в этих произведениях «во многом схожее смысловое наполнение: это и символ высокого искусства, и голос человеческой души, и поток милых сердцу напоминаний» (Зинин. С. 23). «Образ скрипки многогранен, – пишет о гумилевской интерпретации этого «сквозного образа» С. Н. Колосова. – Одухотворенная и живая, она становится символом искусства, символом любви и преданности. Но в новелле две скрипки. Помимо скрипки Страдивари, «которая так покорно передавала все оттенки благородной человеческой мысли», существует еще и дьявольская скрипка – Прообраз... Эти две скрипки – две стороны, характеризующие искусство. Если одна из них – это созидающая сила, вдохновляющая на любовь и жизнь, то другая – сила зла и искушения (ср. с «Портретом» Н. В. Гоголя, где один художник создает два полотна: портрет демонического ростовщика и светлые лики на картине, изображающей рождение Иисуса)» (Колосова. С. 9). Е. Ю. Раскина, в свою очередь, сравнивает «Скрипку Страдивариуса» с «Русскими ночами» В. Ф. Одоевского, ибо, по мнению исследователя, в произведениях «сходен мотив “благостного творчества”»: «Целомудрие мастера понимается Гумилевым как отказ от насильственного обладания знанием, как осознание того, что без внутренней благостности и мудрости процесс осознания истины, а следовательно и процесс творчества невозможен» (Раскина. С. 174–175).
Все пишущие о рассказе отмечали, что повествование о «трагедии художника, осознавшего бессилие таланта перед вечностью» (см.: Зинин. С. 23), тематически связан со ст-нием «Волшебная скрипка» (№ 89 в т. I наст. изд.). С. Н. Колосова находила также, что «ст-ние «Баллада» (№ 3 в т. IV наст. изд.; ср. также ст. 61–84 № 21 в т. I наст. изд. – Ред.) сюжетно и архитипически является поэтическим вариантом новеллы», ибо «можно говорить об активном использовании [Гумилевым] легенды о докторе Фаусте» (см.: Колосова. С. 11).
По мотивам рассказа создан балет «Во власти Музы» (музыка Владимира Баскина, постановка Е. Мартыненко (г. Курган, 2000)).
С. Н. Колосова, анализируя название рассказа, проводит параллель со «Скрипкой Ротшильда» А. П. Чехова: «В заголовок обоих произведений выносится название музыкального инструмента – скрипки, и оба рассказа строятся таким образом, что именно через историю инструмента рассказывается история владельца... И в рассказе А. Чехова, и в новелле Н. Гумилева в названии фигурирует имя не центрального персонажа: в новелле Гумилева – имя создателя скрипки, а в рассказе Чехова – имя будущего владельца. В обоих произведениях в заголовок вынесены имена второстепенных для развития сюжета персонажей, которые, однако, имеют важное значение для раскрытия идеи произведения. Имя Страдивариуса, легендарного мастера, поднимает тему бессмертного искусства, а имя знаменитого богача Ротшильда ставит вопрос об истинном богатстве, богатстве человеческой души» (Колосова. С. 7). Вообще «скрипка в поэтике Гумилева – это... своего рода «проводник» в область неведомого и источник познания собственных возможностей, объект приложения воли и таланта» (Зинин. С. 24). Эта символика, впрочем, относится к сфере общекультурных «сквозных тем», причем помимо скрипки в подобном же символическом значении «трансцендентального медиатора» выступает еще несколько родственных ей струнных инструментов – лира, арфа, гусли, реже – домбра, гитара и т. п. У Гумилева, кроме упомянутой «волшебной скрипки» из одноименного стихотворения, в этом смысле вводится мотив «волшебной лютни» в драматической поэме «Гондла» (см. № 6 в т. V наст. изд.), причем, как и в рассказе, «магическое» содержание действия лютни (т. е. – содержание действия искусства) двойственно:
Ах, двойному заклятью покорный,
Музыкальный магический ход
Либо к гибели, страшной и черной,
Либо к славе звенящей ведет.
Оба эти «пути», возможные по Гумилеву для художника, который в подобной образной системе выступает как музыкант-исполнитель, представлены в рассказе (заметим, что в «Волшебной скрипке», написанной раньше «Скрипки Страдивариуса», в 1907 г., – в период, когда юный поэт находился под совершенным обаянием символистской эстетики, – подобная альтернатива отсутствует, и содержание «царственных звуков» безусловно связано лишь с одной темной, демонической стихией).
Образ главного героя – композитора и виртуоза-исполнителя Паоло Белличини – несомненно прототипически связан с фигурой великого итальянского музыканта Николо Паганини (1784–1840). Помимо анаграмматического совпадения имен и фамилий на это указывает целый ряд важных деталей в облике и истории главного героя, повторяющих известные (большей частью скандальные) штрихи биографии знаменитого итальянца. Как и у героя Гумилева, невероятное мастерство Паганини, приводящее в исступленный восторг огромные аудитории его слушателей, уже у современников ассоциировалось с действием «темных», разрушительных трансцендентальных энергий. Были случаи, когда после его концертов некоторые особо экзальтированные поклонники пытались покончить с собой (здесь уместно вспомнить суицидальную манию, развившуюся в конце 1907 г. у юного Гумилева – «ученика символистов»: см., напр.: Толстой А. Н. Н. Гумилев // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 38–39; Жизнь поэта. С. 52, 67). «Сделка с дьяволом» играет ключевую роль в «легенде Паганини», возникновению которой немало содействовал и сам маэстро, любивший намекать на какие-то необычайные секреты своей игры и окружавший свою жизнь покровом нарочитой таинственности. С другой стороны, с «легендой Паганини» связан и мотив собственно «волшебной», «заветной» скрипки, т. е. инструмента, соединенного с исполнителем некими индивидуальными «эзотерическими» отношениями. У Паганини было много первоклассных инструментов, но среди них он сам безусловно выделял знаменитую виолу дель Джезу, которая и вошла в историю как «вдова Паганини» (сам Паганини величал ее «пушкой» – за необыкновенную громкость звука). Этот инструмент, неизменно сопровождавший виртуоза в его постоянных странствиях по Европе, был создан самым талантливым из соперников Антонио Страдивари – Джузеппе Гварнери – с сознательным нарушением выработанных великим мастером «классических» пропорций, так что «вдова Паганини» представляет собой нечто среднее между собственно скрипкой и виолой. Паганини категорически возражал против того, чтобы у виолы дель Джезу был преемник и специально завещал ее не какому-то отдельному лицу, а родному городу Генуе, где она и хранится в качестве общенационального достояния по сей день.
Облик главного героя имеет характерные черты, восходящие к облику Паганини, который был высок, очень сутул, если не сказать – горбат, и имел уродливо-непропорциональные по отношению к анатомическому стандарту кисти рук. С другой стороны, особый акцент на «необыкновенных руках» «мэтра Паоло Белличини» вводит и автобиографический мотив, ибо «руки Гумилева» – постоянная деталь в описании облика поэта мемуаристами. «...Своеобразие его облика скорее удивляло, чем привлекало, – вспоминала Д. Ф. Слепян, – очень высокий, движения как на шарнирах, дынеобразная голова с небольшими глазами, какого-то неопределенного цвета и выражения... но руки... У него были необыкновенно красивые, выразительные руки!» (Жизнь Николая Гумилева. С. 195). «Необыкновенной красоты руки – руки патриарха с узкими длинными пальцами», – пишет о том же С. К. Эрлих, а И. М. Наппельбаум, описывая занятие в поэтической студии «Дома искусств», рисует целую картину, вполне соответствующую тексту новеллы: «Великолепные узкие руки с длинными, тонкими пальцами. Я много раз наблюдала их игру. Садясь к столу, Николай Степанович клал перед собой особый, очень похожий по форме на большой очечник, портсигар из черепахи. Он широко раскрывал его, как-то особо играя кончиками пальцев, доставал папиросу, закуривал, захлопывал довольно пузатый портсигар и отбивал папиросу о его крышку. И далее весь вечер, занимаясь, цитируя стихи, он отбивал ритм ногтями по портсигару» (см.: Жизнь Николая Гумилева. С. 187, 180–181). Манифестированный этой незаметной для «непосвященных» деталью автобиографический подтекст становится весьма важен, если вспомнить, что как раз в момент создания новеллы Гумилев находился в процессе «преодоления символизма», так что герой новеллы вступал с автором в отношения «лирического отчуждения» изжитой художественной ипостаси, о чем позднее Гумилев рассказывал в ст-нии «Память», описывая «тех, кто раньше в этом теле жили до меня»:
...Любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир,
Говорил, что жизнь – его подруга,
Коврик под его ногами – мир.
Он совсем не нравится мне, это
Он хотел стать богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.
(см. № 42 в т. IV наст. изд. и комментарии к нему; см. также: Зобнин. С. 366–370). На «общую» символику имени героя обратила внимание Д. С. Грачева: «В имени героя представлено соединение двух возможных судеб: Паоло – от латинского Paulus, что значит «малый». В христианской культуре это имя аналогично имени Павел – апостол язычников. Таким образом в тексте указывается на возможность двух жизненных путей: человека «малого» и апостола, ведущего язычников к вере. Паоло стал лишь «малым». Фамилия Белличини (от итал. belliko – военный) указывает на разрушающее начало героя, хотя рождает и первичную ложную ассоциацию, связанную с итальянским словом «bello», что означает «красивый», «прекрасный», то есть носитель «высокого», устремленный к нему. Таким образом, и имя и фамилия героя совмещают разновекторные движения творческого пути, что предполагает свободу выбора героя» (Грачева Д. С. «Скрипка» и «бумеранг» (о пути творчества в рассказе Н. С. Гумилева «Скрипка Страдивариуса») // Русская филология. 14. Сборник работ молодых филологов. Тарту, 2003. С. 84).
Стр. 1 – Паганини считался непревзойденным мэтром прежде всего в исполнении своей собственной музыки для скрипки solo (см.: Paganini. P. 136). Стр. 3–5 – Бальзак и Гете, знавшие Паганини, считали, что его виртуозность была каким-то образом связана с патологическими анатомическими качествами. В настоящее время существует версия, что у него был т. н. «синдром Марфона» – редкая болезнь, при которой возникает гиперэлластичность пальцев (см.: Paganini. P. 469–470). Стр. 6–7 – пианист и композитор Дж. Розенхэйп вспоминал: «Я слышал Паганини и не верю, что человеческое существо когда-либо превзойдет чудесные технические достижения этого необычайного человека. Я не могу описать мои впечатления от его игры. Я дрожал каждой частью своего тела, как будто я находился в присутствии некоего деспота; мои чувства были притуплены от изумления, я плакал, смеялся, был на самом деле совсем вне себя» (Paganini. P. 312). В английской «Times» от 19 мая 1831 г. читаем: «Он не только самый прекрасный исполнитель, который когда-либо играл на этом инструменте (скрипке – Ред.), но и создатель таких технических эффектов исполнения, которые очень немногие, а то и никакие подражатели смогут воспроизвести вновь». «Было любопытно следить, – пишет та же газета после очередного концерта Паганини два дня спустя, – за выражением лиц Линдлея, Драгонетти и других великих музыкантов, занявших свои места на сцене, чтобы наилучшим образом следить за его выступлением. После они все сошлись во мнении, что ничего подобного раньше не слышали и, помимо его чудесных чудачеств и новоизобретенных эффектов, его игра – взлет за наивысший из когда-либо достигнутых уровней нормального человеческого искусства» (см.: Paganini. P. 363, 367). Стр. 7–9 – среди почитателей Паганини были Меттерних, королева Баварии, великая герцогиня Тосканская Элиза и даже русский царь Николай I, подаривший ему бриллиантовые кольца после выступления на придворном банкете в Варшаве. Во время гастролей по Австрии Паганини получил титул барона; на одной из многочисленных карикатур на «маэстро» Паганини изображен в королевском одеянии среди венценосных особ Европы (см.: Paganini. P. 289, 103). Поклонниками Паганини были также Гете, Бальзак, Стендаль, а его многочисленные романы были предметом постоянного интереса в европейских светских кругах того времени; история с юной дочерью одного из его продюсеров, Карлоттой Уотсон, которая некоторое время с ним сожительствовала, стала предметом особого скандального разбирательства, так что музыкант фигурировал в роли «похитителя детей». Стр. 11–13 – Композитор Ф. Лист писал по поводу выступлений Паганини во Флоренции: «Волнение, которое он вызвал, было таким необычайным, магия, которой он воздействовал на воображение его слушателей такой сильной, что они не могли удовлетвориться естественными объяснениями. Старые басни о ведьмах и призраках пришли им в голову... Они даже шепотом говорили, что он посвятил свою душу Владыке Зла, и что четвертая струна на его скрипке сделана из кишечника его покойной жены, который он сам вырезал из ее трупа» (Paganini. P. 112). Стр. 15–16 – при жизни Паганини часто раздавались голоса, требующие отлучить его от церкви: «Они воспользовались слухами всякого рода как доказательством в оправдание своих действий. Они провозгласили его атеистом, указывая на то, что он никогда не бывал в церкви, не предоставил сыну религиозного образования, был отчаянным игроком и, к тому же, совершенно безнравственным человеком» (Paganini. P. 453). Стр. 16–17 – для современников Паганини-композитор (основные произведения которого вошли в широкий музыкальный обиход только после его смерти) был совершенно заслонен Паганини-виртуозом, владеющим непостижимой техникой игры на скрипке. Основным «фокусом» концертов Паганини была намеренно-нетрадиционная формальная интерпретация популярных музыкальных произведений (самым известным примером такого рода является исполнение некоторых из них на одной (четвертой) струне). Подобные трудноисполнимые формальные задачи Паганини сознательно ставил перед собой, полагая это родом «дерзновения», – вызовом ограниченным возможностям «косной материи». Стр. 17–19. – Все обращали внимание на его характерно-неповторимую «трупоподобную» внешность: темные, впалые глаза, длинные жидкие черные волосы, восковую белую кожу: «Он был высоким, худощавым, угловатым человеком с острым выдающимся носом, похожим на орлиный клюв и длинными костлявыми пальцами». Его друг и биограф Шоттки пишет: «Он такой худой, что нельзя быть худее приличному человеку; при этом у него бледная, желтоватая расцветка лица, длинный, горбатый нос и костлявые руки. Кажется, что тело его еле держится под одеждой, и когда он кланяется в своей странной, необычной манере, невольно боишься, что его ноги отпадут от туловища и весь он распадется грудою костей. В настоящий момент, едва оправившись от тяжелой болезни..., он кажется карикатурой на самого себя, своей фигурой напоминая нам о фигурах Калло» (см.: Paganini. P. 469, 269). По всей вероятности именно этот фрагмент из воспоминаний Шоттки и использовал Гумилев для своего портрета Белличини. Стр. 20–25 – описание кабинета Белличини, вызывающего аллюзии с картинами Жака Калло (1593–1635) и Клода Лоррена (1600–1682), вызвало специальный экскурс в работе С. Н. Колосовой: «Калло, знаменитый французский гравер и рисовальщик XVII века, прославился сериями гротесковых офортов, сатирически изображающих людские пороки. Неотъемлемые образы его произведений – карлики, бурлескные актеры, горбуны. Скорее всего под «бредовыми видениями», которые могли вдохновить музыку Паоло и предвосхитить доверительную встречу с дьяволом, подразумеваются «Искушения св. Антония». В творчестве Калло было два произведения под таким названием и с таким сюжетом. Оба этих офорта представляют собой «бредовые видения» в виде всевозможных чудовищ и чертей. Эстампы изображают адово царство. «В одном образе Калло сочетает самые разнообразные формы, порожденные природой, части тела различных животных и птиц, и пресмыкающихся... Здесь можно видеть людей с жабьими, рачьими, козлиными и верблюжьими мордами, коней с тараканьими головами, длинноухих верблюдов, людские скелеты с собачьими черепами, обезьян с крыльями летучих мышей» (Гликман. Жак Калло. Л.-М., 1959. С. 32). А в верхней части обоих произведений – изображение «огромной фигуры князя тьмы Люцифера, простершего могучие крылья с когтистыми лапами над своим царством» (План П. П. Жак Калло. М., 1924. С. 102). В контексте рассказа Гумилева гротески Калло становятся прелюдией, эпиграфом к творчеству музыканта Белличини» (Колосова. С. 8). На фоне кошмаров Калло «лучезарные пейзажи Лоррена, освещенные солнцем, проникнутые поэтическим настроением, кажутся неуместными, на первый взгляд. Однако уже здесь, упоминая вскользь Лоррена и Калло, Гумилев определяет место творческой личности. Искусство художника, да и сам он находятся на грани божественного вдохновения и дьявольского искушения. Среди математических формул и «темных углов» картины Лоррена, излучающие свет и одухотворенные, теряются в кабинете маэстро, как теряются «благочестивые мелодии» в вихре «бешенного взлета к невозможному». <...> Привлекая живопись, Гумилев включает сюжеты полотен Калло и Лоррена в новеллу и «заставляет работать» их на свой текст: ссылка на творчество художников становится средством раскрытия образа и идеи произведения, а также расширяет содержание» (Колосова. С. 8). Следует также указать и на большое значение живописи Лоррена в творчестве Достоевского, в частности – на введение этого мотива в характеристику Ставрогина («Бесы»), самого «двойственного» из галереи героев великого романиста. Стр. 26–28 – «математическая» и «геометрическая» символика существенно углубляет характеристику героя, проецируя его творческие искания на пифагорейское учение. Великий древнегреческий мыслитель был известен своим современникам прежде всего как мистик и практический моралист, основатель «пифагорейского союза» в Кротоне, культивирующего самую суровую аскезу, а также – как музыкант и теоретик музыки (собственно «математические» идеи Пифагора и его учеников были оценены гораздо позднее). Согласно учению Пифагора, мир, состоящий из противоречий, существует только лишь потому, что их согласует внеположная им «мировая гармония», которая есть тайна, доступная в полноте своей лишь божественному разуму. Эта мировая гармония осуществляется в противоположностях, из которых основные – «предел» и «беспредельность», производящие затем 9 основных антитетичных пар: нечет – чет, единство – множество, правое – левое, мужское – женское, покоящееся – движущееся, прямое – кривое, свет – мрак, добро – зло, квадрат – продолговатый четырехугольник. Как мы видим, «математические» противоположности ближе всего предстоят средоточию мировой антитезы, т. е. математическое мышление ближе всего приближает человека к тайне «мировой гармонии». Происходит это потому, что само понятие «числа» Пифагор и его ученики понимали не в расхожем современном значении «суммы единиц», а как обозначение той силы, которая суммирует разрозненные единицы в определенное целое и сообщает ему определенные свойства. Так «число единица» в этой системе значит «причина единения», «число двойка» – «причина раздвоения» и т. д. Поэтому «четные» числа (кратные двум) содержат в себе начало «разъединения», «длительности», а «нечетные» – противоположные свойства. Отсюда понятно, что числа могут обладать и содержанием, выходящим далеко за пределы математики как таковой, и обнимать все мироздание, служа для человека выражением его свойств. Аристотель писал, что Пифагор и его ученики «признали математические начала за начала всего существующего»: «В числах усматривали они множество аналогий или подобий с вещами... так что одно свойство чисел являлось им как справедливость, другое – как душа или разум, еще другое – как благоприятный случай и т. д. Далее они находили в числах свойства и отношения музыкальной гармонии, и так как все прочие вещи по природе своей являлись им подобием чисел, числа же – первыми из всей природы, то они и признали, что элементы числа суть элементы всего сущего и что все в небе есть гармония и число» (Met. I. 5). Поэтому, постигая законы музыкальной гармонии, Пифагор надеялся постигнуть сущностную тайну мироздания. Для этого он изобрел монохорд и, экспериментируя со струной, открыл связь музыкальных интервалов с простейшими из рациональных числовых отношений (половина струны звучит в октаву с тоном, издаваемой целой струной, ⅔ – в квинту, ¾ – в кварту и т. д). Музыкальные отношения соединяют и геометрические тела, восходящие к космологическим представлениям пифагорейцев о «гармонии небесных сфер». Т. о. «земная» музыка оказывается в учении Пифагора символом «мировой гармонии» и, будучи математически «исчисленной», становится информацией о трансцендентальных тайнах бытия (см.: Трубецкой С. Н. Метафизика в Древней Греции. М., 1890, а также его статью о Пифагоре и пифагорейцах в т. 46 Энциклопедического словаря изд. Брокгауза и Ефрона).