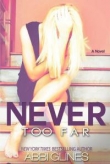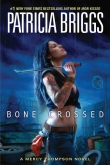Текст книги "Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 6. Художественная проза"
Автор книги: Николай Гумилев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 44 страниц)
Определение Е. Подшиваловой и М. Ю. Васильевой жанровой природы «Африканской охоты» как «очерка» (или – ряда «очерков»), каковое встречается и в других «гумилевоведческих» работах (см., напр., несколько наивную статью В. Стрижнева: «Знал он муки голода и жажды...» Н. Гумилев – поэт, этнограф, охотник // Охота и охотничье хозяйство. 1987. № 7. С. 38), следует признать весьма спорным, поскольку, будучи действительно формально «составленной» из фрагментов «африканских приключений» разных лет, «Охота» в то же время обладает содержательным единством, тематика которого, мягко говоря, далеко превосходит «познавательно-этнографическую» или «приключенческую» сферы. Е. П. Беренштейн связывал философскую проблематику рассказа с «игровым началом», присущим, по его мнению, гумилевским произведениям, обращенным к «антропологической» проблематике ницшеанского толка: «Игровое начало, как известно, лишено утилитарности, будучи реализацией свободных творческих сил. У Гумилева игра со смертью является связующей нитью между бытием и индивидуальным существованием, природой и Богом. Пролитие своей и чужой крови есть для него в прямом смысле слова кровная связь с миром <цит. стр. 257–262>. В этом сне, где игровое начало буквально выпячивается, снимается противоречие “преступления-наказания”, “деяния-воздаяния”. <...> Человек [в творчестве Гумилева] в высшей потенции утрачивает все ограничивающие его существование рамки – социальные, исторические, этические (см.: «Капитаны», «На Северном Море» и др.). Деятельное существование в бытии, а не в жизни – сверхчеловеческая установка Гумилева, непосредственное предстояние Богу как в процессе проживания жизни, так и после нее (см.: «Мои читатели»). Отсюда органическая множественность – всеобщность «я», существующего во всех пространствах, временах, культурах. Целенаправленное волевое и одновременно произвольно-игровое начала в сверхчеловеческом выборе органически соединяются, и тип гумилевского сверхчеловека родиной, почвой считает все бытие, преломленное в культуре (см.: «Прапамять», «Стокгольм», «Память», «Среди бесчисленных светил...» и др.)» (Беренштейн Е. П. Концепция культуры Николая Гумилева // Лит. текст: проблемы и методы исследования. Вып. III. Тверь, 1997. С. 102–103). Не случайно, что фильм о чекистском красном терроре и гибели в нем Гумилева также был назван «Африканской охотой» (см. аннотацию его: Кинонеделя Ленинграда. 2 сентября 1988 (№ 36 (1665)).
Эти мрачные философские «бездны» «Африканской охоты», непривычные в традиции позитивистского абстрактного «гуманизма», становились настоящей проблемой для читательского восприятия: «Что можно сказать по существу приведенного рассказа? – писал, комментируя III часть «Охоты», В. В. Бронгулеев. – Конечно, он правдоподобен, и все было именно так, как поведал нам его автор. Читая об этой охоте на леопарда, невольно вспоминаешь аналогичные описания во многих приключенческих романах тех лет. Отношение к охоте как к занятию для смелых было тогда совсем иным. И все-таки кажется, что никакого удовольствия от стрельбы по обезьянам и леопардам Гумилев испытывать не мог и если участвовал в этом, то либо по необходимости, как во время своей последней экспедиции в Абиссинию в 1913 году, либо из ложно понятой идеи самоутверждения в более ранние годы. Ведь во многих его стихах, где говорится о мужестве и преодолении страха смерти, нет и намека на какую-либо жестокость, а есть лишь особый элемент бравады. Очень характерно, что тот же элемент сопровождает и описание сцен людских побоищ, которые делались им во второй половине жизни. Там нет ни ненависти к врагу, ни злорадства, а есть лишь восхищение битвой как таковой, как ристалищем для сильнейших духом. К сожалению, это было не понято ни прежде, ни теперь» (Бронгулеев. С. 159).
К сожалению, приходится признать, что как вышеприведенная, так и многие другие попытки «реабилитировать» поэта, списав «трудные» для традиционного этического оправдания произведения (см. комментарии к № 16 наст. тома) на его склонность к наивной «браваде» и юношескому «самоутверждению», не выдерживают критики. Метафизические основы «странного» миросозерцания, отраженного в «Африканской охоте», раскрыты Ю. В. Зобниным, который констатировал, что «рассказы о жестоком умерщвлении охотниками диких хищных животных, морских и наземных» резко выделяются даже на фоне «обыкновенной» «охотничьей прозы» «сознательной установкой автора на подробное, натуралистическое изображение кровавых «физиологических» жестокостей и плотских страданий животных». Это, по мнению автора, обусловлено связью гумилевской символики «африканской охоты» с православной натурфилософией персонализма, согласно которой вся «животная» часть мироздания может рассматриваться как единая космическая «живая плоть», и, в качестве таковой, она «испорчена» грехопадением перволюдей: «Согласно библейской истории творения, животный мир был вызван к жизни в шестой день, т. е. непосредственно перед созданием человека. <...> Животная часть мироздания, как это явствует из самого названия ее, оказывается носителем чувств и эмоций, производимых плотью. Прежде чем соединиться воедино в человеческом существе, эти чувства и эмоции получили свое самостоятельное воплощение в особом животном виде – так что каждое «животное» оказывается носителем некоей черты «плотского» человеческого бытия, а в целом животный мир представляет собой воплощение этого бытия... <...> ...«Дикость» и «зверство» не были присущи животному миру изначально, а обнаружились только тогда, когда Адам не смог «осуществлять господство над своими страстями», т. е. явились одним из трагических последствий грехопадения. Во время пребывания в раю первые люди, располагающие полнотой бытия в любовном общении с Богом и всецело «владеющие» своей как душевной, так и плотской природой, проецировали эту гармонию чувств и «вовне». <...> Превращение «животных» в «диких зверей» явилось точной «проекцией вовне» того, что произошло с человеческой плотью, вышедшей в момент грехопадения из-под контроля душевного «ума». Невинные и гармонические чувственные переживания превратились в страсти – и это недолжное состояние... также «объективировалось», получило свое воплощение в животном мире. Однако если человеческий «ум» и после грехопадения мог еще более или менее успешно препятствовать развитию плотских страстей внутри человеческого существа, то сами «животные» носители их, в силу простоты своей природы, таковой способностью не располагали. Здесь плотские страсти развились до последнего предела, до «зверства», причем те из них, которые и в человеке с легкостью превозмогают ослабленный грехопадением «ум» (половая похоть, алчность, жадность, агрессивность и т. п.), превратили своих носителей в животном мире в хищников, несущих страдания и смерть всему окружающему. <...> Природа сама по себе метафизически пуста, как само по себе «пусто» зеркальное стекло, «содержанием» которого является отраженный в нем образ человека. Точно так единственной действительной «тайной природы» является ее способность отражения всего ужаса того зверского хаоса, который живет в человеке после грехопадения. Настоящий «зверь» скрывается в человеке, тогда как в видимом «природном» звере скрывается доброе и кроткое человекообразное «животное», созданное Творцом для службы своему земному повелителю – вот страшная истина, вполне усвоенная Гумилевым. В его творчестве образ «африканской охоты» получает жуткое, символическое значение. Животная плоть природы здесь сотрясается отвратительными, безобразными конвульсиями «зверства», вызывающими у «охотника» немедленную естественную реакцию беспощадного отрицания этого темного, хаотического кошмара, – и тогда летят пули, разрывающие кровавую ткань, вонзаются заостренные лезвия и железные ломы, расчленяющие костные суставы. Но, в результате, мертвая, растерзанная кровавая туша, которая остается перед взорами «охотника», вдруг приобретает совсем не свойственные ей минутой раньше «кроткие» черты, как бы «обливаясь кровью, аплодирует искусству палача и радуется, как все это просто, хорошо и совсем не больно». И в этот миг «охотник» понимает – он стрелял в самого себя, в свое собственное alter ego, вдруг повстречавшееся во время «земного странствия» в «сумрачном лесу»...» (Зобнин. С. 227–237).
Стр. 1–37 – защитниками Гумилева в годы официального запрета его творчества традиционно акцентировалось внимание читателей на первой части «Африканской охоты» как на ярком свидетельстве «антиколониалистских» взглядов поэта. Это отразилось и в книге А. Давидсона («в этом очерке как бы итог размышлений [Гумилева] о судьбе Африки и о ее отношении к европейским завоевателям»), и в комментариях Р. Л. Щербакова («подлинный гимн Африке... красноречиво свидетельствует, что многолетние упреки поэту в империалистическом мышлении были абсолютно надуманны и беспочвенны») (см.: Давидсон. С. 204; Соч II. С. 433). Стр. 60–61 – сравнение акульих глаз с глазами «старых, особенно свирепых кабанов» добавлено Гумилевым при редактировании данного фрагмента «Африканского дневника». «Заметим, что охотник встречает самых страшных хищников, самый облик которых оказывается воплощением агрессивного зверства. <...> Гумилевский «охотник» стреляет только в тех животных, которые являются «зверями в полном смысле этого слова». Получается, что не все «животные» были для Гумилева «зверями», более того – даже животные одного и того же вида могут «зверями» быть, а могут и не быть» (Зобнин. С. 235–234). Стр. 81 – в «Африканском дневнике» это предложение начинается так: «А этот, верный до конца...» и т. д. Редакция фразы сделана для усиления «антропоморфной» метаморфозы, произошедшей с «осиротелым лоцманом». «В страшных сценах, нарисованных Гумилевым, есть повторяющийся поэтический контраст, который производит впечатление еще более сильное, нежели натуралистические детали вроде вспоротого акульего живота и застрявшей в позвоночнике леопарда пули. Дело в том, что непосредственно в момент мучительной гибели звери, пораженные охотниками, вдруг, волей рассказчика, начинают приобретать человекообразные черты» (Зобнин. С. 234). Только две упомянутые правки Гумилева при редактуре фрагмента-источника несут существенную смысловую нагрузку (остальная правка носит технический характер). Стр. 201 – под «маузером» имеется в виду однозарядная или магазинная немецкая винтовка данной системы. Эту деталь «обыгрывал» в своих воспоминаниях о Гумилеве Г. В. Иванов, то ли иронически, то ли всерьез приводя слова «гимна», который распевали «негры из сформированного им отряда, маршируя по Сахаре»:
Нет ружья лучше Маузера!
Нет вахмистра лучше З-Бель-Бека!
Нет начальника лучше Гумилеха!
(см.: Иванов Г. В. Собрание сочинений. В 3 т. М., 1994. С. 546–547). Стр. 204 – «берданка» – однозарядная винтовка системы Х. Бердана; в 1868–1891 гг. была на вооружении русской армии. Эта деталь может учитываться при датировке данного эпизода: оружие для экспедиции 1913 г. Гумилев получил из казенного арсенала. Стр. 212 – «лидж» – буквально «мальчик», в прибавлении к имени молодого представителя аристократического рода это слово приобретает значение «отпрыск, наследник». Стр. 257–262 – уже Н. А. Оцуп видел в этих строках «предчувствие» своего трагического конца (см.: Оцуп Н. А. Николай Гумилев: жизнь и творчество. СПб., 1995. С. 84). «...Образ своей головы, отрубленной палачом по причинам политическим, привиделся ему еще в Африке после охоты <цит. стр. 257–262>, – пишет и Вяч. Вс. Иванов, считавший также данный фрагмент «биографическим пророчеством» об августе 1921 г. – Этот пригрезившийся в кошмарном сне образ, навязчиво повторяющийся, в «Заблудившемся трамвае» помножен на отсутствие овощей (примета времени), вместо которых в зеленной лавке продают мертвые головы» (Иванов Вяч. Вс. Звездная вспышка (поэтический мир Н. С. Гумилева) // Ст ПРП. С. 9). «Биографы традиционно приводят фразу об «абиссинском дворцовом перевороте» и «отрублении головы» как одно из «пророчеств» Гумилева о собственной гибели в 1921 г. ...Однако именно финал «Африканской охоты» менее всего согласуется с той картиной «смертных обстоятельств», которая, действительно, многократно повторяется в разные годы в гумилевском творчестве. Там речь идет о гибели как таковой, страшной, страдальческой и внезапной. Герой упомянутых произведений погибает «в болотине проклятой», «дикой щели», на гильотине, падает, обливаясь кровью, на «пыльную и мятую траву», «смертно тоскуя» и т. п. О причинах гибели, тем более о виновности или невиновности героя вообще не поминается... Во сне из «Африканской охоты» речь идет о справедливой казни.
Смерть героя оказывается справедливым воздаянием за участие в «каком-то абиссинском дворцовом перевороте», и поэтому она воспринимается как искупление совершенного греха и освобождение от него. Из-за этого она не вызывает «смертной тоски», а переживается даже самим казненным как нечто естественное – «это просто, хорошо и совсем не больно». Если не выдирать эту сцену из контекста, присваивая ей «пророческий» смысл, то можно увидеть здесь тот самый ответ на вопрос об оправданности убийства охотником зверей «для забавы», которое не расторгает «кровной связи с миром» и не порождает «угрызений совести». Оказывается, что в сознании рассказчика происходит своеобразное отождествление хищных жертв «африканской охоты» с самим собой – и в диких зверях, и в своей собственной натуре рассказчик прозревает некий единый порок, освобождение от которого может прийти лишь в результате казни. <...> Подобная [православная персоналистская] натурфилософия, действительно, превращает гумилевских «африканских охотников» в «умелых палачей», действия которых оправдываются особой высшей справедливостью, тогда как звери-жертвы оказываются носителями некоего «метафизического порока», от которого их освобождает гибель. Жестокость единоборства зверя с охотником, в этом случае, подобна жестокости «отрубления головы» в сонном видении героя, – она не распространяется дальше «физиологии», по существу же это – «просто, хорошо и совсем не больно». Насилие обращено здесь не против плоти, а против обретающегося в ней «зверства», и плотские страдания, которыми сопровождается исторжение «зверства», оказываются потому оправданными – так, как оправдываются, например, страдания больного под ножом хирурга, исторгающего болезнь из тела. ...Подобный образ «радостной казни» весьма распространен в аскетических сочинениях» (Зобнин. С. 232–233, 236).
15
Биржевые ведомости. 31 июля 1916 г. (Утр. выпуск. № 15711).
ТП, СС IV, ТП 1990, ЗС, Проза 1990, СС IV (Р-т), Соч II, Изб (XX век), СС 2000, АО, Проза поэта, Мистика серебряного века.
Дат.: июль 1914 г. – по датировке Р. Л. Щербакова (Соч II. С. 433).
Этот небольшой рассказ, созданный в самый канун Первой мировой войны и поэтому, возможно, стоящий несколько особняком в творчестве Гумилева-прозаика, может расцениваться как опыт сближения, на современном «городском» фоне, документальности африканских (и последующих военных) очерков с причудливой фантазией и экзотикой более ранней художественной прозы. Об истории его создания в контексте прозаических поисков и опытов Гумилева 1908–1916 гг. см. вступительную статью к разделу «Комментарии».
На биографическую основу рассказа указала А. Ахматова. По сообщению П. Н. Лукницкого, «АА уверена, что Таня Адамович нюхала эфир и что «Путешествие в страну эфира» относится к Тане Адамович» (Acumiana. С. 138). В таком случае время его написания – в дни объявления войны, между 10 и 17 июля 1914 г. (ср. письма Гумилева к Ахматовой от этих дат: Соч III. С. 238) – позволяет разделить предположение Р. Л. Щербакова о том (Соч II. С. 433), что его создание было скорее всего связано с впечатлениями от поездки Гумилева к Т. В. Адамович в Вильно и Либаву в конце июня 1914 г. (ср. Соч III. С. 387; Жизнь поэта. С. 168).
Мнение Ахматовой о реальных истоках «Путешествия в страну эфира» находит частичное подтверждение в некоторых подробностях рассказа. Подобно Татьяне Адамович, у героини рассказа Инны – русское имя, но «фамилия ее <...> не русская». Инне «было лет двадцать»; Т. В. Адамович (1892–1970) в 1914 г. исполнилось двадцать два. Татьяна Викторовна, сестра известного в будущем поэта и литературного критика Г. В. Адамовича, была тогда учительницей танцев и начинающей балериной; появление Инны в одеянии индийской танцовщицы – баядеры, возможно, содержит в себе еще одну косвенную отсылку к реальному прототипу. И все-таки подобные совпадения нужно признать достаточно поверхностными. Гумилевская Инна также, безусловно, – идеализированная женщина, которая по уму и красоте («нам не приходилось встречать более умной, красивой, свободной и капризной девушки») скорее напоминает некую литературную героиню по образцу Лигеи Э. А. По, чем реальную Адамович. (Ахматова – хоть в данном случае, может быть, и не самая беспристрастная из наблюдателей, – ответила Лукницкому на его прямой вопрос об Адамович: «красивой она не была... (но была интересной)»; косвенную оценку ее умственных способностей дала О. А. Мочалова, как будто бы непосредственно со слов самого Гумилева: «Очаровательная... книги она не читает, но бежит, бежит убрать в свой шкаф. Инстинкт зверька» (Acumiana. С. 138; Жизнь Николая Гумилева. СПб., 1991. С. 119).)
Иначе, чем в жизни, изображаются в рассказе и любовные отношения героини. Первое (хотя и оставшееся до конца двусмысленным) ее интимное сближение с Грантом непосредственно предшествует их окончательному расхождению – своевольному и бесповоротному отбытию Инны за границу. Но Гумилев в то время отнюдь не «терял» Адамович, с которой он познакомился в январе 1914 г. и вел, по словам Ахматовой, «вполне официальный роман» по крайней мере до появления посвященного ей «Колчана» в декабре 1915 г. По-видимому, несмотря на его утверждение о «страшной скуке» в Любаве в июне 1914 г., он в одно время даже подумывал о женитьбе на ней (Acumiana. С. 178–179; письмо Гумилева к А. А. Ахматовой от 10 июля 1914. Соч III. С. 238). Иначе говоря, биографический (любовный) подтекст «Путешествия в страну эфира» лишен той остро-напряженной, но глубоко зашифрованной ориентации на реальную женщину-адресата, которая иногда намечается по отношению к Ахматовой в более фантастических рассказах гумилевской молодости.
На другой аспект автобиографизма намекают фамилии мужских персонажей рассказа, Гранта и Мезенцова. Грант – псевдоним молодого Гумилева-прозаика парижского периода 1906–1908 гг. «Мезенцовым» Гумилев потом назовет героя «Веселых братьев» – собирателя, как и он, народных сказок и песен (правда, не абиссинских, а «заволжских»), «гонимого» (как сообщается в первом абзаце повести в словах, безусловно применимых и к самому Гумилеву позднего периода парижско-лондонского «застоя», «вечной тоской бродяжничества, столь свойственной русской интеллигенции» (см. № 18 наст. тома)). Выбор фамилий может поэтому навести на мысль о том, что в двух мужских персонажах «Путешествия в страну эфира» – в молодом Гранте, впечатлительном авторе-повествователе, и в более опытном, менее восторженном, скептически-рассудительном Мезенцове (способном, однако, в представлении Гранта «бормотать заклинания и творить волшебство») Гумилев изображал две ипостаси самого себя – прошлого и настоящего (или даже будущего: если Мезенцову тут «было уже тридцать», то Гумилеву шел двадцать девятый год). Тенденция к раздельному проецированию и даже отдельному воплощению хронологически различных этапов своей собственной личности (духовной автобиографии) была характерна для некоторых из самых значительных вещей Гумилева – от «Пятистопных ямбов» («Я молод был, был жаден и уверен <...> Теперь мой голос медлен и размерен» (№ 98 в т. II наст. изд.)) и противопоставления Актеона Кадму в пьесе «Актеон» (см. комментарии к № 4 в т. V наст. изд.) до «Памяти» и «Заблудившегося трамвая» (№№ 42, 39 в т. IV наст. изд.). Подобным образом сюжетный треугольник (Грант-Мезенцов-Инна) этого легкого, полуиронического рассказа предвосхищает и такое стихотворение, как «Два Адама» – в котором «внешний Адам», подобно Гранту, «Улыбкой нежной, нежными очами / Сумеет женщину приворожить», а внутренний «Унылой злобою всегда томим» (№ 100 в т. III наст. изд.; ср. в последнем разделе «Путешествия в страну эфира» размышления Мезенцова о добре и зле и его решение «причинить кому-либо зло»).
Не исключено наличие автобиографического элемента другого рода, позволяющего связать автора «Путешествия в страну эфира» и с третьим мужским персонажем – неназванным «доктором». Как автор, так и доктор по-своему стремятся к передаче того, что доктор называет «правдой об эфире». Доктор претендует на уникальные знания свойств этого снадобья – но, разумеется, именно эти свойства и составляют главный сюжет гумилевского повествования. Некоторое сходство с авторской позицией можно усмотреть в отношении доктора к другим персонажам как к любопытному, «подопытному» человеческому материалу для его беспристрастных наблюдений; он же и «сочинитель» основного сюжета (сюжета в сюжете, видения под эфиром) в том смысле, что именно он подсказывает другим, «действующим» лицам идею – нюхать эфир. Наконец, в четвертом разделе рассказа, внутри «страны эфира», он управляет этими персонажами до такой степени, что их участь как будто бы оказывается полностью в его распоряжении. Сближение авторских, художественных задач с научно-исследовательскими и хотя бы частичное уподобление «авторитетного» доктора самому автору могли быть подсказаны и литературными прецедентами (см. ниже).
Личный, автобиографический опыт Гумилева лежит в основе рассказа и в прямом смысле, – он сам, безусловно, не раз испробовал действие эфира. Ахматова предварила свое сообщение о том, что «Таня Адамович нюхала эфир», следующим высказыванием о Гумилеве: «АА <...> сказала, что при ней Николай Степанович никогда, ни разу даже не упоминал ни об опиуме, ни о прочих таких снадобьях, и что если б АА сделала бы что-нибудь такое (т. е. использовала бы наркотическое средство – Ред.) – Николай Степанович немедленно и навсегда рассорился бы с нею. А между тем, АА уверена, что еще когда Николай Степанович был с нею, он прибегал к этим снадобьям» (Acumiana. С. 137–138; о приеме Гумилевым опиума см. также: Голлербах Э. Из воспоминаний о Н. С. Гумилеве // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 17). И, как кажется, нет никакой причины не воспринимать в буквальном смысле язвительный отзыв З. Н. Гиппиус о совсем молодом Гумилеве в январе 1907 г.: «Двадцать лет, вид бледно-гнойный, сентенции – старые, как шляпка вдовицы, едущей на Драгомиловское. Нюхает эфир (спохватился!)» (Письмо В. Я. Брюсову от 8/21 января 1907 г.; цит. по: Валерий Брюсов. М., 1976. С. 691 (Литературное наследство. Т. 85)). О достоверности слов Гиппиус см. также: Богомолов. С. 118). О том же 1907 г. идет речь в интригующей записке П. Н. Лукницкого: «[Гумилев] написал цикл стихотворений, среди них – «Доктор Эфир», очевидно, утраченное. Дело в том, что в Севастополе Гумилев подарил Анне Горенко несколько стихотворений, в числе которых было и это» (Жизнь поэта. С. 47–48). По-видимому, интерес к эфиру не совсем прошел с молодостью. По свидетельству Ю. П. Анненкова Гумилев снова, хотя бы один раз, принимал эфир и в последний период своей жизни, в революционном Петрограде. Свидетельство Анненкова, представляющее собой любопытный комментарий к жизни большевистской элиты того времени, объективно изображает «извне» то состояние наркоза, которое в «Путешествии в страну эфира» отображается субъективно и изнутри: «В том же году [1919 г. – Ред.], в «Доме Исскуств» на Мойке, поздним вечером, Гумилев, говоря о «тяжелой бессмыслице революции», предложил мне «уйти в мир сновидений».
– У нашего Бориса (Борис Гитманович Каплун, двоюродный брат М. С. Урицкого, был управляющим делами комиссариата Петросовета – Ред.), – сказал Гумилев, – имеется банка с эфиром, конфискованная у какого-то чернобиржевика. Пойдем подышать снами?
Я был удивлен, но не отказался. От Мойки до площади Зимнего дворца было пять минут ходьбы. Мы поднялись в квартиру Каплуна, где встретили также очень миловидную девушку, имя которой я запамятовал. Гумилев рассказал Каплуну о цели нашего позднего прихода. Каплун улыбнулся.
– А почему бы и нет? Понюхаем!
Девушка тоже согласилась.
Каплун принес из другой комнаты четыре маленьких флакончика, наполненных эфиром. Девушка села в вольтеровское кресло, Гумилев прилег на турецкую оттоманку; Каплун – в кресло около письменного стола; я сел на диван чиппендалевского стиля: мебель в кабинете председателя Петросовета была довольно сборная. Все поднесли флакончик к носу. Я – тоже, но «уход в сновидения» меня не привлекал: мне хотелось только увидеть, как это произойдет с другими, и держал флакончик так же, как другие, но твердо заткнув горлышко пальцем.
Раньше всех и не сказав ни слова, уснула девушка, уронив флакон на пол. Каплун, еще почти вполне трезвый, и я уложили девушку на диван.
Гумилев не двигался. Каплун закрыл свой флакончик, сказал, что хочет «заснуть нормальным образом», и, пристально взглянув на Гумилева, пожал мне руку и вышел из кабинета, сказав, что мы можем остаться в нем до утра.
Гумилев лежал с закрытыми глазами, но через несколько минут прошептал, иронически улыбаясь:
– Начинаю грезить... вдыхаю эфир...
Вскоре он, действительно, стал впадать в бред и произносить какие-то непонятные слова или, вернее, сочетания букв. Мне стало не по себе, и, не тревожа Гумилева, я спустился по лестнице и вышел на площадь, тем более что кабинет Каплуна начал уже заполняться эфирным запахом» (Анненков Ю. П. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Нью-Йорк, 1966. С. 103–104).
Понятно, что поразительное внешнее сходство этого эпизода с «Путешествием в страну эфира» – присутствие, помимо самого Гумилева, «миловидной девушки» и еще двоих мужчин, из которых один с меньшим энтузиазмом прибегает к эфиру, а другой, «руководящий», является безучастным инициатором всего происходящего, – привело Г. П. Струве и последующих редакторов, за неимением более конкретных данных, к ошибочной датировке гумилевского рассказа именно 1919-м годом. Сам Анненков уверял, что он не знал о существовании этого рассказа, хотя его дальнейшее объяснение в письме к Струве от 10 августа 1965 г. может вызывать некоторое сомнение в достоверности его памяти: «несколько дней спустя после нашей эфирной ночи, встретившись со мной в Доме искусств, Гумилев, смеясь, сказал, что он непременно напишет об этом «путешествии в мир сновидений», добавив, что, несмотря на такое решение, он отнюдь не собирается снова «нанюхиваться» эфиром» (цит. по: СС IV. С. 588). Напомним, что на самом деле рассказ был уже опубликован за три года до этого, в июле 1916 г.
Но при всем несомненном отношении «Путешествия в страну эфира» к личным обстоятельствам и жизненному опыту писателя содержание этого рассказа, как и более ранних, также несомненно восходит к определенным литературным источникам. В создании произведения, средоточием которого является детальное изображение эффектов некоего наркотического вещества, Гумилев имел по крайней мере трех значительных предшественников. Хронологически первый и самый оригинальный из них – автор «Исповеди англичанина – употребителя опиума» («Confessions of an English Opium Eater», 1821 г.; второе, значительно дополненное и переработанное изд. 1856 г.) Томас де Квинси – по более позднему определению самого Гумилева, – «потайной и в свое время мало оцененный» писатель (ПРП. С. 349), чья «Исповедь», на самом деле, все же оказала значительное влияние на англоязычную литературную традицию и общее культурное сознание позднего романтизма (см. ниже). Истолкователем де Квинси во Франции стал Шарль Бодлер, чей пристальный интерес к наркотическим средствам и состояниям и собственный опыт употребления опиума и гашиша, безусловно, создали внушительный прецедент для увлечений и жизнетворчества многих писателей модернистов, в том числе и Гумилева. Первая из двух частей «Искусственного рая» Бодлера («Les Paradis artificiels», 1858–60, 1864 гг.) посвящается личным соображениям писателя о свойствах гашиша; вторая часть представляет собой, в сущности, детальный пересказ и комментарий к рассуждениям де Квинси об опиуме. О гашише Бодлер писал и десятью годами раньше, в сравнительном очерке «По поводу вина и гашиша (сравниваемых как средства размножения личности)» («Du vin et du hachish: comparés comme moyens de multiplication de l’individualité», 1851 г.; часть материала вошла затем в «Искусственный рай»); и тут, помимо де Квинси, у него был и отечественный предшественник. Непосредственно до него о гашише также писал другой излюбленный Гумилевым французский писатель Теофиль Готье, чей «Клуб гашишистов» («Le Club des Hashischins», 1846 г.) в том же 1851 г. Этому произведению предшествовали две более короткие прозаические вещи Готье, как о гашише («Гашиш» – «Le hachisch», 1843 г.), так и об опиуме («Трубка опиума» – «La Pipe d’opium», 1838 г.). Выбрав предметом своего рассказа эфир, а не опиум или гашиш, Гумилев, как будто, сознательно обособился от своих предшественников, обеспечивая таким образом свой собственный, новый вклад в литературу «наркомании» (об эфире, как кажется, до него никто так не писал). Но он тем не менее существенно опирался на их литературный опыт.
В «Путешествии в страну эфира» содержатся отголоски всех перечисленных произведений (см. построчные комментарии); подлежит некоторому сомнению лишь вопрос о том, знал ли Гумилев де Квинси в то время непосредственно или «опосредованно» Бодлером. Текст рассказа позволяет предположить, что Гумилев был знаком и с другими произведениями западной литературы, в которых наркотикам была уделена более или менее значительная сюжетная роль. Но не удивительно, что «Путешествие в страну эфира» более всего навеяно именно Готье, свои стихотворные переводы которого Гумилев выпустил отдельной книжкой в том же 1914 году (Готье Т. Эмали и камеи. Пер. Н. Гумилева. СПб., 1914). Что касается прозы Готье, то он достаточно хорошо знал ее, чтобы даже порекомендовать Ахматовой заняться ее переводом (Acumiana. С. 96; возможно, что «Клуб гашишистов» нашел более поздний отзвук в ее «Поэме без героя» – см.: Тименчик Р. Д. Портрет Владыки Мрака в «Поэме без героя» // Новое литературное обозрение. 2001. № 52. С. 200), а в создании «Путешествия в страну эфира», как кажется, опирался прежде всего (но отнюдь не исключительно) на сравнительно малоизвестную вещь Готье, «Трубка опиума».