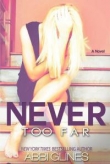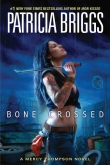Текст книги "Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 6. Художественная проза"
Автор книги: Николай Гумилев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 44 страниц)
6
Весна. 1908. № 3.
ТП, СС IV, ТП 1990, ЗС, Проза 1990, СС IV (Р-т), Соч II, СС 2000, ТП 2000, АО, Проза поэта, Мистика серебряного века, Кодры. 1989. № 4.
Дат.: март – не позднее августа 1908 г. – по письму к Брюсову (см.: ЛН. С. 472) и времени публикации.
В письме из Парижа от 7 марта 1908 г. (н. ст.) Гумилев сообщил Брюсову, что он пишет «философско-поэтический диалог под названием «Дочери Каина», смесь Платона с Флобером, и он угрожает затянуться». «Когда кончу, – продолжил он, – непременно пошлю Вам» (ЛН. С. 472). Окончательный текст рассказа мало соответствует такому описанию (см. ниже), и можно поэтому предположить, что работа над ним действительно «затянулась» – тем более что, возможно, к марту 1908 г. «Дочери Каина» и так уже достаточно долго «вынашивались»: не исключено, что первоначальный замысел рассказа восходит к началу предыдущего, 1907 г., когда чтение «старинных французских хроник и рыцарских романов» подвигнуло Гумилева к идее создания «модернизированной повести в стиле тринадцатого или четырнадцатого века». По-видимому, более или менее непосредственным плодом этого был рассказ «Золотой рыцарь», с которым «Дочери Каина» генетически связаны не только тематически, но по общему источнику и в другом «круге чтения» (романы Вальтера Скотта см. ниже и в комментарии к № 5). Об обещанной присылке «Дочерей Каина» Брюсову ничего не известно, и дата завершения рассказа не подлежит точному фиксированию. Он появился в печати в третьем номере «нового» журнала, «Весна» (помеченном августом 1908 г.).
«Дочери Каина» – один из наиболее загадочных и, вместе с тем, тематически «ключевых» рассказов раннего Гумилева. В его узких пределах сосредоточены главные линии гумилевской прозы этих лет: та религиозная, эстетическая и любовная тематика, которая в других произведениях, как правило, трактуется раздельно. Сведены вместе центральные для других рассказов вопросы о природе красоты и греховности; соотношении этики и эстетики, земного и небесного; истоках любви и власти сексуального влечения; значении веры, причинах и последствиях ее потери. Одновременно затрагиваются и такие значимые для Гумилева-прозаика темы, как рыцарство (в совершенно другом освещении, нежели в «Золотом рыцаре»), «утро мира» (ср. «Гибели обреченных» и, отчасти, «Принцессу Зару»), происхождение искусства (ср. «музыкальную» тему «Скрипки Страдивариуса»), поиски «ослепительного счастья» («сакрального» времени и пространства), тема путешествия как инициационного мифа (об этом см.: Обухова О. Ранняя проза Гумилева в свете поэтики акмеизма // Гумилевские чтения 1996. С. 120–125).
В первой, по преимуществу описательной западной статье, посвященной гумилевской прозе, Э. Сампсон отметил, что «Дочери Каина» основаны на «тонкой коллизии земной любви и Богом внушенной женской непорочности – конфликте чувственного и духовного, являющемся одним из основных стержней [гумилевской] лирики» (Sampson E. D. The Prose Fiction of Nikolaj Gumilev // Berkeley. P. 273). Однако такой тонкий знаток гумилевского творчества, как Р. Л. Щербаков, по-видимому, не был склонен приписывать сколько-нибудь существенное значение рассказу, который он прежде всего рассматривал как модернистскую стилизацию: сюжет, как он констатировал, был построен в духе апокрифических легенд о Каине, «но акцент в нем сделан не на мистической стороне мифов, не на проникновении в психологию действующих лиц, а на экзотике декораций, на эстетике описаний» (Соч II. С. 429).
Более пространный анализ рассказа дал М. Баскер, который усмотрел в нем «наличие большой фантазии», особую «глубину мысли... художественно оправданные «неожиданность» и таинственность»: «Рассказ «Дочери Каина» показывает, что избранники и мудрецы – резко отличающиеся от прочих детей Адама, Каин и все те, кто впоследствии умышленно приезжает поклоняться его дочерям, – не способны жить в беспечности и веселье, ибо им открывается некий конечный предел несовместимости красоты и непорочности в условиях земного существования, ужасающее душу осознание недосягаемости для наивысшей человеческой мудрости той «внежизненно» чистой, непревзойденной красоты, сама возможность которой лишь только такой мудростью и постигается. Эта красота и прискорбно «недовоплощаема», ибо в воплощении она была бы не защищена от греха и не могла бы уцелеть.
Земному человеку-мудрецу не дано не только овладеть ею, но даже неподвижно-сосредоточенно созерцать ее в неизменности; и от этого его жизнь лишается смысла. Пожалуй, <...> «богоборческое» осознание исходящей из этого высшей несправедливости мироустройства также усугубляется смутным воспоминанием-ощущением «естественного», изначального родства не только красоты и безгрешности, но и (безгрешной) красоты и мудрости» (именно в этой последней связи исследователь воспринимает тему Каинова кровосмешения) (Баскер II. С. 153, 150–152).
Баскер сопоставляет с «Принцессой Зарой» изображение окончательной участи героя рассказа, «которому в сущности все тот же урок о несовместимости красоты и непорочности раскрывается в гораздо более обобщенной, далеко идущей философской форме, чем воину с озера Чад». В отличие от африканского воина, «ему не дано сравнительно легкое, внезапное избавление (т. е. самоубийство – Ред.), хотя ни перспектива смерти, ни любая, даже самая страшная опасность его больше не трогает, и физическая борьба его не привлекает. <...> Ранее стремившись к «освобождению гроба Господня», он сам попадает в духовный плен у гроба наказуемого «мстительным Богом» великого грешника Каина; и <...> невольно приобретенная мудрость приводит его через отчаянное проклятие себя и всего мира к полному внутреннему «окаменению». Хоть он и должен вернуться в мир (отосланный от таинственного грота в жестоко ироническом обороте темы о «благосклонности дам»), он сам становится «не живой и не мертвый», чуждается всего и всех, <...> относится с совершеннейшим равнодушием к добру и злу, <...> и, навсегда отвернувшись от возможности искупления, умирает без причастия. Этим кончается одно из наиболее мрачных <...> из всех произведений Гумилева» (Баскер II. С. 152–153).
Новое поколение гумилевоведов тоже было склонно рассматривать «Дочерей Каина» на фоне других вещей Гумилева. С. Н. Колосову, обратившую внимание на демоническую тематику рассказа, интересовала и сама «контекстуальная динамика» гумилевского творчества: «...фабула об искушении художника дьяволом является <...> событийным стержнем новеллы «Дочерей Каина» (1907), ст-ний «Волшебная скрипка» (1908), «Потомки Каина» (1909). Однако если в «Балладе» цикла «Романтических цветов» и в новелле «Скрипка Страдивариуса» фабула восстанавливается полностью, то в других произведениях за основу берется и разрабатывается лишь ее часть, а остальной материал оказывается в подтексте и звучит как своеобразный аккомпанемент, создаваемый абсолютно достоверно повторяемыми деталями. Сюжет не просто повторяется, а, привнося новые детали, расширяется и образует новые ассоциативные ряды» (Колосова. С. 11–12). Д. Грачева акцентировала внимание скорее на человеческом, чем на демоническом, и подходила к рассказу с точки зрения не искусства, а «власти желания над человеком» (см. ниже, в построчном комментарии). В таком контексте она усматривает в «Дочерях Каина» своего рода инверсию «Радостей земной любви» и предвосхищение одного из постулатов акмеизма: «акцент здесь поставлен на размышлении не о земной любви, а о неземной, на том, к чему приводит стремление приблизить непознаваемое. Дочери Каина – идеал красоты (не случайно их семеро, но они едины, и они порождение “отца красоты и греха”).
И сам Каин, и сэр Джемс (люди, принадлежащие к разным историческим мирам), соприкасаясь с дочерьми Каина, теряют покой навсегда, и каждый становится “не живым и не мертвым”. Воплощающие идеал “отгорожены” от мира, вынесены в “синкретическое” время, так как “тайна должна оставаться тайной”, идеал должен быть недосягаем. <...> Сама природа непознаваемого оберегает себя и губит того, кто к нему прикасается, стремясь разрушить, сделать доступным.
Любовь к непознаваемому, неземному, лишает покоя и после смерти (сэр Джемс умирает, “не захотев причаститься, зная, что ни в каких мирах не найти ему забвение семи печальных дев”). Земная любовь делает человека и его чувство бессмертным (уход в другой мир Кавальканти ничего не меняет в его отношении к Примавере, потому что такая любовь оказывается сильнее смерти). Таким образом, “Дочери Каина” можно прочитывать как художественную реализацию одного из важнейших постулатов гумилевского манифеста: “Вся красота, все священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли...”» (Грачева Д. Тема любви в рассказах Н. Гумилева «Радости земной любви», «Дочери Каина», «Принцесса Зара» // Русская филология. 15. Сборник работ молодых филологов. Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2004. С. 91–92).
Сочетание известных интерпретационных трудностей с очевидной разнородностью включенного в рассказ материала (история рыцаря-крестоносца, изображение первобытного мира природы, легенда о Каине и его дочерях), естественным образом побуждало исследователей к попыткам идентификации его возможных литературных источников и жанровой принадлежности (о библейских апокрифических источниках см. ниже). Однако эта задача значительно осложняется тем, что Гумилев, по всей видимости, в данном случае особенно своеобразно-оригинально переработал «заимствованное». На настоящий момент эта «работа по источникам» далеко не завершена.
По мнению М. Баскера, некий «общий литературный фон» для создания «Дочерей Каина» предоставляли романы Вальтера Скотта «Талисман» и (в меньшей степени) «Айвенго», выполнявшие ту же функцию в отношении «Золотого рыцаря». Влияние Скотта проглядывается, во-первых, в некоторых деталях изображения второстепенных или эпизодических персонажей: Ричарда Львиное Сердце, «алчного» тамплиера, может быть, и принца Иоанна (см. ниже в построчном комментарии). «В более определенном плане, – отмечает исследователь, – в третьей главе «Талисмана» содержится длительное описание путешествия главного героя, молодого доблестного крестоносца из рядов короля Ричарда, «среди скал и пропастей, каменистых и опасных ущелий», где-то в Иордании. Топография и атмосфера этого путешествия, в котором герой Скотта, шотландский рыцарь сэр Кеннэт, сопровождается сарацином, чтобы проведать таинственного отшельника, весьма близки к повествованию Гумилева об одиноком вечернем походе сэра Джемса по узкой тропинке «над пропастями» в «хмурые», скалистые, обволакивающиеся «сырым туманом» горы Ливана. У Скотта: «Острые, скалистые выступы начали возвышаться над ними, и вскоре глубокие расщелины и подъемы, устрашающие по своей высоте и труднопроходимые из-за узости тропинок, поставили перед путешественниками препятствия совершенно иного рода, чем те, которые им так недавно приходилось преодолевать. Темные пещеры и пропасти между скал – те гроты, которые так часто упоминаются в Священных Писаниях, – угрожающе зияли с обеих сторон, <...> и шотландский рыцарь был осведомлен эмиром о том, что они часто являются прибежищем хищных зверей...» Подобным образом гумилевскому сэру Джемсу «вспоминались страшные рассказы о чудовищах, еще населяющих эти загадочные горы».
У главных героев обоих произведений постепенно усиливается ощущение того, что Скотт называет mysterious dread («таинственным ужасом»), а Гумилев – «темным, слепым ужасом». Крестоносец Скотта осознает, что он находится в той пустыне, где искушался Христос, и, в свою очередь, заявляет своему путнику, что «эти скалы, эти пещеры с их мрачными арками, ведущие как будто бы к центральной бездне, – считаются излюбленным местом обитания Сатаны и его ангелов». И поэтому совсем не удивительно, что появление отшельника в тускнеющем свете, «дикого и волосатого», напоминает ему если не совсем пещерного медведя, встающего, словно живой утес, <...> то, по крайней мере, некоего инфернального духа.
Однако сопровождающий его сарацин гораздо меньше проникнут трепетным страхом. Подобно сэру Джемсу в самом начале пути, <...> он весело поет – и повествует о своем собственном происхождении от Темного Духа. И здесь включается рассказ о семи девах, «семи сестрах, таких красивых, что они казались семью гуриями». Эти сестры, которые были взяты в плен и приведены как жертвоприношения во дворец злого тирана, являются дочерьми мудреца, поклонника «того, кто именуется Источником Зла», не имевшего «никаких сокровищ, помимо этих красавиц и своей мудрости»: «Старшей еще не миновало двадцати лет, младшей еще едва ли исполнилось тринадцать; и так они были похожи друг на друга, что их нельзя было различить, как только по росту, – они постепенно возвышались одна над другой, подобно подъему, ведущему к вратам рая. И такими прекрасными были эти семь сестер, стоящие во мраке темного свода, облаченные лишь в длинном, легком одеянии из белого шелка, что их очарование тронуло сердца бессмертных». Семь безмолвных, облаченных в белое фигур молодых и «странно прекрасных» дочерей <...> мудреца и богоотступника Каина, стоящих неподвижно на страже вокруг мраморной гробницы <...> и безнадежно вспоминающих о «навеки покинутом счастьи земли», тронули (в рассказе Гумилева – Ред.) сердца если не «бессмертных», то полубогов – Зороастра, Орфея, и дивно могучего юноши – погружая их в глубочайшее отчаяние <...>.
Вероятность того, что «Талисман» Скотта оказал непосредственное влияние на замысел гумилевского рассказа <...> усиливается еще тем, что в обиталище отшельника у Скотта (которое, как и у Гумилева, неоднократно называется «гротом») перед сэром Кеннэтом предстает как будто бы мистическое видение: на этот раз не семи женских фигур, а двух групп из шести – первая в черном, вторая в белом (гл. 4). Как и у дочерей Каина, глаза этих прекрасных существ остаются опущенными в суровом созерцании; но, тем не менее, одной из дев, одетых в белое, удается, подобно гумилевской Лие, намекнуть о каком-то особом благорасположении. В обоих произведениях рыцарь преданно преклоняется перед непостижимым женским существом (или существами), и его душа охватывается мраком, по мере того как они овладевают его мыслями» (Баскер II. С. 146–148).
Значительный вклад в работу по источникам «Дочерей Каина» косвенно внесла Е. Ю. Раскина, указавшая в своей статье о «Скрипке Страдивариусе» на значение для Гумилева «Истории о Царице Утра и о Сулаймане, повелителе духов» Жерара де Нерваля. В одном из центральных эпизодов этой новеллы (цикла рассказов) Хирам-Адонирам, архитектор Соломона и строитель Храма, будучи не в силах претворить в действительность весь свой грандиознейший творческий замысел и поссорившийся из-за этого с Соломоном, видит сон, в котором ему открывается его наследие и истинная «миссия» на земле. По пересказу Е. Ю. Раскиной, «ему является Тувал-Каин, один из сыновей Каина, который (как и Люцифер во сне Паоло Белличини в «Скрипке Стадивариуса») называет себя художником и отцом всего прекрасного. <Тувал->Каин уводит Хирама за собой по темным лабиринтам, к подземному центру земли, где живет племя титанов, потомков Каина. Сам Каин предстает перед Хирамом как печальный и ослепительно красивый, изнуренный скорбью старец». Тувал-Каин называет Хирама своим преемником, – избранником, отличным от основной расы человечества, и тот возвращается на землю с новыми знаниями, чтобы продолжить свое «огненное» строительство (см.: Раскина. С. 172). В новелле Ж. де Нерваля не говорится отдельно о «дочерях» Каина (хотя большое внимание уделено «детям» патриарха, которые наказаны своим одиночеством, и главным грехом которых, в их презрении к людям и противлении Богу, является гордыня); к тому же, Раскина сосредоточивается всецело на сопоставлении «Истории о Царице Утра...» со «Скрипкой Страдивариуса» (см. № 10 и комментарии к нему). Однако как, например, это происходило и с романами В. Скотта, и с романами Р. Хаггарда в творчестве Гумилева, значение одного и того же «претекста» оказывается актуальным для двух или более его рассказов, а созданные таким образом интертекстуальные связи безусловно способствуют общей семантической «нагруженности» его прозы. С этой точки зрения представляется весьма вероятным, чтобы сюжет «Истории о Царице Утра...» сыграл свою роль и в «творческой истории» «Дочерей Каина».
Некоторое исходное значение для гумилевского рассказа о Каине также могли иметь великолепно-безжалостное ст-ние Бодлера «Каин и Авель», которое Гумилев с изумительной силой перевел в по-революционные годы (см.: БП. С. 476–477), и мистерия Байрона «Каин» (см. ниже). Как будет указано в построчных комментариях, в тексте рассказа улавливаются переклички и с весьма пестрым рядом других литературных и, шире, культурных текстов: от произведений Ницше или первой (и самой знаменитой) французской «Истории Грааля» Кретьена Де Труа (также проглядывающей в «Золотом рыцаре»: см. № 5, стр. 56–61 и комментарии), – до романа Райдера Хаггарда «Она» или «Тайной доктрины» Е. П. Блаватской. Здесь, однако, прежде чем перейти на рассмотрение библейских и не-литературных источников, относящихся к образу Каина, уместно коротко останавливаться лишь на вопросе о возможном жанровом определении гумилевского рассказа. К критическим размышлениям по этому поводу подводят слова автора о намерении построить «философско-поэтический диалог <...> смесь Платона с Флобером» (хотя не исключено, что эту характеристику следует воспринимать скорее лишь эмблематически, как указание на опыт сочетания философии с экзотикой). С Платоном, как будто бы, ничего общего в «Дочерях Каина» не намечается, однако, по мнению Р. Д. Тименчика, здесь «заметно влияние повести Г. Флобера “Легенда о святом Юлиане Милостивом”» (ЛН. С. 472). На уровне сюжета, по мнению М. Баскера, «лишь окончательная судьба того дивно могучего юноши, который “...среди прокаженных влечет остаток своих дней”, несет в себе отпечаток добровольного подвига героя “Легенды о св. Юлиане Милостивом”» (Баскер II. С. 144), но следует добавить, что С. Н. Колосова обращает внимание и на большое значение для Гумилева самого понятия «легенды», – «ее сюжетообразующей функции, формы, яркой образности, «сгущенности», семантики». (Именно в силу этого, утверждает Колосова, «разные по жанровой структуре произведения, которые, однако, имеют одну сюжетную основу, <...> представляют собой как бы единое художественное целое, например <...> ст-ние “Волшебная скрипка” и новелла “Скрипка Стадивариуса”, ст-ние “Потомки Каина” и новелла “Дочери Каина”» (Колосова. С. 13–14).) В этом отношении, по-видимому, возможное влияние «Легенды» Г. Флобера подлежит более подробному рассмотрению.
Другой подход к жанровому определению «Дочерей Каина» позволяет наметить несомненная связь рассказа с произведениями Эдгара По. Как установила И. Г. Кравцова, Анна Ахматова еще в 1920-е гг. указала на перекличку «Дочерей Каина» со «Сказкой извилистых гор» Э. А. По, заключавшуюся прежде всего в сходных описаниях походов в унылые, скалистые горы (см.: Кравцова И. Г. Н. Гумилев и Эдгар По: Сопоставительная заметка Анны Ахматовой // Н. Гумилев и Русский Парнас. С. 51). Но помимо отголосков этого и других произведений американского писателя (см. ниже), в критической литературе о «Дочерях Каина» указывалось и на общее сходство в развертывании гумилевского повествования с «архисюжетом» По: «о путешествии (физическом или умственном) куда-то вдаль от реального мира, заканчивающемся ослепляющим видением красоты, которая одновременно является откровением и пагубным разрушением (разложением, безумием, смертью)». М. Баскер приводит в этой связи и предположение К. Д. Бальмонта о том, что По создал уникальный литературный жанр – «философской сказки» – для воплощения своих своеобразных прозрений: «Никто не знал до <Э. По>, – пишет Бальмонт – что сказки можно соединить с философией, он слил в органически-цельное единство художественные настроения и логические результаты высших умозрений, <...> и создал новую литературную форму, философские сказки, гипнотизирующие одновременно и наше чувство, и наш ум. Метко определив, что происхождение поэзии кроется в жажде более безумной красоты, чем та, которую нам может дать земля, Эдгар По стремился утолить эту жажду созданием неземных образов» (Бальмонт К. Д. Гений открытия // Вступительная статья к кн.: По Э. А. Собрание сочинений. Т. I. М., 1901)). «Может быть, – предполагает исследователь, – и Гумилев в «Дочерях Каина» <...> стремился именно к «слиянию» своего разнородного материала в цельную форму не «философско-поэтического диалога» <...> а, по определению Бальмонта, «философской сказки» в духе Эдгара По» (Баскер II. С. 150–151).
Бесспорный и самый главный «первоисточник» гумилевского рассказа – краткую, во многом трудную для понимания библейскую историю о Каине и Авеле (Быт. 4:1–17) – приходится рассмотреть в совокупности с великим множеством ее различных толкований и трактовок.
В Библейском тексте сыновья Адама и Евы, «Авель пастырь овец, а Каин... земледелец», оба приносили Господу жертвы: Каин – от первых плодов земли, Авель – от первородных стада своего. «И призрел Господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его» (Быт. 4:5). Позвав Авеля в поля, Каин его убил (согласно некоторым позднейшим версиям – камнем: ср. Мифологический словарь. С. 269–270). Тогда Господь проклял Каина «от земли» и прогнал его от себя, обрекав его стать «изгнанником и скитальцем на земле» (не исключено, что в словах Каина: «Вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я сокроюсь» (Быт. 4:14) содержится намек на то пребывание под землей, в пещерах, которое впоследствии встречается не только в рассказе Гумилева). Чтобы никто из встретившихся с Каином не убил его, Бог отметил его особым знаком. Каин «поселился в земле Нод, на восток от Едема» (Быт. 4:16), и «построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох» (Быт. 4:17).
В христианской богословской традиции предполагается, что жертвоприношение Каина было не принято Богом оттого, что оно оказалось «недолжным»: Каин, в отличие от Авеля, принес свою жертву без надлежащего старания и разбора. Каин, разъясняет св. Августин, принес Богу часть своего добра, но не принес Ему своего сердца (De Civitate Dei. XV. 7): в таком же духе истолковывают библейский текст такие святоотеческие мыслители, как преподобный Ефрем Сирин и Иоанн Златоуст. Подытоживая «церковное» восприятие Каина в целях анализа другого, близко связанного с «Дочерями Каина» «ветхозаветного» произведения Гумилева, – ст-ния «Потомки Каина», – Ю. В. Зобнин писал: «Каин был слишком увлечен переживаниями «земной» жизни, настолько увлечен, что в конце концов перестал различать иерархию ценностей <...> перенеся большую часть внимания с «небесного» на «земное». Каин «не поднимал лица» к небу даже и «делая доброе» (ср.: Быт. 4:7 – Ред.), не в силах оторваться от «земных» удовольствий. [Он] окончательно утратил интерес к общению с Богом, предпочитая заниматься тем, что составляло злобу его дня (любопытно, что само имя Каина связывается с глаголом qaneh – «покупать, приобретать», так что образ Каина может быть дополнен весьма существенной чертой – это первый «приобретатель» в истории человечества <...>). Вот в этом-то чрезмерном жизнелюбии и заключается причина порочности первенца Адама, а братоубийство является уже частным проявлением ее» (Зобнин. С. 163; добавим, что у Гумилева «частное проявление» братоубийства – так же несущественно для «Дочерей Каина», как и для ст-ния «Потомки Каина»).
С такой же позиции религиозными мыслителями воспринимается постройка Каином первого города и библейское перечисление его потомства и рода их занятий (в седьмом поколении упоминаются Иавал, «отец всех живущих в шатрах со стадами»; Иувал, «отец всех играющих на гуслях и свирели»; и Тувалкаин, «который был ковачом всех орудий из меда и железа» (Быт. 4:20–22)). Иными словами, Каин и его «жизнелюбивые» потомки были основателями человеческой цивилизации, ее материальной и социальной культуры: «основоположниками ремесел и искусств, создавших на земле иную, «альтернативную» райской человеческую жизнь» (Зобнин. С. 163). И хотя в основе этой деятельности лежит все тот же грех – человек забывает о Боге, отворачивается от него во имя земных «благ» и своих собственных интересов, но это влечет за собой все другие пороки. Для Филона, например, «город» Каина воспринимался метафорически, как обозначение того, что Каин – воплощение себялюбия – «построил доктрину беззакония, дерзости, непомерного стремления к наслаждению» (De Posteritate. 15; см. также: De Sacrifices Abelis et Caini; Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat. 10). Для многих комментаторов изобретение Иувала – музыка – представляла собой властную «соблазнительную» силу, и поэтому была сатанинского (не-божественного) происхождения; дьявольские ассоциации также исконно носило связанное с Тувалкаином кузнечное дело. Последовательным, хоть и крайним развитием подобных трактовок является раввинское учение о том, что: «Семь поколений Каина, как выводки Сатаны, представляют собой прообразы бунтовщиков. <...> От Каина происходили все творящие зло, восставшие против Бога, извращения и развращенность которых явились причиной потопа; они в бесстыдстве совершали всякие омерзения и (что особенно примечательно в контексте «Дочерей Каина» – Ред.) кровосмесительные преступления» (The Jewish Encyclopaedia. New York, 1901–1906. Vol. 1. P. 493–494).
Если буквально интерпретировать библейскую историю, то в потопе, ниспосланном Богом в его раскаянии, что «создал человека на земле» (Быт. 6:6), погиб весь род Каина. Уцелели только Ной и его племя, – а Ной, «человек праведный и непорочный в роде своем» (Быт. 6:9), был потомком не Каина, а Сифа – сына, дарованного Богом Еве «вместо Авеля, которого убил Каин» (Быт. 4:25), и, соответственно, прародителя всего послепотопного человечества. Однако по многим апокрифическим и позднейшим литературным версиям, так или иначе выжили некоторые потомки Каина (а иногда и сам Каин): то в уединении от мира, то – как, пожалуй, и в гумилевских «Потомках Каина» – распространились по всей земле, снова вытесняя с нее праведников (ср.: Зобнин. С. 163–168).
Для оценки гумилевского рассказа не менее важно, что существует и противоположное отношение к Каину-земледельцу, имевшее свои корни в примитивной традиции, согласно которой «всякое ремесло и искусство <...> связывались с магией. У древних евреев к этому кругу ремесла – искусства магии – относилось, по-видимому, и земледелие» (Мифологический словарь. С. 269). С этой точки зрения Каин был и «отцом магии» и – шире – источником всех сокровенных знаний и тайных эзотерических наук: воплощением наивысшей человеческой мудрости.
Яркий пример такой «переоценки ценностей» представляет собой учение возникшей во II веке н. э. гностической антиномистской секты каинитов (являвшейся своего рода развитием секты офитов). Они считали Каина одним из высших эонов: созданием духа более высокого, чем «бог-демиург», «злой творец земли», чей мир был создан так, чтобы препятствовать воссоединению божественного в человеке с совершенным, но непознаваемым Богом. Каиниты поклонялись Каину как носителю эзотерических, спасательных знаний (гносиса), несправедливо караемому ревнивым, иррациональным Творцом. Отрицая при этом традиционную мораль и законность, они отвергали некоторые основополагающие христианские догматы – в том числе о воскресении мертвых. По описанию св. Иринея Лионского, «спасение по их мнению невозможно до тех пор, пока человек лично не испробовал всего. И с каждым греховным и непотребным делом связан некий ангел, который слышит их слова и поощряет к совершению наглого и нечистого акта. Значимость каждого свершенного действа они скрепляют обращением к ангелу: «О, ангел! Я завершаю твою работу. Я довожу ее до конца». Согласно их доктрине, совершенным гносисом является бесстрашное исполнение таких действий, которые не позволительно даже упоминать» (Irenaeus. Adv. Haer. I. 31. 2) А по более простому наблюдению Тертуллиана, каиниты «...славили Каина за ту силу, которая заключена в нем. Напротив, Авель был произведен низшей силой. Те, кто утверждал это, славили также и Иуду предателя, поскольку он принес многие блага человеческой расе... “Иуда, – говорят они, – заметив, что Христос собирался отказаться от истины, предал его, чтобы истина не была низвергнута”» (Tertullian. Adv. Omn. Haer. 2; у каинитов было свое собственное «Евангелие от Иуды»).
Сходные взгляды встречаются, начиная с эпохи романтизма, в хорошо знакомой Гумилеву западной оккультной и литературной традиции. Так, например, французский оккультист Элифас Леви считал «город» Каина Енох «иероглифической книгой», первоисточником «всех тайн и всех знаний», приравнивал Еноха (сына) к Гермесу Трисмегисту, основателю оккультных наук, и утверждал в этой связи, что «Библия дает человеку два имени, первое – Адам, означающее: извлеченный из земли, человек земли; второе – Енос, или Енох, означающее человека божественного, возвысившегося до Бога» (Levi E. Dogme et Rituel de la Haute Magie (1886), цит. по: Ранний Гумилев. С. 137; 152–153). Учение об отдельной, верховной человеческой расе «каинитов» содержится и в масонской легенде, отображаемой в вышеупомянутой «Истории о Царице Утра и о Сулеймане, повелителе духов» Жерара де Нерваля. Эзотерическое масонство разделяет человечество на сыновей Авеля (или Сифа), и сыновей Каина; а Каин, первенец Евы, как считается, родился от люциферианского духа Самаэля, зачавшего сына до его изгнания с небес Иеговой. Только после этого был создан Адам. Таким образом, Авель родился от человеческих родителей, а Каин являлся полубожественным сыном огня или огненного духа. Каиниты, содержащие в себе искру божественного, являются творчески одаренными изобретателями. Они агрессивны, прогрессивны, обладают большой инициативой, но нетерпимы по отношению к любому ограничению или авторитету, будь то человеческому или божественному (см.: Heindel Max. Freemasonry and Catholicism. 8th edn. Oceanside, California, 1977. P. 18–21). Для «ортодоксального» масонства конец истории представляется воссоединением сыновей Каина и Авеля в царстве братской любви и мира. Однако у Нерваля, как и у большинства романтиков, затрагивающих «каинитскую» тематику, ярко выражено как презрение к смиренно пассивным, довольным своей участью потомкам Авеля (или Сифа), так и открытая симпатия к мудрому, «непослушному», вечно к чему-то стремящемуся Каину, – по вышеприведенным словам Тертуллиана «за ту силу, которая заключена в нем». Богоборческая нота особенно подчеркнута в таких произведениях, как «Каин» Байрона, о непосредственном значении которого для Гумилева свидетельствует явная перекличка первых реплик Евы и Каина (в переводе И. Бунина 1905 г.: «Плод древа запрещенного созрел <...> / Что ж, змий не лгал! Дало же древо знанье; / Другое – жизнь дало бы. Жизнь есть благо, / И знание есть благо. Как же может / Быть злом добро?») с началом ст-ния «Потомки Каина» («Он не солгал нам, дух печально-строгий...» (№ 160 в т. I наст. изд.). Некоторые более отдаленные отзвуки указывают на возможное влияние этой вещи и на «Дочерей Каина» (см. ниже). И все же не исключено, что молодой Гумилев в своем рассказе, так же как и в «Потомках Каина», своеобычно пересматривает подобную «богоборческую традицию» и, отчасти, отказывается от столь привлекательного (и привлекавшего его) «каинитского наследия».