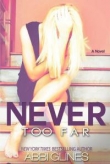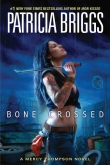Текст книги "Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 6. Художественная проза"
Автор книги: Николай Гумилев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 44 страниц)
На таком мрачном «психологическом фоне» и создавался «Лесной дьявол»; отсюда и его «специфическая» тематика «сомнения в невинности невесты», присутствующая также и в «Принцессе Заре» (см. № 9 наст. тома и комментарии к нему), но достигающая здесь предельного – на грани патологической болезненности – «заострения».
Как уже говорилось, свидетельств об истории создания рассказа практически нет. В комментариях к Соч II Р. Л. Щербаков высказывал предположение, что стиль «Лесного дьявола» дает возможность соотнести время его создания с письмом к Брюсову от 14 июля 1908 г., в котором Гумилев, говоря о Леконте де Лиле, отмечает, что ему «нравится... манера вводить реализм описаний в самые фантастические сюжеты»: «Во всяком случае, в рассказе применен именно такой прием. Реалистически выписанный фон, на котором развивается действие, дал основание В. Рождественскому заметить, что в «Лесном дьяволе» «есть живая Африка, по которой сам автор когда-то странствовал, и не однажды» (имеется в виду упомянутая во вступительной заметке к комментариям рецензия В. А. Рождественского на ТП (Книга и революция. 1923. № 11–12. С. 63 [подп. В. Р.]) – Ред.). Думается, такой Африки там как раз и нет, а есть правдоподобная декорация, которая для европейца выглядит именно так, как он и ожидал. Зачарованный псевдореалистической картиной, читатель с большим доверием воспринимает фантастический сюжет. <...> «Лесной дьявол» – еще ученический рассказ, в значительной степени он сделан под Майн-Рида, которого Гумилев очень любил... Но «Лесной дьявол» далеко не «проба пера». В частности, можно отметить, как точно меняется ритм повествования, персонажи которого находятся в экстремальных условиях. Спешит найти целебную траву павиан, несколько выигранных мгновений спасают девушку от мучительной казни, лихорадочно ищет убедительные доводы Ганнон... И в зависимости от ситуации Гумилев то замедляет действие, нагнетая ожидание развязки, то ускоряет его, создавая ощущение стремительности событий» (Соч II. С. 430). Впрочем, современные Гумилеву критики и читатели этого не оценили – никаких откликов на журнальную публикацию «Лесного дьявола» не было. Правда, рассказ «очень понравился» А. М. Ремизову (см.: Соч II. С. 430), и, возможно, именно его имел в виду С. К. Маковский, когда замечал в мемуарном очерке: «Как ни настраивал себя Гумилев религиозно... есть что-то безблагодатное в его творчестве. От света серафических высей его безотчетно тянет к стихийной жестокости творения и к первобытным страстям человека-зверя, к насилию, к крови, к ужасу и гибели» (Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 66).
В современном гумилевоведении «Лесной дьявол» также занимает весьма скромное место. Как один из первых примеров возникновения в раннем, «декадентском» творчестве Гумилева мотивов христианского натурфилософского персонализма с его учением о «животной» плоти, поврежденной первородным грехом, мотивов, ставших впоследствии философским смысловым средоточием рассказа «Африканская охота», рассматривает этот рассказ в своей монографии Ю. В. Зобнин: «За киплинговскими зоофилическими ужасами в духе «Бими» (рассказ Р. Киплинга о мести ручной обезьяны, влюбленной в собственного хозяина – Ред.) здесь ясно ощущается вполне гумилевское желание христианского «натурфилософского» оправдания «чистого» плотского, животного начала, обращающегося в «звере» в ужасное и безобразное «неистовое бешенство желаний» (обезьяна в христианской «бестиарной» символике была одним из обозначений ненасытного и извращенного блуда): смерть зверя, а затем и посмертная «казнь» его уничтожает собственно «зверство», как бы «очищает» пораженную греховной похотью плоть – остается нечто, вызывающее сострадание» (Зобнин. С. 236). «Звери Гумилева в сущности похожи на зверей древнерусской каменной резьбы, – пишет о том же, но под несколько иным углом зрения И. Ерыкалова. – В рассказе «Лесной дьявол», обратившись к древней истории Африки, временам Ганнона Карфагенского (V в. до Р. Х.), поэт описывает историю гибели отравленного павиана у ног похищенной им карфагенской девушки. Столкновение мира зверя и мира человека поначалу лишено мистического содержания. <...> Блистательно описание нечеловеческих чувств и мыслей павиана. В последнем эпизоде невеста великого Ганнона дарит поцелуй мертвой голове зверя. Этот поцелуй забирает живую силу ее любви. Он приносит в рассказ тот мистический ужас, который порой пронизывает [в творчестве Гумилева] мир Африки. Образы зла в рассказах Гумилева приоткрывают своеобразие его мировосприятия: ощущение постоянно борющихся в мире сил добра и зла. И зло чаще всего связано с образом зверя. Это не конкретный зверь – носорог, жираф или слоненок. Это мистический зверь, воплощение дьявола, звериных сил в человеке, противостоящих свету христианства. Если живой павиан явно одушевлен автором, то мертвая голова его – воплощение дьявола, мистического зла» (Ерыкалова И. Проза поэта // АО. С. 287–288). Интересно наблюдение Д. Грачевой, также рассматривавшей рассказ в контексте метафизики «животной» плоти в звере и человеке: все события в рассказе – «цепь случайностей» («не зная зачем», жалит павиана змея, зимние дожди размывают ручей, делая недоступной «уединенную лощину», куда стремится ужаленный павиан, «желанный брод» случайно оказывается занят отрядом Ганнона, павиан кидается на шею коню, будучи не в силах удержаться от припадка, а затем «случайно» смотрит на девушку и им овладевает желание, и, наконец, его отрубленная голова «случайно» попадается на пути невесты Ганнона). «Однако случайности, – пишет она далее, – оказываются роковыми, а значит предопределенными, фатальными. Все происходит по воле Любви, всемогущее начало которой в рассказе воплощает «прекрасная, но грозная богиня» Истар, к которой взывает о помощи героиня. Истар... – богиня любви и плодородия, олицетворение планеты Венера... <...> ...В рассказе «Лесной дьявол» смысловое наполнение слова «страсть»... – это «острое желание», «дикое бешенство», потребность утоления чувства и его запредельность, «медленно действующий яд», распространение которого нельзя остановить» (Грачева II. С. 222–223).
И. Ерыкалова отмечает буквальную, а не метафорическую содержательность заголовка: «Мотив дьявола [в творчестве Гумилева] имеет очень характерный образ – дикой звериной силы» (Ерыкалова Н. Проза поэта // АО. С. 286). Как уже говорилось выше, в творчестве Гумилева рассказ «Лесной дьявол» оказывается тематически соотнесенным как с рассказом «Черный Дик» (см. № 7 наст. тома и комментарии к нему), так и с рассказом «Принцесса Зара» (см. № 9 наст. тома и комментарии к нему); О. Обухова также полагает, что «стихотворение “Царь, упившийся кипрским вином...”, где царь описывает первую брачную ночь с нелюбящей его девой, можно прочитать как окончание рассказа “Лесной дьявол”» (см.: Гумилевские чтения 1996. С. 124).
Стр. 1 – Сенегал – река в северо-западной Африке. В древности, под названиями Chretes или Chremetes (позже – Stachir или Bambotus), она была известна карфагенянам, основавшим в ее устье, богатом плодородными илистыми землями, колонию; была заново открыта португальцем Лансеротом в 1447 г. В нижнем течении своем образует множество излучин, а сильный прилив и отлив преграждают в некоторые периоды года доступ в реку. «Многоводный Сенегал» упоминается в одном из вариантов поэмы «Мик» (см. варианты к № 3 в т. III наст. изд.). Стр. 1–7 – традиционная для раннего Гумилева экзотическая образность «условной Африки» (первое «африканское» путешествие Гумилева приходится на сентябрь-ноябрь 1908 г.). Профессиональный африканист А. Б. Давидсон писал об «африканских» стихах «Романтических цветов»: «Те стихи относятся не к временам, когда Гумилев ездил в далекие страны, чтобы, как он говорил, в новой обстановке найти новые слова. С ними куда более связано другое признание Гумилева: «И я опять спешу в библиотеки, стараясь выведать у мастеров стиля, как можно победить роковую интерность пера». И если о нем писали потом, что его жирафы и леопарды стилизованы, салонны, что они порождены не подлинным морским и тропическим миром, не Африкой, а Монпарнасом, что они целиком навеяны чужими произведениями: Леконтом де Лилем, Бодлером, Кольриджем, Стивенсоном, Киплингом, – то имелись в виду именно те первые стихи. <...> Это ничем не принижает тех стихов. Их запоминали и декламировали... Но «точными описаниями» природы и быта Африки эти и другие подобные строки, конечно, не назовешь. Это совершенно очевидно» (Давидсон. С. 40–41). К пейзажам «Лесного дьявола» это, конечно, тоже относится – с той оговоркой, что, создавая свою ориентальную экзотику Гумилев, помимо беллетристики, имел в виду и исторические и географические труды и справочные издания, с которыми был знаком с детства (см.: Жизнь поэта. С. 17). Самих «африканских» стихов (т. е. таких, в которых можно установить какое-то хотя бы косвенное наличие африканских мотивов) в «парижском» творчестве Гумилева 1906–1908 гг. на самом деле очень мало, и все они локализованы периодом августа-декабря 1907 г., т. е. именно временем духовного кризиса поэта, после севастопольских «откровений» Ахматовой (см. в т. I наст. изд. №№ 63, 73, 75, 81, 93, 95). Стр. 9–10 – ср. описание старого павиана в «Африканской охоте» (№ 14 наст. тома). Стр. 37–63 – экспедиция карфагенского военачальника Ганнона с целью основать колонию Карфагена в устье «Крокодиловой реки» – Сенегала – была грандиозным даже по нынешним временам предприятием: в ней участвовало до 30 тысяч (!) человек, снабженных всем необходимым для обустройства на новом месте; целью ее было расширение области карфагенской торговли (финансы и торговля были специальностью Карфагена в тогдашней ойкумене). По мере продвижения на юг Ганноном основывались колониальные поселения; самой южной точкой его пути стал мыс Пальма (тогда – «Южный рог»). После этого запасы, взятые с собой, стали иссякать, и Ганнон счел за благо вернуться в Карфаген, где в одном из храмов он установил доску с отчетом об экспедиции. Этот отчет стал одним из немногих дошедших до нас (в греческом переводе) после полного разрушения города римлянами в Третьей пунической войне (как известно, даже на место, где находился Карфаген, было наложено заклятье) подлинным памятником карфагенской цивилизации – отсюда его широкая известность. Р. Л. Щербаков высказывает предположение, что поэт мог быть знаком с этим документом (равно как и с историей всей экспедиции) по кн.: Mer. Mémoire sur le Périple de Hannon. Paris, 1885 (см.: Соч II. 430–431). На описание внешности карфагенян Гумилевым, вероятно, повлиял исторический роман Г. Флобера «Саламбо». Упомянутые в начале данного отрывка боевые слоны были ударной силой карфагенского войска, – в отличие от крупнейших армий тогдашнего мира, где аналогичную роль выполняли боевые колесницы. У Гумилева этот исторический экзотизм встречается в ст-ниях №№ 99 в т. II, 44, 57 в т. IV наст. изд. Стр. 58–60 – Ганнон происходил из знатной карфагенской семьи, многие члены которой активно участвовали в политической жизни города (Ганноном звали также наместника Ливии, оставшегося в истории с прозвищем Великий). Ганнон-мореплаватель был какое-то время суффитом Карфагена (одна из двух высших выборных должностей исполнительной власти) и военачальником (тоже выборная должность). В отличие от своих воинственных родственников, активно задействованных в интригах пунических войн, Ганнон-мореплаватель предпочитал укреплять экономическую мощь родного города и карфагенское колониальное могущество, что свидетельствует о его политической прозорливости. Ганнон-мореплаватель воспет в «Капитанах» (см. № 148 в т. I наст. изд.). Стр. 59–60 – перед тем, как пасть в схватке с Римом, Карфаген одержал как военную, так и экономическую победу над греческими государствами (используя гражданские распри между эллинскими полисами и традиционные торговые таланты финикийских купцов), – отсюда и упоминание о «льстивых греках», именующих карфагенского суффита братом «светозарного» бога. Стр. 84 – Истар (Иштар) или Астарта была женским божеством финикийцев (т. е. семитских племен тогдашней ойкумены). В отличие от арийцев (греков и римлян) с их олимпийским пантеоном, финикийцы исповедовали религию, средоточием которой было воспроизводящее начало мироздания. Этой религии была присуща мистика самой грубой чувственности, жрецами Астарты и ее «мужского» протагониста Ваала были «священные блудницы и блудники», а символическими изображениями этих божеств были йони и фаллос. С сексуальными аспектами культа Ваала и Астарты (выступающих в разных ипостасях) была тесно связана практика намеренно жестоких человеческих жертв, культ «священного насилия и страдания», ибо половое влечение и воспроизводство материи обратной стороной имеет подавление материи и ее смерть. Астарта выступала и в качестве богини-воительницы; близкое к ней семитическое божество Ашера имело откровенно-хтоническую природу, ей приписывалась особая приверженность к козлам (как Астарта, так и Ваал были «рогатыми» божествами), а в ее лесных капищах производились особые ритуальные умерщвления девственниц. Вводящийся здесь Гумилевым мотив «астартизма» – ибо все дальнейшие события оказываются истолкованными как непосредственное проявление воли Истар, – обуславливает специфическую «мистико-половую» ауру происходящего, связанную, прежде всего, с сакрализацией акта дефлорации. Стр. 119–120 – в отличие от Вавилона и Египта, жреческое сословие не обладало широкими властными полномочиями в прагматической карфагенской демократии, которую Аристотель именовал «аристократией, перешедшей в плутократическую олигархию», и было подчинено светской власти. Главную роль в последней играли председательствуемый суффетами совет старейшин (аналогичный спартанскому) и «коллегия ста четырех» – выборный законодательный орган, являющийся оплотом олигархов и предводительствуемый влиятельными фамилиями. Что касается народа, то, хотя он формально и имел право обсуждать государственные вопросы, его голос выслушивался только в самых крайних случаях, когда возникали неразрешимые противоречия между властными органами. Все дальнейшее обсуждение судьбы героини воспроизводится Гумилевым в соответствии с этими историческими фактами. Стр. 128 – Амон в Финикии – одно из имен Ваала («Вечный»). Стр. 140–142 – практика сожжения жертв (в том числе и прежде всего – детей) была самой популярной в культе Ваала и Астарты. Стр. 143–145 – ср. с рассуждениями на эту же тему героев рассказа «Путешествие в страну эфира» (№ 15 наст. тома). Стр. 173–180 – ср. описания африканской ночи в ст-ниях №№ 107 в т. II наст. изд. и 12 в т. IV наст. изд. В ассирийском изводе астартизма богиня считалась дочерью Луны, которая являлась собственно богиней плодородия, богиней брака, совокупляющей все твари. С другой стороны образ Луны в раннем творчестве Гумилева был эмблемой Ахматовой, страдавшей лунатизмом (см. об этом: Тименчик Р. Д. Николай Гумилев // Родник. 1988. № 10. С. 20). Стр. 181–182 – покоренные карфагенянами африканские туземцы – ливийцы и нумиды – были обращены победителями в крепостных; отношение к ним было подобно отношению спартанцев к илотам, которых они специально подпаивали, а затем демонстрировали в качестве назидательного отрицательного примера подросткам. Стр. 112–120 – ср. концовку пьесы О. Уайльда «Саломея», где «девственная» Саломея целует в губы отсеченную по ее капризу голову Иоканаана: «Ах, ты не дал мне поцеловать твой рот, Иоканаан! <...> Ах, а теперь я его поцелую. Но зачем ты не смотришь на меня, Иоканаан? Твои глаза, раньше такие страшные, такие наполненные яростью и презрением, теперь закрыты. Зачем они закрыты? Открой свои глаза. <...> Ах, как я тебя любила! Я до сих пор тебя люблю, Иоканаан, я люблю только тебя <...> Я жажду красоты твоей, я жажду тела твоего <...> Я была принцессой, а ты мною пренебрег. Я была девственницей, а ты отнял от меня мою девственность. Я была целомудренна, а ты наполнил мои жилы огнем <...> Я хорошо знаю, что ты бы полюбил меня, а тайна любви величественнее, чем тайна смерти». Ср. также функцию «уайльдианских» реминисценций в мотиве самоубийства рассказа «Принцесса Зара» (см. комментарии к стр. 148–150 № 9 наст. тома).
12
При жизни не публиковалось. Печ. по фотокопии автографа в архиве Е. Е. Степанова (Москва).
ЗС (ошиб. публ.), Соч II, Полушин (ошиб. публ.), Изб (Слов), Изб (Слов) 2, СС 2000, СПП 2000, Изб (Вече), АО, Проза поэта, СПП 2001, Зов Африки. М., 1992, Огонек. 1987. № 14 (ошиб. публ.).
Автограф до 1987 г. находился в коллекции О. Н. Высотского (Кишинев). Глава первая. В стр. 23 вместо «кого именно» ранее было «кого из секретарей». В стр. 59 после «принятый» ранее было «музеем». Между стр. 77–78 ранее было (с абзаца): «Странное впечатление производит на северянина Одесса. Словно какой-нибудь заграничный город, русифицированный усердным администратором. Огромные кафе, наполненные подозрительно-изящными коммивояжерами. Вечернее гуляние по Дерибасовской, напоминающей в это время парижский бульвар Сен-Мишель. И говор, специфический одесский говор, с измененными ударениями, с неверным употреблением падежей, с какими-то новыми и противными словечками. Кажется, что в этом говоре яснее всего сказывается психология Одессы, ее детски-наивная вера во всемогущество хитрости, ее экстатическая жажда успеха. В типографии, где я печатал визитные карточки, мне попался на глаза свежий номер печатающейся там же вечерней одесской газеты. Развернув его, я увидел стихотворение Сергея Городецкого с измененной лишь одной строкой и напечатанное без подписи. Заведывающий типографией сказал мне, что это стихотворение принесено одним начинающим поэтом и выдано им за свое.
Несомненно, в Одессе много безукоризненно порядочных, даже в северном смысле слова, людей. Но не они задают общий тон. На разлагающемся трупе Востока завелись маленькие юркие червячки, за которыми будущее. Их имена – Порт-Саид, Смирна, Одесса». В стр. 78 после «10-го» ранее было «апреля», после «Тамбов» ранее было «мы». В стр. 80 после «как» ранее было «какое-нибудь». В стр. 109 после «на улицах» ранее было «почти». В стр. 130 после «маленький» ранее было «турок». В стр. 179 после «несколько» ранее было «раз». В стр. 235 после «товарищ» ранее было «скрыл». Глава вторая. В стр. 77 вместо «царит» ранее было «вождем царствует». В стр. 92 после «второго» ранее было «обыкновенно». В стр. 94 вместо «пути» ранее было «дороги». В стр. 98 после «рельсы.» ранее было «Чтобы колеса». В стр. 155 вместо «две дрезины» ранее было «дрезину». В стр. 166 перед «Одному» ранее было «Наконец», вместо «стрепета» ранее было «дроф». В стр. 181 после «я» ранее было «последний из». В стр. 200 вместо «пока» ранее было «когда». В стр. 276 после «Громадные» ранее было «волны», после «валы» ранее было «воды». Глава третья. Стр. 14–69 написаны рукой Н. Л. Сверчкова. В стр. 72 вместо «я» ранее было «мы». В стр. 118 перед «Как-то» ранее было «Он». В стр. 129 перед «однако» ранее было «в то». Стр. 134–175 написаны рукой Н. Л. Сверчкова. В стр. 169 перед «впечатлению» ранее было «обще». В стр. 187 после «прибытье» ранее было «Адис-Абебой». В стр. 191 вместо «видевших» ранее было «желавших». В стр. 207 вместо «губернатором» ранее было «дедьязмачем». В стр. 243 перед «Мы» ранее было «Всю бо». В стр. 251 перед «раса» ранее было «род». В стр. 255 вместо «приказ» ранее было «пропуск». В стр. 256 перед «нагадрас» ранее было «при». В стр. 295 вместо «прядильную» ранее было «ткацкую». В стр. 298 перед «избегая» ранее было «общая». Глава четвертая. В стр. 14 вместо «Абесинии» ранее было «Адис-Абебе». В стр. 24 перед «дедзач» ранее было «дедьязмач», перед «Ильма» ранее было «Бальча». В стр. 30 после «торга» ранее было «как рабынь».
Дат.: апрель-май 1913 г.: по времени описываемых событий и письму к Ахматовой от 16 апреля 1913 г. (Соч III. С. 237).
«Африканский дневник» – художественное повествование о событиях этнографической экспедиции в Северо-Восточную Африку (7 апреля – 20 сентября 1913 г. (ст. стиль)). Это самое пространное произведение Гумилева на «африканскую тему», интеграция которой в отечественный литературный тематический репертуар является, во многом, личной заслугой поэта.
«Любовь к Африке он пронес через всю свою судьбу, от ранних стихов до сборника «Шатер», последнего из изданных при его жизни, – писал автор лучшего на настоящий момент исследования данной тематики А. Б. Давидсон. – <...> Африканская тема пронизала всю его жизнь. Вспомним хотя бы его стихотворения и поэмы, написанные в разное время. «Африканская ночь», «Озеро Чад», «Мик. Африканская поэма», «Жираф», «Леопард», «Носорог», «Гиена», «Красное море», «Египет», «Сахара», «Судан», «Абиссиния», «Галла», «Сомалийский полуостров», «Либерия», «Мадагаскар», «Замбези», «Суэцкий канал», «Эзбекие», «Экваториальный лес», «Нигер», «Дагомея», «Дамара. Готтентотская космогония», «Зараза», «Рождество в Абиссинии», «Алжир и Тунис» и еще, еще. <...> Есть у Гумилева и два цикла абиссинских песен. Первый – его собственные стихотворения об Абиссинии, а второй, впервые опубликованный в 1988 году, – это собранные и переведенные Гумилевым подлинные песни эфиопов.
А когда Гумилев писал о своих читателях – тех, которыми он гордился, то первым из них называл старого бродягу в Аддис-Абебе.
Акростих, посвященный Анне Ахматовой, начат так: «Аддис-Абеба, город роз...»
И даже Дон-Жуана отправил на свой любимый материк, написав пьесу «Дон-Жуан в Египте» <...>
Есть у Гумилева и сборник рассказов «Тень от пальмы», рассказ «Африканская охота. Из путевого дневника», статья «Умер ли Менелик?», «Записка» об Абиссинии. Он писал и статью «Африканское искусство», – сохранилось ее начало. А в 1987 и 1988 годах были опубликованы две части неизвестного прежде гумилевского «Африканского дневника», который он вел во время путешествия 1913 года.
Африканская тема была не просто важной для Гумилева. В его творчестве она заняла неизмеримо больше места, чем у других российских писателей и поэтов. Да и прожил он в Африке значительно дольше» (Давидсон. С. 6–7).
«...Почему же с таким упорством Гумилев стремился в эти заветные края и чем в те годы была столь привлекательна Абиссиния? – развивает эту же тему другой биограф поэта, В. В. Бронгулеев. – Прежде всего конечно же своей уникальной географией. Найти условия в Африке, аналогичные абиссинским в смысле строения поверхности, разнообразия высотно-природных зон, богатства растительного и животного мира, было практически невозможно.
Второе, что привлекало к Абиссинии исследователей, – это ее этнография. Пестрота этнического состава здесь была удивительна, а ведь она обусловливала различия и в быте ее народов, и в искусстве, и, конечно, в религии.
Наконец, необыкновенной оказалась история Абиссинии, восходившая к самому Адаму и тесно переплетавшаяся с сюжетами Библии.
Но помимо названных общих причин, обусловивших интерес Гумилева к Абиссинии, имелись и более частные, связанные с его вкусами и особенностями характера. <...> Николай Степанович смог познакомится с обширным материалом, касавшимся географии, этнографии и истории восточной Африки, и в частности Абиссинии. По словам Ахматовой, она часто видела в его руках «Атлас географических карт» Видаля де ла Блаша, который он усиленно штудировал.
Кроме географических карт и научной литературы поэт должен был познакомиться и с хранившимися в архивах, а частично и опубликованными отчетами русских путешественников и военных – А. В. Елисеева, Л. С. Артамонова, А. К. Булатовича и других, неоднократно посещавших Абиссинию в предшествующие годы. Эти материалы могли сыграть решающую роль при выборе маршрутов его путешествий.
Не могло пройти не замеченным для Гумилева и совершенное незадолго до него путешествие в Абиссинию его коллеги по перу Артюра Рембо. Если на такую авантюру мог решиться французский поэт, то почему аналогичную ей не мог совершить поэт русский?
Ну и последнее. Не волновала ли его мысль о том, что своим приобщением к Абиссинии он как бы отдавал своеобразный долг памяти боготворимого им русского гения – Пушкина, далекие предки которого, как известно, были выходцами все из той же древней страны?» (Бронгулеев. С. 183–184).
А. Давидсон приводит в своей работе два важных свидетельства, позволяющие конкретизировать источники «африканских» влияний на Гумилева в самый ранний период его творческого развития. Первое – со слов А. А. Ахматовой: «...Я спросил, почему Гумилев так увлекся Абиссинией и вообще Африкой.
– Не знаю, время, наверное, было такое. Книги о путешествиях, рассказы...
И вспомнила, как офицеры-гвардейцы в Царском Селе, где жили Гумилев и Ахматова, похвалялись, бывало, своими путешествиями в Абиссинию: “Ну что там, – съездить в Африку, привезти арапчонка”. Это же потом подтвердил и поэт В. А. Рождественский, выпускник той же царскосельской Николаевской мужской гимназии, которую в 1906 г. окончил Гумилев: “Всеволод Александрович Рождественский на мои расспросы обо всем этом сказал, что Абиссиния возбуждала необыкновенное любопытство царскосельских гимназистов. Как и Ахматова, он считал, что в Царском Селе служили или, во всяком случае, бывали офицеры и казаки из конвоя, сопровождавшего первую российскую дипломатическую миссию [в Абиссинию]. А юный Гумилев, по словам Рождественского, очень любил расспрашивать военных”» (Давидсон. С. 18, 81).
Ко всему сказанному необходимо также добавить, что собственно «африканская» тематика впервые появляется в творчестве Гумилева в начале 1907 года, в рассказе «Вверх по Нилу» (см. № 3 наст. тома и комментарии к нему), написанном под влиянием произведений Р. Хаггарда, а также – оккультных сочинений, в которых особо акцентировалась «мистическая значимость» Африки. Это кажется весьма важным, если учесть, что первая мощная «генерация» произведений на «африканскую» тему в стихах и в прозе, равно как и возникновение безудержного стремления «в Африку» приходится в жизни поэта на июль-ноябрь 1907 г., т. е. на месяцы, когда он остро переживал драматическое крушение надежд на благополучный брак с А. А. Горенко (см. комментарии к №№ 9, 11 наст. тома). Не исключено, что «африканское паломничество» ассоциировалось у него с неким «магическим действием», которое должно чудесным образом «преобразить» его жизнь, «обессмысленную», по его собственному признанию, изменой невесты. Сама Ахматова утверждала, что для Гумилева «путешествия были вообще превыше всего и лекарством от всех недугов. <...> Сколько раз он говорил мне о той «золотой двери», которая должна открыться перед ним где-то в недрах его блужданий, а когда вернулся в 1913 году, признался, что «золотой двери» нет. Это было огромным ударом для него» (см. комментарии к ст-нию № 33 в т. III наст. изд.).
Собственно «абиссинское направление» возникает в планах его «странствий» (насколько можно судить по имеющимся источникам) летом 1908 г. (следует указать, что в апреле 1908 г. произошел «решительный» разговор с Ахматовой, завершившийся полным разрывом и взаимным возвращением писем и подарков – см.: Жизнь поэта. С. 61). «Я... осенью думаю уехать на полгода в Абиссинию, чтобы в новой обстановке найти новые слова», – пишет он Брюсову 14 июля (ЛН. С. 481), но в этом году осуществить задуманное ему удалось лишь наполовину: осенью он действительно попал в Африку, был в Египте, в Каире, а возможно, и «полежал на камнях Мемфиса» (см. письмо к Брюсову от 19 октября: ЛН. С. 484), однако (как явствует из того же письма) «мне не удается поехать в глубь страны, как я мечтал».
Вновь «абиссинский мотив» возникает в его творческой биографии летом 1909 г. – сразу после «коктебельского» разрыва с Е. И. Дмитриевой. Уехав по ее настоянию из Коктебеля, Гумилев, возвращаясь в Петербург, заезжает в Одессу, где встречается с Ахматовой и... предлагает той ехать с ним в Африку! (см.: Жизнь поэта. С. 87–89). Ахматова отказалась, равно как отказался (в самый последний момент) ехать вместе с Гумилевым и Вяч. И. Иванов, давно мечтавший совершить паломничество на «священную» территорию Аксума, но «не потянувшего» такого путешествия за скудостью средств (см.: Бронгулеев. С. 151–152). 23 декабря (н. ст.) 1909 года Гумилев прибывает в Джибути (через Одессу, Варну, Константинополь, Афины, Каир и Аден) и отправляется в глубь страны. С этого момента именно Абиссиния-Эфиопия и становится той «Африкой Гумилева», которая сыграла такую яркую роль в русской и мировой литературе и культуре XX века.
Абиссиния в момент появления там Гумилева представляла собой империю, метрополия которой располагалась на Абиссинском нагорье, а земли простирались от бассейна Верхнего Нила до побережий Красного и Аравийского морей, гранича на севере с Египтом, на Западе – с Суданом, на Юго-Востоке – с Сомалийским полуостровом, а на Юге – с территориями племен Центральной Африки (нынешняя граница с Кенией), являвшимися в имперском восприятии «чужеземцами» («сидамо»). Удачное сравнение при изображении «физического» облика Абиссинской империи мы находим в статье энциклопедического словаря Брокгауза-Эфрона: «Она представляет точно громадную крепость на скале, которая с запада поднимается постепенно, отчасти в виде широких террас, а с востока обрывается отвесной стеной, внутри же перерезывается многочисленными, необыкновенно глубокими и своеобразно извивающимися долинами рек, между которыми бесчисленные плоские возвышенности кажутся как бы островами» (Т. 1. СПб., 1890. С. 29). На этих «островах» горной «цитадели», протянувшейся с юго-запада на северо-восток, до самого побережья были расположены земли трех крупнейших стран-областей империи – Амхары («крайний» север, выходящий к морю), Тигре (северо-запад) и Шоа (центр абиссинской территории), населенные народностями семитской группы. Роль «предместий», окружающих «цитадель», выполняют земли «низинных» народов, принадлежащих к кушнитской группе, среди которых особенно выделялось многочисленное племя галласов, единственное способное противостоять «горной» семитской метрополии. Властным имперским центром в стране Галла являлся город Харэр (у Гумилева – Харрар).
История Абиссинии восходит к Аксумскому царству, т. е. к ветхозаветной эпохе. Согласно этой, «библейской» версии основателем города Аксум – первого из городов-крепостей на Абиссинском нагорье – был внук Ноя, один из пяти сыновей Сима – Арам. Наследницей его и была знаменитая Хазнеб – библейская царица Савская. Третья Книга Царств (10:1–13) рассказывает о ее посещении Иерусалима, где она была принята Соломоном, которого «испытывала» загадками, была поражена его мудростью, уверовала и принесла великие дары для строительства Храма. Предание же говорит о любви Соломона и Савской и о рождении у них сына Менелика, который был воспитан Соломоном и, став совершеннолетним, сел царем в Аксуме. В Аксум же, по воле Соломона, был перевезен из Иерусалима на вечное хранение Ковчег Завета (отсюда и сакрализация Абиссинии во многих «тайных учениях»). «Исторические» же версии говорят о многовековых войнах (удачных) эфиопов с египтянами и о бегстве их от победоносных римских войск в I в. до Р. Х. на юг.