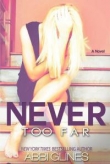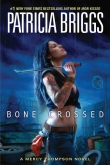Текст книги "Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 6. Художественная проза"
Автор книги: Николай Гумилев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 44 страниц)
– Покурим, что ли? – сказал он, деловито открывая коробку папирос.
Парень остановился, озадаченный.
– Спичек вот нет, – продолжал Митя, – да ладно, достанем.
– У меня есть спички, – начал Мезенцов, догадавшийся об его тактике.
– Давай! А ты папиросу-то поглубже в зубы возьми, это тебе не козья ножка! Повернись по ветру, вот тебе и огонь.
– Да ты постой, – бормотал сбитый с толку парень.
– Чего стоять! Я плясать хочу. А папироса хорошая, ты не думай. Вижу, первый сорт.
– Простите меня, – услышал за своей спиной Мезенцов и, обернувшись, увидел Мишу.
Теперь он напоминал какого-то только что порабощенного лесного зверя: согнувшийся, нелепый и с клочками волос на совсем молодом лице. Мезенцов вспомнил, что ему хотелось разгадать тайну лаборатории. Он посмотрел. Митя плясал вдохновенно, закрыв глаза, как поющий соловей. Ваня с блаженной улыбкой ловил каждое его движение. С этой стороны опасности не было.
Огородами, обжигаясь в крапиве и пачкаясь в навозе, Миша провел к себе гостя, запер дверь на засов и стыдливо встал в сторонке. По его повадке Мезенцов понял, что перед ним нерешительность, может быть, даже измена, и решил идти напролом.
– Что это вы тут делаете? – спросил он, кивнув на лабораторию.
Миша молчал.
– Что это вы делаете? Философский камень?
– Чего-с?
– Философский камень. Золото делать из железа.
Миша задрожал.
– Спаси Бог. Разве я на такое пойду? Да я уже давно в Сибири гнил, если что. Разве мыслимо?
И он остановился от возмущения. Мезенцов понял, что ошибся.
– Слушайте, Миша, я вам не враг, будьте со мной откровенны. С Митей я только так, знаком, и дел его не касаюсь, да, по правде сказать, не нравятся мне эти дела.
– Бесу они нравятся, вот кому, – простонал Миша.
– Ну вот, видите, я знаю, что вам задали работу, но какую, не знаю. А может быть, я бы вам помог.
Миша в затруднении задергал бровями, губами, носом, даже ушами, как показалось Мезенцову.
– Будьте милостивы, – по-бабьи заскулил он, – не оставьте. Я ведь вижу, что вы из господского звания, не то что какой мужик или крестьянин. Эх, кабы мне образования, городского там или университет, я бы себя показал. Потому к счету я сызмальства охоту имею. Еще ходить не научился, а считать начал. К примеру, в деревне нашей было семьдесят три души, так я и любопытствовал, сколько же народу в семидесяти трех деревнях. И находил, ей-Богу. Порола меня мать, а все отучить не могла. Дальше, как книжки читать стал, и того больше. Сколько народу на земле должно быть сосчитал, сколько его было во времена Господа нашего Иисуса Христа. Тогда уж я в церковноприходскую начал ходить, да не доходил. К другим наукам пристрастия не имел, и мамке одной было трудно. Женить уж меня думали, когда это началось. Зашел к нам переночевать некий как бы странник, только не странник он был, а шантрапа, подивовался моему счету и наутро увез меня – куда, сам не знаю. И откуда деньги взялись у мошенника, на паре в тарантасе. Я сроду так не езжал. Ехали мы, ехали, и на чугунке и водой, и вот приехали в село между гор, богатое село, избы новешенькие, бабы румяные, дородные. Повели меня к их старшине, старичок такой там, весь худенький да белый.
Как увидел я его, так и обомлел. Потому каждый человек когда опечалится, когда разгневается. А этот, сразу видно, не печаловался и не гневался за всю евонную жизнь. Смотрю, как это он весело да как это он ласково, и мурашки по спине так и бегают. И чего боюсь, сам не знаю. Послушал он это мой счет, головенкой закачал, доволен, значит, и говорит: «Ты будешь у нас наибольшим, как разрешишь мою задачу, и будешь жить в тереме самом богатом, и жену возьмешь себе по нраву. А отдохнешь, другую задачу дадим, и тогда уж навсегда к нам, на покой». Только это он зря. Не желаю я жить у него, потому я серьезный и снести не могу, когда даром зубы скалят. А те три недели, что я у них прожил, все там ржали да пляс плясали, словно в маскарад сатанинский. Там я и с Митькой впервой увидался. Дела своего ему не дадено, и к ученью он не приспособлен, а так, значит, должен по матушке Рассее ходить, за тем, кто к какому делу приставлен, приглядывать да новых улещать. Берегитесь его, барин милый, баловной он, и нож у него что бритва.
– Какую же вам дали задачу? – сгорая от нетерпения, спросил Мезенцов.
Миша сокрушенно вздохнул.
– К химии меня приставили, в химии счет нужен. Про господина Лавуазье изволили слышать? Ученый такой, из французов. Так вот, он доказал, и основательно, что из естества ничего не пропадает, ни единая, значит, пылиночка. Спичку сожжешь, так она дымком да пеплом становится, а если собрать этот дымок и пепел да сложить умеючи, то вся спичка, как прежде, будет без всякого изъяна. Хитро, не правда ли? Я вот тут проверял, выходит в точку. А они говорят: ты счет знаешь, докажи, что не так. Потому, говорят, если естество пропадает, то его как бы и нет, а это значит, что Бог есть. Окаянные, говорю я, да разве Бога химией докажешь? Сердцем Его чувствовать надо. Это ты так, говорят, рассуждаешь, а другие иначе. А нам и о других подумать надо, чтобы Бога помнили. Разве с ними сговоришь?
– А другая задача? – спросил Мезенцов.
– Еще того мудренее. Земля вокруг солнца вертится, а ты, говорят, счет знаешь, докажи, что наоборот. Коперник и Галилей, говорят, нам не указка, они в Бога не верили. И что я за Ирод такой им дался! Хорошие господа, ученые, может, министры какие или князья, трудились, придумывали, а я, темный мужик, им яму должен рыть. Как я в глаза их светлые погляжу, ежели обнаружу что? Да я со стыда сгорю, как они скажут: «Ну, Михайло, спасибо тебе, удружил». А не работать нельзя. Заколют. Вот так и бьюсь шестой год.
– Ну и что же, нашли что-нибудь?
Миша помолчал, глядя в угол.
– Это как сказать, – нехотя промолвил он. – Найти-то можно. Да только я не стараюсь. Как начинает выходить, я либо скляночку опрокину, либо бумажку с цифрами в огонь уроню. Как будто и нечаянно, а дела, глядишь, нет. Тоже не без понятия. Одно только утешительно, что мучители мои не торопятся. Работай, Миша, хоть тридцать лет, а добейся своего. А мне цыганка нагадала, что умру до седого волоса.
В дверь постучали, но, когда оробевший Миша отодвинул засов, вошел один Ваня.
– Так и есть, вместе, – покровительственно произнес он. – Мне и то Митя наш сказывал, чтобы я не допустил вас до разговору. Да что я ему, шпион-соглядатай, что ли? Пусть сам смотрит, коли хочет, а то возится там с девками, как жеребец. Ты все-таки выйди, Николай Петрович, чтобы он не помыслил о чем. Ведь бедовый!
Мезенцов сознал справедливость предостережения и вышел. Закат уже отгорел, и только одна густо-багровая полоса висела над беловатым морем тумана. Мезенцову вспомнилась Стрелка, и вдруг безумно захотелось сесть в автомобиль и крикнуть шоферу: «На Спасскую!» Чего ему еще бродить: все равно удивительнее мужика, щадящего господина Лавуазье и всю европейскую науку, он не встретит. Но вот он услышал голос Мити, и острая неприязнь к этому человеку придала ему силы. Нет, он проберется за ним в его осиное гнездо и там громко расскажет о Машиной смерти. Интересно, как отнесется к этому веселый белый старичок?
Митя остановился за углом. Он был не один. Свежий девичий голос звучал умоляюще:
– Князь мой яхонтовый, останься еще хоть на денек, как я буду без тебя?
– Да так и будешь, как была.
– Да зачем же тогда ты плясал так, слова такие говорил?
– Пляс – дело молодое, а слова что птицы – вылетят, и нет их...
– Слушай, я еще ни с кем не гуляла... первый раз.. Хочешь верь, хочешь нет. Пойдем сейчас на гумно, мать не хватится.
– На что ходить? И этого нам не надобно. Есть у меня на чужой стороне зазнобушка, да и не одна. Ищи, ворона, себе ворона и оставь меня, ясна сокола. Чего же ты расхныкалась? Разве мало парней на свете? Ну, иди, иди, тут мои товарищи.
Мезенцов кашлянул, и Митя показался из-за угла. Лицо его еще сияло оживлением пляски, и только изогнутые брови сдвинулись, образовав маленькую гневную морщинку, которая очень его красила. Увидев Мезенцова, он широко улыбнулся:
– А, Николай Петрович, что же ты с Мишей не пошушукался?
Мезенцов не ответил, и они вместе вошли в дом.
Спать ложились прямо на полу, подложив под голову попону, армяк и еще какое-то тряпье, – Миша оказался, как и подобает ученому, очень нераспорядительный хозяин. В одном углу горела лампадка, в другом спиртовка. Ваня уже начал дышать глубоко и ровно, когда Митя вдруг привстал и прислушался.
– Миша, а Миша, – зашептал он, – а урядник тебя не преследует?
– Не! Зачем так? Он сам химией занимается.
– Сам?
– Ну да. Настоит спирт на грибах или на березовых листьях и пьет. Это, говорит, грибовка или березовка. Я, говорит, химик первеющий и скоро получу награду от министерской академии. Хороший человек.
– Ну, с Богом, спи.
Наутро, когда путники уже были готовы, Миша застенчиво протянул Мезенцову книгу в старом кожаном переплете.
– Вот мне книжку дали химии научиться, только в ней многого нет, до чего я сам дошел.
Мезенцов посмотрел: на титульном листе стояло <...>
– И у вас не было никакой другой? – невольно воскликнул Мезенцов.
– Нет! Обещали прислать, да все не присылают.
– Ну, идем, идем! – вмешался Митя.
– А книжка ничего, она хорошая, старая, старее-то лучше.
– Прощай, Миша, работай, голубь!
Глава третья
– Куда мы, собственно, идем? – спросил однажды утром Мезенцов.
Митя подмигнул:
– Куда мы идем, мы знаем, а вот куда ваша милость идет сие есть тайна великая.
Мезенцов вспыхнул и закусил губу.
– Иду я туда же, куда и вы, а почему, это вы, Митя, отлично знаете, а не знаете, то я объясню еще раз.
– Не ссорьтесь, – вступился лениво Ваня без всякой тени подозрения, – право, не ссорьтесь, скучно.
Митя смирился:
– Ну, хорошо, расскажу на этот раз. Идем мы все трое в богатое и славное село Огуречное, вот что лежит промеж трех больших дорог и не одна-то в него не заходит. А ждут нас там два француза.
– Как два француза? – опешил Мезенцов.
– Они, правда, не французы, а дьячковы дети, Филострат и Евменид, сыновья Сладкопевцевы, но это все одно, потому что они по-французски мастаки и идут сейчас из самого большого французского города По.
– Париж самый большой у них, – заметил Мезенцов.
– Нет, не Париж, что Париж, а По. Это я знаю доподлинно, мне старые люди сказывали.
– А далеко ли до Огуречного?
– Да версты три.
Он остановился и прислушался. В воздухе сквозь пронзительный звон пичуг и шорох ветра послышался легкий свист.
– Что это? – спросил Мезенцов.
– Идем, идем, – заторопился Ваня. – Да говорите поменьше, а то такое станется!
– Да что станется?
– Время-то какое, к полудню.
– Ну и что?
– А про беса полуденного не знаешь, что ли? Эх ты... ученый.
– Нет, братцы, – сказал вдруг Митя, – я знаю, что это такое. Это наши французы. – И он зашагал в чащу орешника, видневшуюся над обмелевшей речонкой.
Мезенцов и Ваня последовали за ним и, пройдя десяток шагов, замерли в изумлении перед вытоптанной небольшой площадкой, полной объедками и тряпьем, как воронье гнездо. И посреди этой площадки, тоже напоминая чету ворон, сидели два долговязых человека в дырявых ботинках и лоснящихся от жира длиннополых сюртуках. Их прыщавые, угреватые и безбородые лица казались совсем молодыми, и лишь скорбные, кроткие глаза выдавали, что им обоим уже за тридцать. Большая недоеденная кость, подозрительно похожая на лошадиную, лежала между ними. Это и были Филострат и Евменид, братья Сладкопевцевы.
– Что это вы так запрятались? – весело закричал им Митя. – В Огуречном надо было ждать.
– В Огуречном и ждали, – дружно ответили братья, – только там притеснять нас стали, вот мы сюда и ушли.
– Да кто притеснял-то?
– Староста. Как мы, значит, работали с усердием, в нас и влюбилась дочка старосты, ну и мы в нее, конечно. Отец и пристает – женись. А как мы женимся оба сразу на одной? Так и ушли.
– Так что, она в вас обоих влюбилась, что ли?
– А как же иначе? Говорит, что ей Евменид нравится, только мы на это не согласны, мы двойня, у нас с детства все общее.
– Так как же вы любите? Как устраиваетесь?
Братья сокрушенно вздохнули.
– Да никак! Всякая наша любовь бывала несчастная, по этому самому. Оно конечно, какая-нибудь и согласилась бы, только мы так не можем, мы только в законном браке. А иной раз, особенно после сна, так хоть в петлю.
– Вам бы в Тибет поехать, – вмешался Мезенцов, – там полиандрия, одна женщина за многих выходит сразу.
– Ну? – обрадовались братья. – Нам бы хоть какую-нибудь, хоть черную, только чтоб вдвоем. А как туда проехать?
– Через Индию можно или через Китай.
– И сколько стоит дорога?
Мезенцов прикинул в уме цену второго класса на пароходе – он не представлял себе, чтобы можно было ехать в третьем.
– Тысячи по две на каждого.
– А пешком нельзя?
– Куда же? Через пустыню придется идти, сквозь разбойничьи народы.
– Это ничего! За своим счастьем и через ад пройдешь.
– Нечего вам зря языки трепать, – нетерпеливо оборвал их Митя, – вот еще тибетцы какие выискались. Подставляй лучше карманы, я вам деньги принес, триста рублей, рады небось, теперь месяц не протрезвитесь.
– Это так, на радостях кто не выпьет, нечистый один, – довольные, ответили братья.
– И бумаги вот, с ними отправитесь в Казань, к профессору Филимонову, а что ему скажете, это сами прочтете, я разбирал, да что-то мудрено для меня.
– Дай, дай. – И Филострат торопливо принялся разворачивать объемистый сверток, который Митя достал из своей котомки.
Евменид склонился над его плечом, полный самого живого интереса.
– Ну да, как мы и думали, чукотская грамматика с фонетикой и примерами – ну и забавники же. – И оба покатились со смеху, не выпуская, однако, из рук свертка.
– Вы лучше о Франции расскажите, а то нам идти надо будет, – не вытерпев, попросил Ваня.
– Да, да, расскажите, – поддержал его Митя. – После начитаетесь, эка невидаль – писаная бумага.
Братья неохотно оторвались от работы.
– Да что Франция, – начал Филострат. – Стоит себе на месте, никто ее не унес. Народ там только очень дурашливый, своего языка не знают. Мы говорим им правильно, как в книжке написано, а они не понимают и такое лопочут, что не разберешь. Намаялись мы с ними.
– А вы хорошо говорите по-французски? – поинтересовался Мезенцов.
– Сертенемент ноус парлонс трес биен, – с обидой ответил Евменид. Митя посмотрел на Мезенцова, видимо гордясь своими приятелями.
– Как же вы ехали? Ведь больших денег стоит дорога? – спросил Ваня.
– Деньги были нам дадены, только мы на билеты их не гораздо тратили, вино уж там очень хорошо, а ехали больше зайцами. Подойдешь к кондуктору, скажешь ему, что, мол, русский, союзник, да бутылку из-под полы покажешь, он и устроит либо в товарном, либо в служебном отделении, а потом и сам придет вина попить да о России потолковать, почему, дескать, у нас царь да как лошадь по-русски называется. Любят они это.
– Ну, а в Тарбе дело устроили? – перебил Митя.
– А зачем же мы и ехали? Прибыли мы это в Тарб, у французского мужика остановились, богатый мужик, ему велено было нас принять. А потом и братья подъехали, они в Пиренейских горах живут, на манер как наши на Урале.
– О французах ты рассказывай, а о наших ни-ни, – предупредил Митя, покосившись на Мезенцова.
– Я что? Я ничего, – оробел Филострат, – я и совсем говорить не стану!
– Ну, ну! – крикнул Митя, и Филострат покорно открыл рот, ожидая вопросов.
– Какую же работу вы с ними делали? – спросил Мезенцов.
– Можно, – позволил Митя.
– Работу хорошую, – начал Филострат, – совсем хорошую работу. В давние времена за ихнего короля русская княгиня замуж вышла, Анна Ярославна. Так вот и понадобилось документики новые об ее царствовании составить, и что по-французски, так это они сами, а что по-русски – это мы.
– Вы что же, так хорошо историю знаете?
Филострат вздохнул.
– Где там. На медные деньги учены. Из головы больше. Язык тогдашний знаем да и письмо. Старой бумаги сколько угодно. Да только мало кто ее знает, историю-то. Все ученые больше по таким документикам работают, как наши.
– Неужто все? – усомнился Мезенцов.
– Все! Был в Париже один переплетчик, с веселыми братьями переписывался, так он один сто с лишком документов академии передал, деньги взял огромные, да попался потом. Или Чаттертон в Англии? Замечательный мальчик был. Да тоже не повезло ему, напутал-напутал, с нашими поссорился и отравился. А иные нарочно попадаются. Ганка-чех, что Краледворскую рукопись сочинил, сам приписал в конце по-латински «Ганка fecit», или Псалманазар.
– А это кто? – спросил с жадным интересом Митя.
– А это мне во Франции рассказали. Появился в Лондоне человек, немолодой уже, и говорит, что двадцать лет прожил посреди океана на острове Формозе среди тамошних диких племен. Говорит, что народ добрый и честный, только людоеды, потому что некрещеные. Миссионеров им надо. А это англичане любят. Сейчас деньги собрали, и начал этот самый, назвавшийся Псалманазаром, миссионеров формозскому языку учить. Учит-учит, все успехами их недоволен. Грамматику составил, словарь, трудный язык, ох трудный. Долго он это так забавлялся, а как умер, нашли у него завещание, что он и из Англии никуда не выезжал, а язык сам выдумал.
– Ловко, – захохотал Митя, – вот удружил.
– Сознаваться не надо, – сентенциозно заметил Евменид, – а то пользы для дела не будет.
– А есть такие, что не сознаются? – спросил Мезенцов.
– А как же. Я вам расскажу, потому что вы все равно не поверите. Возьмем, к примеру, «Слово о полку Игореве»: кто его сочинил, певец древний? Оно-то и правда что певец, да только не древний, а Семен Салазкин, сын купеческий, что всего полтораста лет тому назад жил. Мальчиком он убежал из дому, да так и жил, под крышу не заходя, то на Волге бурлачил, то на Дону траву косил, а зимой в Сибири бил куницу да соболя. И все песни пел, такие все забавные да унылые сам придумывал. Один барин хотел его даже в столицу везти, в Академию представить, едва он убежать мог. Встретили его братья. Зря, говорят, болтаешься, к делу тебя приставить надо. Приставили к нему человека, чтобы ходил за ним, летописи старые ему читал да, что он сочиняет, записывал. Через год «Слово» и готово. Длиннее оно должно было быть, да только Сеню медведь задавил – на спор с одним топором пошел против зверя. Переписали наши-то уставом да и всучили через разных людей господину Бобрищеву-Пушкину, а там история известная.
Мезенцов задумался. Он сопоставил рассказ Филострата с разговором, который он слышал под окном, и вдруг ему стало ясно, что действительно существует тайное международное общество, поставившее себе целью скомпрометировать всю европейскую науку, последовательно вводя в нее неверные данные. Но для чего, он не решился спросить в присутствии Мити, очевидно игравшего в этом обществе особую роль. Между тем Филострат подтолкнул локтем Евменида.
– Откройся им, они ведь братья, что скрывать.
Евменид закраснелся и потупился.
– Что такое? – настороженно спросил Митя – он всегда все замечал.
– Так, ничего... – начал Евменид.
Но Филострат решился.
– Не надо больше нашего общества, – торжественно объявил он, – и братьев можно распустить.
– Да вы что, ополоумели? – озирая то того, то другого, воскликнул Митя.
– Евменид Сладкопевцев доказал существование Бога, он величайший философ, – продолжал Филострат и остановился, наблюдая произведенное впечатление.
– Только-то, – с облегчением вздохнул Митя, – вот напугали! Ну, что там у тебя? – обратился он к Евмениду, комкавшему в руках какую-то бумажку. – Выкладывай, может быть, и пригодится.
– Прочти, прочти, Евменид, – ободрил брата Филострат. – Митя, он всегда зря зубы скалит, а другие поймут наверно. Да как и не понять, правда такая, что глаза режет.
– Это я уже тут на полянке составил, – извиняясь, произнес Евменид. – Брат птицу ловит на обед, а я картошку чищу да сочиняю. Как будто что и вышло: вот посудите сами.
И он начал:
– «Не с того дня человек пошел, как говорить научился, а с того, как Бога в себе открыл. Потому что язык что? И птица по-своему щебечет, и муравей усиками все, что хочет, может объяснить товарищу. А вот как Бога познала тварь, так и родилась заново и стала уже твореньем. Зверю открыты три измерения пространства. Возьмите, к примеру, лошадь на узком мостике через канаву. Видит она, что канава глубокая, и боится, видит, что мостик узенький, ступает осторожно, а когда берег близко, идет скорее. Значит, длину, глубину и ширину чувствует. А человеку открыта еще внутрина. Внутрь себя духовными очами проникать он может и тоже без конца, как по земным измерениям. Это и есть четвертое измерение, или, лучше, первое нового порядка, которое и есть Бог. И узнал тогда человек о новых существах, что одно другого диковиннее. Львы крылатые, сфинксы, колеса из глаз светящихся, всего и не перечесть. Где он их открыл, как не в себе самом, во внутрине своей божественной? И рисовал их, и лепил, и описывал, да так хорошо, как с живыми зверьми, что вокруг него ходят, не вышло бы. Только мало одного измерения, призраки от него родятся, да и то маловероятные. Затосковал человек по истине непреложной, и явил ему Господь наш Иисус Христос второе измерение иного мира, которое есть любовь. То-то радость пошла по всей земле. С двумя-то измерениями куда способнее. И цветочки иначе запахли, и птицы запели по-новому, а человек стал на земле как добрый хозяин. Чудеса совершаться начали заместо появленья призраков. Только что чудеса, когда хочет душа незыблемого. Опять затосковал человек, и начал ему открываться Дух Святой, третье измерение, слово которого еще не сказано и неведомо, какое оно будет. А как откроется, так и станет человек жить в новых трех измерениях, а о старых забудет, как о сне полуночном. И ничто из того, что его прежде томило и заботило, уже не затомит и не озаботит. Потому что это и есть истина». Вот как бы вступление, а дальше я подробно обо всем рассказываю.
И Евменид остановился, ожидая одобрения. Ванино лицо раскраснелось от волнения, как лицо отрока в огненной пещи. Мезенцов тщетно ломал голову, стараясь вспомнить источники, из которых выросла эта странная теория. Филострат захлебывался от благоговейного обожания перед братом.
– Много, поди, картошки перепортил, такую ерунду сочиняя? – воскликнул Митя и зевнул.
– Почему ерунду? – в один голос спросили оба брата и Ваня.
– А что, дело разве? Ну, пойдемте, товарищи, не век же нам с длиннополыми сидеть.
– Нет, ты погоди, ты объясни сначала, а то облаял да ушел.
– Да чего объяснять-то? Вот вы на счете здесь все основываете, а не чуете, что счет – грех великий, сатанинские разделения. Как посмотришь на травку, на облачко, на девушку да на самого себя, так и увидишь, что это все единое всегда было и всегда будет, потому что Бог засмеялся. А с вашим счетом до такого дойдешь, что лучше не говорить.
– А до чего, к примеру?
– Фу-ты, ироды! И какой же дурак вас в общество взял, вам бы сапоги шить да в колокола звонить. Бога из цифр вывели, так за Богом еще что-нибудь выводить начнете. Цифрам-то конца нет. Вот вы все три да три. Так пожалуйте и три мира подавайте, земной, Божеский и еще какой. Когда люди умнее были, так жгли за такие штуки. Ересь это, и злейшая.
– Выходит, что так, – убитым голосом простонал Евменид. – Что же теперь делать?
– Да вот в Казань пойдете, выпьете по дороге, может, влюбитесь опять. Много человеку дела и без выдумок разных. Потому голова зря наверху, она самое что ни на есть глупое в человеке.
– А сочинение порвать?
– Зачем рвать, может пригодиться. Перепиши его, как надо, да и выдай за чье-нибудь.
– И то, – обрадовался Евменид, – может, как паскалевскую рукопись, вновь найденную, пустить? Он же и математик. Другим слогом изложить, и пойдет.
– Нет, брат, – оживленно ответил Филострат, – это скорее Лактанцием пахнет, он такие размышления любил. Скажем, на Афоне нашли список.
– Ну, уж я там не знаю, кому, да и некогда мне, – объявил Митя. – Разбирайтесь сами. Идем, идем, товарищи, путь немалый. А вам спасибо, что повеселили.
Глава четвертая
В Мамаево пришли поздно ночью. Этот тяжелый, словно налившийся нездоровым светом день совсем обессилил Мезенцова. С полдороги у него разболелась голова, одеревенели ноги, и сам он как-то опьянел от проглоченной пыли и горького запаха сохнущих трав. Митя тоже что-то присмирел и больше не привязывался и не ласкался. Только Ваня был по-прежнему розов и ясен, как венециановский юноша. Казалось, ни солнце его не обжигает, ни пыль на него не садится.
Светила полная луна, но село было тихо, точно вымерло. Ни одного огонька в окнах, ни одного запоздалого прохожего. Даже собаки не лаяли почему-то. Только на крыльце одной избы тихонько плакал шелудивый ребенок, словно не решаясь войти в дверь. Он заплакал сильнее, когда Митя спросил, где его мамка. Однако, пройдя половину улицы, путники услышали странный шум, доносившийся с противоположного конца села. Казалось, работала какая-то паровая машина, мельница или молотилка, работала с перебоями, визгом, ревом. Мало-помалу уже можно было различить топот ног и пронзительное бабье пенье. Навстречу пробежал мужичонка в рваном армяке. Шапку он держал в руках, и на лице его было написано отчаянье, смешанное с безграничным восторгом. «Гуляет... не дай Бог как гуляет», – пробормотал он и скрылся. Наконец в поле за деревней Мезенцов увидел огромный молотильный сарай, из которого и доносился весь шум. Перед дверью были в беспорядке навалены, очевидно поспешно выкинутые, земледельческие орудия и несколько снопов, а в щели лился яркий свет. Этот свет почти ослепил путников, когда они вошли. Внутри было по крайней мере человек триста. Мужики с раскрасневшимися от вина и духоты лицами жались по углам, принарядившиеся парни собирались кучками, а перед ними пели осипшими уже голосами и плясали бабы и девки в огненно-ярких кумачных платках. Пеньем управлял низенький лысый человечек с лицом подрядчика и в поддевке из тонкого сукна.
А посредине комнаты, совершенно один перед накрытым столом, сидел мужчина лет тридцати пяти, бывший центром общего внимания. Мезенцову сразу бросились в глаза его бледное, слегка опухшее мускулистое лицо, иссиня-черные волосы и усы и самоуверенный, почти дерзкий взгляд. Позднее он разглядел черную тужурку с форменными петлицами, выдававшую в их владельце инженера путей сообщения. На столе стояла наполовину пустая бутылка шампанского и большой золотой кубок из тех, которые назначаются призами или дарятся на товарищеских проводах.
– Кто это? – шепотом спросил Мезенцов у соседнего мужика, но не получил ответа, потому что все вдруг замолчали – это сидевший поднял руку и устремил взор на вошедших.
– Привет вам, гранды Испании! – загремел его голос. – Откуда и куда направляете вы стопы?
– Мы люди прохожие, – хмурясь, отвечал Митя: видно было, что приветствие ему не понравилось.
– Прохожие, иначе проходимцы. Ну а знаете ли вы, кто я?
– Откуда нам знать?
– Павла Александровича Шемяку не знаете? – и сидевший оглянулся вокруг, как бы ища сочувствия своему негодованию. – Инженера путей сообщения? А Сольвычегодско-Мамаевскую железную дорогу кто вам построит? Кто изыскания третьего дня закончил – птица? Нет, извините, не птичка, а я. Все теперь у вас будет: и книги, чтоб девкам папильотки закручивать, и калоши, чтобы падеспань танцевать, граммофоны, вино, сардинки и сифилис. Приобщитесь к культуре, а мне уж позвольте погулять. Позволяете, да? Правда? Ну, благодарю вас!
Он вежливо поклонился и вдруг крикнул, обращаясь к подрядчику:
– Афанасий Семенович, а ну мою любимую!
Афанасий Семенович неистово взмахнул коротенькими ручками. Бабы и девки грянули хором, невыразимое презрение слышалось в каждой их интонации:
Если барин без сапог,
Значит, барин педагог.
«И... ах!» – рявкнули мужики.
Если барин брехать рад,
Значит, барин адвокат, —
продолжали женщины уже с тайным сочувствием. «И-ах!» – громче орали мужики.
Если барин всем пример,
Значит, барин инженер, —
тянули женщины, и благоговейный восторг перед воспеваемым сделал на мгновение их осипшие голоса почти приятными. «И... и... и...» – залились мужики, приседая от напряжения, с выпученными, как на хлыстовских раденьях, глазами. Шемяка слушал, прищурясь и наклонив голову.
– Хорошо, – с чувством сказал он и залпом опорожнил кубок, который сейчас же снова был наполнен услужливым Афанасием Семеновичем из бутылки, стоявшей под столом.
Но Шемяка больше не стал пить. Он поймал движение путников, повернувшихся было к дверям, и остановил их вопросом:
– Куда это? Ты, розовый, иди сюда, выпей.
Сразу десятком услужливых рук Ваня был выпихнут на середину сарая.
– Выпей, выпей, – повторял Шемяка настойчиво, заглядывая ему в глаза.
Ваня слегка побледнел и сжал губы.
– Не хочу вашего вина, – сказал он вдруг негромко, но твердо.
– Нет? Гнушаешься? – ласково продолжал Шемяка. – Ну, все равно! Видишь девок? Выбирай какую хочешь себе на ночь! Я скажу, любая пойдет.
Девки хихикнули, а некоторые и оробели.
– Не надо мне и девок ваших, – как бы на что-то решившись, громче ответил Ваня.
– Да ты что, обалдел? – зашептал ему Афанасий Семенович, но притих от гневного жеста Шемяки.
– И девок не хочешь? Так, так! – задумчиво повторял инженер. – Чем же мне тебя подарить? Деньгами разве.
Он засунул пальцы в жилетный карман, нетерпеливо выбросил на пол несколько десятирублевых бумажек и наконец достал совсем новенькую, похрустывающую пятисотенную.
– Вот, возьми. Избу новую поставишь, лошадь купишь. Не все в грязи-то жить, с хлеба на квас перебиваться. Или – ты человек молодой – в Москву поезжай, учиться, в люди выйдешь.
Среди мужиков пронесся завистливый ропот. Девки придвинулись ближе.
– И денег ваших не хочу! – просто крикнул уже совсем бледный Иван. – Ничего, ничего, потому что вы – диавол!
Толпа замерла.
– Что? – удивился Шемяка, как-то странно подмигнув.
Ваня в отчаянии оглянулся. Сзади стоял, слегка согнувшись, Митя и держал руку за голенищем. Это его ободрило.
– Потому что вы диавол, – повторил он медленно, словно не своим голосом.
И только в этот миг Мезенцов заметил, отчего так светло в сарае. Во все стропила, балки, притолоки были воткнуты церковные свечи – копеечные, пятикопеечные и толстые рублевые. Нагретый воск душистыми белыми слезами капал на грязный пол и спины крестьян. Видно было, что Афанасий Семенович не останавливался ни перед чем, чтобы угодить своему господину.
– А ведь верно! – вдруг крикнул Шемяка с просветлевшим лицом и ударил ладонью по столу. – Как это никто не догадался, ты один? Эй, вы, паршивцы, отвечайте, – обратился он к толпе, – дьявол я или нет?