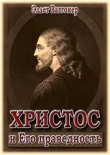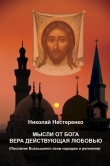Текст книги "Единый поток жизни"
Автор книги: Николай Арсеньев
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Вот 18-летний доминиканский послушник 14-го века в монастыре в Констанце. Он прислушивается к голосу Божественной Премудрости, т. е. воплощенного Сына Божия, Который ему говорит: "Если хочешь познать Божество Мое, познай прежде всего страждущее человечество Мое".[63]63
HEINRICH SEUSE, Büchiein der Ewiqen Weisheit, c. 3.
[Закрыть] Это познание страждущего человечества Его есть единственный путь, чтобы познать Божество Его: ибо в этом страждущем человечестве Сына Божия открылась вся безмерность Божественной Любви и Божественного Величества.
В конце 14-го века затворница при Норичском (Norwich) соборе в Англии, лэди Юлиания, имеет во время смертельной болезни видение безмерной любви Божией, раскрывшейся в Сыне Его. Думаю, что не будет преувеличенным сказать, что это – один из самых поразительных памятников христианского благочестия Средних Веков. Все содержание этой небольшой книжки Revelations of Divine Love (Откровения Божественной Любви), просто и несложно, но, думаю, заслуживает краткую и восторженную характеристику: "theodidactae, profundae ecstatica", данную Пьером Пуарэ (Pierre Poiret – 1646-1719), известным французским протестантским исследователем христианского мистического благочестия.
В мае 1373 г. Юлиания тяжко заболела и прочувствовала приближение смерти. Она попросила местного священника прийти к ее смертному одру и, когда он протянул ей распятие для напутствия в иную жизнь, у нее было внезапно видение: ей показалось, что лик Распятого вдруг ожил; она увидела Его невыразимые страдания и предсмертные муки и услышала несколько слов Распятого, обращенных к ней. Видение это продолжалось следующей ночью. Вслед за этим она выздоровела и прожила еще, по крайней мере, 40 лет (до 1413 года), а через 15-20 лет после видения она записала то, что ей сказал в этом видении Господь, и то, как мало-помалу эти слова Его раскрылись ее пониманию.
Страдания, унижения Сына Божия безмерны, невыразимы, превосходят всякое постижение. "Впрочем, любовь, которая заставила Его претерпеть все это, настолько же превосходит Его страдания, насколько небо выше земли. Ибо страдания Его были делом, совершенным во времени, действием Любви; а Любовь была искони, без начала, и пребывает, и всегда пребудет – бесконечно".[64]64
Главы X-XI цитирую по изданию: Revelation of Divine Love edited by GRACE WARRACK, 1-ое изд. 1901 г., 13-ое изд. 1950 г. Об Юлиании см. мою статью «Откровение Божественной Любви Юлиане из Норича» в моей книге «О Жизни Преизбыточествуюшей», Брюссель, 1966 г.
[Закрыть]
"И внезапно, как я увидела на том же кресте, вид Его изменился на радостный". И она слышит обращенные к ней слова Распятого, доносящиеся с креста: "Довольна ли ты, что Я пострадал за тебя?" – "Да, благий Господи", ответила я; "благодарю Тебя, благий Господи, _ да будешь Ты благословен!" – "Если ты довольна, – сказал Господь наш, – то и Я доволен. В этом радость и блаженство и бесконечное удовлетворение для Меня, что Я выстрадал сии муки ради тебя. Ибо если бы Я только мог пострадать больше, Я бы пострадал больше".
И ей открылся плод Его страдания: искупленные этой дорогой ценой, мы принадлежим Ему. Более того: "Мы являемся Его наградой, честью и венцом Его. Это является предметом столь великой радости для Иисуса, что Он ни во что вменяет Свое тяжкое страдание, жестокую и позорную смерть. И в этих словах: "Если бы Я только мог претерпеть больше. Я бы больше претерпел", – я поистине увидела, что, если бы пришлось Ему каждый раз умирать за каждого человека, имеющего быть спасенным, как Он однажды умер за всех, то любовь не дала бы Ему покоя, покуда Он не совершил бы сие. И когда Он совершил бы сие. Он вменил бы сие в ничто ради любви. Ибо все кажется Ему лишь малым в сравнении с Его любовью.
И это Он мне явственно показал, сказав сие слово: "Если бы только возможно было Мне пострадать больше". Он не сказал: "Если бы нужно было страдать больше", но: "Если бы только возможно было страдать больше". Ибо если бы и не было нужно, но только возможно было бы пострадать больше, Он бы пострадал больше" (глава XII).
"С радостью и веселием взглянул наш Господь на Свой пронзенный бок и увидел (язву его) и сказал сие слово: "Взгляни, как Я возлюбил тебя!"
Ибо Бог открывается нам прежде всего и действеннее всего как Любовь. "Хотя свойства Божественной Троицы и равны все по достоинству, но Любовь была более всего показана мне, ибо она всего ближе к нам... Господу угодно, чтобы изо всех свойств Благословенной Троицы мы больше всего уверенности имели в Любви. Ибо Любовь склоняет к нам и Божественное Всемогущество и Премудрость. Впрочем, люди большей частью слепы и не знают, что "Он – Все-Любовь" (All-Love) (глава XIII). Любовь же сия во всей беспредельности Своей открылась в Иисусе.
В последней (86-ой) главе своей книжки Юлиания приводит к единству все то, что открыл ей Господь. 15-20 лет она усиленно обдумывала и молитвенно созерцала все то, что было ей показано Господом, окинув взором и страдание и грех. "И 15 лет спустя, или более, я получила ответ во внутреннем уме своем, и он гласил так: "Желала ли бы ты знать, что имел в виду, что разумел Господь твой в сем откровении? Знай же сие твердо: Он разумел любовь. Кто показал тебе сие? – Тот, Кто – сама Любовь. Что показал Он тебе? – Любовь. Ради чего Он сие показал тебе? – Ради любви". "Итак, держись сего, и ты все больше будешь познавать и все больше проникать в сие. И никогда ничего другого ты не увидишь здесь, во веки". Таким образом я познала, что Господь наш разумел любовь, Смысл откровения Его – любовь: "I learned that Love was out Lord's meaning" Эти слова очень близки по духу к 1-ом Посл. Иоанна и касаются основной Тайны мироздания (предносившейся, напр., и Достоевскому среди ужасов жизни, которые он так беспощадно изображал): снисхождение Божественной Любви.
Откуда ни взглянем, вся та же безмерность снисхождения. Восточная Православная Церковь так рисует это в одном из песнопений Страстной седмицы: "На землю снисшел еси, да спасешй Адама, и на земли не обрет сего, даже до ада снисшел еси ищай".
Глава седьмая
Образ страждущего Христа в религиозных переживаниях Средних Веков
1
Центром религиозной жизни, правда, иногда как бы затемненным, остается и для средневекового христианства, как и для раннего, личность Богочеловека, близкого, полного любви, состраждущего и спасающего, умирающего за мир на Голгофе. Особенно ярко этот человеческий, смиренный образ Христа, близкий, понятный, захватывающий душу, выступает с средневековой религиозности по мере ее углубления и эмоционализации, т.е. преимущественно с 12-го века,[65]65
См. об этом, напр., TAYLOR: The Mediaevai Mind, 1914, vol. I, p. 362; КАРСАВИН: «Культура средних веков», 1918, стр. 167.
[Закрыть] хотя корни этих переживаний уходят, конечно, далеко вглубь – к самым истокам христианской традиции и христианского чувства, никогда не замиравшего вполне.[66]66
Ср., напр., Vita Romualdi, с. 31, (MIGNE, Patrol lat., t. 144, col. 983).
[Закрыть] И в Средние Века сохраняли для христианского сознания свою силу прощальные слова – обетования Иисуса Своим последователям: «Се Аз с вами во вся дни до скончания века». Эта близость ощущалась в благодатной жизни Церкви (особенно реально в Таинстве Евхаристии), а для просветленного взора – всегда и повсюду.
Ubique daemon! – "Дьявол повсюду!" восклицает с ужасом Сальвиан, марсельский священник 5-го века. Эти слова его глубоко характерны и для настроений последующих веков. И вместе с тем, тот же самый Сальвиан живо ощущает повсюду – и в истории, и в окружающей жизни – близость Божию.[67]67
SALVIANI MASSILIENSIS PRESBYTERI: De qubernatione Dei, lib. VI, c. 11 (MIGNE, Pairol. lat., t. 53, col. 120); ibid., lib. II, c. (col. 50-51) et passim.
[Закрыть] Точно также много веков спустя – в 12-ом веке, малоизвестный монах Клервоской обители, которому, как повествует нам собрание Клервоских сказаний, дважды во время молитвы являлся Господь Иисус, ощущает повсюду божественную близость – felici ductus experimento, credidit ubique divinam esse praesentiam.[68]68
Exordium magnum ordinis Cisterciensis, (памятник конца 12 века) – Dist. IV, cap. 8, (MIGNE, Patrol. lat., t. 185, col. 1103).
[Закрыть]
Так и Франциск повсюду, во всем мире, в красоте всей твари, чувствует присутствие Возлюбленного своей души;[69]69
Ср., напр., FR. THOMAS DA CELANO: Leqenda secunda beati Francisci, c. 124, (Roma, 1906, recensuit P. Eduardus Alenconiensis, p. 293) et passim.
[Закрыть] а вдохновенный его духом, вышедший из францисканской среды трактат Scala divini amoris (Лестница божественной любви) «во всей красоте, что есть в твари», видит «сияющий образ Иисуса Христа, что сияет и улыбается нам в красоте творений».[70]70
«La cata resplandent de Ghesu Christ qui resplandis e ri ins la beutat de las creaturas» – Scala divini amoris (провансальский трактат 14 века), hrsg. von De La Motte, 1902.
[Закрыть]
2
Еще более явственно и ощутительно реально раскрывается близость Христа – уничиженного и страждущего – в творении дел милосердия. "Алкал Я", – так скажет, согласно словам Иисуса, Царь Правды, Сын Человеческий, к милостивым в день суда, – "и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня. Был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне "...Ибо "истинно говорю вам: так как вы сделали сие одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне".[71]71
Мф. 25. 35 cл. Ср. . уже ранее неканоническое слово, приписывавшееся Христу: «Ты видел твоего брата, так ты видел твоего Бога» (у ROPES: Die Sprüche Jesu. Tmaine und Untersuchungen zur Gesch. d. altchristlichen Literatur, XIV. 2. 1896, № 40.
[Закрыть]
Эти слова Иисуса нашли могучий отзвук в сердцах христианства, в частности в Средние Века. Средние Века восприняли эти слова с детски верующим, ярким, подчас наивным, реализмом. Не нищий только, убогий или больной принимает нашу милостыню, наше служение любви, а собственно Сам Христос в образе бедного и больного. Христос здесь, Он близко, Он предстоит нам на каждом шагу в образе "одного из братьев Своих меньших", в образе страждущего, и ждет, просит, требует от нас сострадания, дела любви, вызывает нас, приглашает на то, чтобы любовно послужить Ему и ощутить Его духовную близость.[72]72
Ср. слова Франциска Ассизского к ученикам, приведенные у Фомы Челанского (во втором сказании, с. 52.) и у Бонавентуры (Leqenda Set. Fransisci, c. 8).
[Закрыть] А иногда Его мистическое присутствие раскрывается при этом ярким и чудесным образом. Известна легенда о св. Христофоре, который перенес на своих плечах через бурную и стремительную реку под видом мальчика Самого Христа.[73]73
Ср., напр., JACOPUS DE VORAGINE: Leqenda aurea, cap. 100, (ed. Th. Graesse, 1850, p. 432).
[Закрыть] Или вот, напр., благочестивый монах Альквирин из Клервоского монастыря, обладавший искусством врачевания; с особой любовью посвящал он себя уходу за бедными и неимущими. "И не только лечил он их болезни или ушибы, но и гниющую плоть страждущих, и гной источающие их члены он перевязывал собственными руками с такой заботой и вниманием, как будто бы он обслуживал раны Христа. И по истине так оно и было. Ибо все он делал ради Христа, «все сие Христос относил к Себе», и однажды Он открылся ему в чудесном видении.[74]74
Exordium magnum ordinis Cisterciensis. Dist, IV, cap. 1, (MIGNE, t. 185, col. 1095).
[Закрыть]
Предметом наибольшего физического отвращения и ужаса для общества,[75]75
«...inter omnia infelicia monstra mundi Franciscus naturaliter leprosos abhorrens» – читаем, напр., об юношеских годах Франциска во «Второй Легенде» ФОМЫ ЧЕЛАНСКОГО (гл. 5).
[Закрыть] отщепенцами от прочего мира были весьма распространенные в Средние Века в Западной Европе прокаженные, носители этого страшного и заразительного, занесенного с Востока недуга, заживо разъедавшего их плоть, покрывавшего их тело зловонными струпьями. Они жили вне городов и селений, изолированно от прочего мира, и издали просили милостыню на дорогах; проявление активного милосердия к ним, было не только делом любви, но и актом мужества. И вот, особенно часто Христос чудесно раскрывается Своим избранным в образе прокаженных. Так прокаженный, которому Франциск Ассизский, уже на пороге своей новой возрожденной жизни, подает милостыню, одновременно лобызая его, вдруг чудесно исчезает. И Франциск исполняется изумлением и радостью духовной.[76]76
THOMAS DA CELANO: Leqenda secunda, cap. 5; BONAVENTURA, Leqenda Sct. Fransisci, cap. 1.
[Закрыть] Сходно происходит и с блаженным Джиованни Коломбини из Сьены (в 14-ом веке), как повествует нам его биограф: он ввел прокаженного к себе в дом, положил его на лучшую постель, обмыл его раны и с любовью служил ему; через некоторое время прокаженный чудесным образом исчезает из запертой комнаты, и вся горница исполняется дивным благоуханием.[77]77
«... Senti si gran fragranza di soavissimo odore, che tutte le spezie delle cose odorifere parevano ivi ragunate» – FEO BELCARI, Vita del beato Giovanni Colombino da Sienna, (памятник 15 века), гл. 5, стр. 28 (в серии Scrittori nostri, № 43, Lanciano, 1914).
[Закрыть] А вот, что рассказывает Цезарий Гейстарбахский в своем Dialogus miraculorum (13-го века) про графа Тибо Шампанского: «Граф обладал столь великим смирением, что нередко лично посещал хижины прокаженных... Перед одним из замков его жил как раз некий прокаженный. Каждый раз, что графу приходилось проезжать мимо его хижины, граф слезал с коня и, взойдя к прокаженному, он обмывал ему ноги, подавал ему милостыню и затем уже ехал дальше. По прошествии некоторого времени прокаженный этот умер и был похоронен; но это не дошло до сведения графа. И вот однажды, проезжая опять по этой дороге, граф, как только поравнялся с знакомой ему хижиной, соскочил опять с коня говоря: „Следует мне навестить отца моего“. И, войдя внутрь, увидел он не прокаженного, но в образе прокаженного и в его одежде – Господа. Совершив по отношению к нему свое обычное дело милосердия – он радостно вышел. И вот, когда он говорил своим приближенным: „Я рад, что видел моего прокаженного“, ему ответили: „Господин, знайте за вполне достоверное, что он давно уже умер и погребен в таком-то месте“. Услыхав это, благочестивый граф возрадовался духом, что удостоился он узреть и личным служением почтить Того, Кому он уже долгое время служил в лице Его собратьев – членов Его тела».[78]78
CAESARIUS HEISTERBACENSIS: Dialoqus miraculorum, Dist. VIII, cap. 31. Можно бы привести еще из агиографической литературы, как христианского Запада, так и христианского Востока, бесчисленное количество примеров этих видений Христа в образе бедного, больного или странника. Укажу лишь хотя бы на сходные рассказы в ряде хроник южно-германских женских монастырей позднейшего Средневековья (см. Р. Н. WILMS: Das Beten der Mystikerinnen darqestellt nach den Chroniken der Dominikanerinnen-KIöstei..., 1916, p. 139); далее, напр., в житии провансальской святой 13 века Ste Douceline (La Vie de Ste Douceline, – publiée par L'ABBE ALBANES, 1879, pp. 7-9; 66-68) и т. д. Из житий подобные рассказы перешли в фольклор: так, в русском фольклоре они весьма многочислены.
[Закрыть]
3
Но особенно действенно ощущалась близость Христа, Его безмерная любовь и благодатная сила искупления при созерцании, умом и сердцем, Его страданий и крестной смерти. Это внутреннее созерцание страждущего Иисуса, памятование о Нем, духовное добровольное участие в Его крестном подвиге и чувство глубокой любви и безмерного преклонения и живого общения с Голгофским Страдальцем, вот – основная и центральная струя всей религиозной жизни Средних Веков, там, где она проявляется в повышенном и углубленном виде. Интересно остановиться на этом созерцании душою мук распятого Богочеловека в некоторых, наиболее ярких, наиболее ощутительных и повышенных его проявлениях.
Постоянное сосредоточение мыслью и сердцем на муках Христа переходило нередко в прочувствованное и ярко– конкретное переживание их заново (иногда даже физически-реально), порождало ряд образов и видений. Внешнюю фиксацию этих переживаний имеем в ряде благочестивых средневековых сказаний. Приведу лишь некоторые случайные примеры. Так Цезарий Гейстербахский знает некую благочестивую девственницу, которая "часто видела Спасителя висящим на кресте, с окровавленными ранами". Когда, побуждаемая состраданием и скорбью, она закрывала глаза, то она тем не менее продолжала Его видеть. В связи с этими видениями, "она не могла уже ни думать ни говорить о страданиях Господа без слез и сокрушения".[79]79
CAESARIUS HEISTERBACENSIS, Dist. VIII, с. 10.
[Закрыть] Так и священник некой обители, Даниил, видит распятого Христа и получает от Него чудесный дар слез: «Всякий раз, что начинал он размышлять или говорить о страдании Христа, тотчас изливались у него слезы».[80]80
Exordium maqnum, Dist. IV, с, 5, (Herberti, De miraculis, lib. 1, cap. 23, – MIGNE, t. 185, col. 1200.
[Закрыть] Некий престарелый Клервоский инок видит в день Великой Пятницы Господа Иисуса Христа с руками и ногами распростертыми на кресте, как будто бы Он только что был распят. «Это блаженнейшее видение, хотя было оно кратким и почти мгновенным, явилось, однако, столь ощутительным и действенным, что благоговейная память о нем не могла уже изгладиться из сердца видевшего». «Как если бы кто, – так продолжает благочестивый составитель сборника Клервоских сказаний, – подливая в пылающую печь масла, заставил ее сразу вспыхнуть огнем, так и благодать сего откровения озарила еще более ярким и совершенным пламенем устремления к Господу сердце старца, уже давно распаленное небесной любовью».[81]81
Ibid., с. 11.
[Закрыть] Послушник Конрад Гейстербахского монастыря слышит даже, в экстазе, обращенныя к нему слова Распятого: «Конрад, видишь ты, сколько Я перенес ради тебя?»[82]82
CAESARIUS HEISTERBACENSIS, Dist. VIII, c. 20.
[Закрыть] Два других послушника одного из германских монастырей видят зимним вечером на темном уже небе огромный сияющий крест с распятым на нем Господом, и склоняются перед Ним в безмолвной молитве.[83]83
Ibid., c. 17.
[Закрыть] У одного, еще совсем юного, но достигшего высокой святости жизни, монаха Клервоской обители его созерцания и видения все возрастают в ощутительности и реализме. Сначала он видит ночью во сне, что ангел Господень «ввел его в некий славный чертог, в котором он узрел Господа Иисуса Христа висящим на кресте, а Пречистую Матерь Его, Деву Марию, стоящей у креста вместе с блаженным евангелистом Иоанном. И когда он взошел туда, то ощутил благоухание столь великой сладости, как если бы покой тот был окроплен всевозможными благовониями». И, припав лицом к земле, он всеми силами, всем устремлением сердца своего стал молить Распятого преподать ему благословение. И, получив благословение, он проснулся, но еще долго после этого видения чувствовал он «всего внутреннего своего человека преисполненным дивной сладостью благоухания», чувствовал себя обновленным и озаренным благословением Христа. В другой раз – то было уже на яву – стоял он вместе с братией за торжественной службой пасхальной ночи... "Начал он, предавшись внутреннему смирению, с особым вниманием размышлять о страданиях и воскресении Господа, так что от пылающего чувства благоговения и сострадания он весь изливался в слезах. И вот, по прочтении уже второй паремии, когда братия пела антифон (респонсорий) «Ангел Господень», вдруг Тот, Кто в сердце его возжег огонь устремления – Господь Иисус Христос, явился ему бодрствующему и плачущему, и стал перед ним посредине хора, распростирая руки Свои и как бы показывая их ему. И на пречистых ладонях Его явственно виднелись следы гвоздей, и видно было, как из этих свежих язв сочилась кровь. И, узрев Господа, брат тот возрадовался радостью весьма великою, но, пораженный и как бы придя вне себя, не знал в данный миг, что ему делать. Ибо хотел он броситься на середину и припасть к ногам Спасителя, но удерживали его стыд и почтение перед собранной братией, – как бы не сочли его безумным. Ибо он и того не знал, является ли Господь видимым лишь для него одного или также и для остальных. И весьма обильно плакал он при сем, и сердце его растоплялось в себе самом жалостью от безмерной сладости любви к Тому, Кого он зрел. А длилось это явление Господа все то время, пока в праздничном антифоне пелись следующий слова: «Он восстал от мертвых, придите и видите...» [84]84
Exordium magnum, Dist. III, c. 16.
[Закрыть]
Еще ярче, еще более конкретно ощутительно было видение, которого удостоился другой Клервоский монах – благочестивый врач Альквирин.[85]85
Ibid., Dist. IV, c. 1. Ср. выше стр. 13.
[Закрыть] Ему казалось, будто вестники небесные громко возглашают: «Вот грядет Господь, восстаньте и выходите навстречу Ему». Он скорее выбежал навстречу и стал у врат обители в ожидания Господа, и вот, действительно взошел через них Госпрдь. "И когда входил Господь, он приблизился к Нему и поклонился Ему, умоляя, чтобы Он его благословил.[86]86
Это, по-видимому, излюбленный мотив многих видений. Ср. рассказ из Exordium maqnum, (dist. III, c. 16), цитированный выше, и там же кн. III, гл. 9 и 10.
[Закрыть] И, получив благословение, стал он пристально взирать на Него, и дивным чувством сострадания он состраждал с Ним. Ибо Господь представлялся ему как страждущий и немощный, пронзенный гвоздями и прободенный копьем, как будто бы Он только что снят был с креста, так что кровь весьма обильно струилась из раскрытых язв.
Душа шаг за шагом следит за драмой Голгофского Страдальца. Она в мыслях переживает заново Евангельский рассказ, конкретизирует его себе, восполняет новыми подробностями, Она созерцает бичевание Иисуса и издевательства над Ним, непосильное несение Им Своего креста на пути к Голгофе, последовательно развертывающуюся картину процесса распятия и мучительную агонию на кресте.[87]87
С этим западными средневековыми созерцаниями и описаниями мук Христовых можно сопоставить и сходные произведения Восточной Церкви. В частности, Русская Церковь имеет, напр., в «Благодарственном страстей Христовых воспоминании» СВ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО, произведение необычайной пластичности и яркости и, вместе с тем, и большой религиозной силы (помещено в 1-ом томе киевского издания «Сочинений св. Димитрия Ростовского», 1895 г., стр. 226).
[Закрыть] Иногда она переносится в чувствования, в скорбную, охваченную смятением и болью душу близких Иисуса, созерцающих Его муки, и сама созерцает, видит эти муки очами Его Матери и прочих, что остались верными Ему до конца.
4
Ибо с драмой Сына теснейшим, неразрывным образом переплетается драма Матери. На Ней, как известно, останавливается уже евангельское повествование. "Тебе Самой оружие пройдет душу", – так предсказывал Марии эту грядущую нравственную муку еще старец Симеон, когда молодая Мать принесла в храм 40-дневного Младенца (Лук 2. 35). Теперь же, на Голгофе, "стояли" – как рассказывает нам Иоанн – "при кресте Иисуса Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина". И следует краткий эпизод потрясающей трогательности: распятый Иисус, уже близящийся к смерти, поручает заботу о Своей Матери любимому ученику Своему: "Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: "Жено, се сын Твой!"; потом говорит ученику: "Се матерь твоя". И с этого времени ученик сей взял Ее к себе" Ин 19. 25-27). Христианское чувство многократно и длительно останавливалось на этой сцене, на переживаниях Матери, стоящей у креста Сына или же держащей на руках Его бездыханное, снятое со креста тело, или в безмолвной невыразимой скорби созерцающей Его погребение.[88]88
Первый известный нам «Плач Богородицы» содержится в одной из греческих редакций новозаветного апокрифа «Деяния Пилата» (Acta Pilati, 1, 3), написанного не позднее начала 5 века, с. XI, 5, TISCHENDORF, Evanqelia apocrypha, erste Ausgabe 1853; zweite Ausg. 1876, p. 287. Cft. S. WECHSLER: Die romanischen Marienfdaqen, p. 8.
[Закрыть]
Св. Бригитте, шведской созерцательнице 14-го века сама Св. Дева в видении повествует о том, как Она лицезрела и переживала истязания и смерть Сына. "Когда", говорит Она, "первый из гвоздей пробивал тело Его, Я при первом же ударе упала без чувств как мертвая: в глазах у Меня потемнело, руки тряслись, дрожали колена. И от великой горечи не могла Я взглянуть на Него, пока не был Он всецело пригвожден. И когда Я встала, увидела Я Сына Моего мучительно повешенного. А Я, Матерь Его печальнейшая... еле могла держаться на ногах от скорби..."
Близится конец. "Тогда от чрезмерного телесного страдания из глубины человечества Своего возопил Он ко Отцу: "Отче, в руки Твои предаю дух Мой". Когда услыхала Я этот вопль, Я, Его скорбнейшая Матерь, то задрожали все члены Мои от жестокой боли сердца. И сколько раз потом Я ни помышляла об этом вопле, он как будто все еще звучал в Моих ушах".[89]89
Briqittae Revelationes, lib. 1, cap. 10.
[Закрыть]
Недаром, пока Он еще мучился на кресте, сострадание Его к Матери Своей на много увеличивало Его муки, как говорит нам автор книги "Созерцаний" (Meditationes vitae Christi). "Она поистине вместе с Сыном висела на кресте и предпочла бы умереть вместе с Ним, чем дольше жить". Она молит о Страдальце-Сыне небесного Отца – пусть Он по крайней мере облегчит муки Его: "Отец, поручаю Тебе Моего Сына". А Сын в это время молился за Мать: "Отец Мой, видишь, как страждет Мать Моя. Я должен быть распятым, а не Она; а между тем Она со Мною на кресте. Достаточно Моего распятия, ибо Я понес на Себе грехи всего народа... Видишь Ее отчаяние; Отец, поручаю Ее Тебе: сделай посильными, выносимыми страдания Ее".[90]90
Meditationes vitae Christi, c. 78.
[Закрыть]
А вот сцена снятия со креста. Свесившуюся, освобожденную от гвоздя правую руку Его "Владычица подхватила с благоговением и прижимает к Своему лицу. Она взирает на Него и целует Его с обильными слезами и горестными вздохами".[91]91
Ibid., c. 81.
[Закрыть] «А когда тело со креста было спущено на землю» – рассказывает нам автор «Книги о страданиях Христа и о скорбях и плаче Его Матери» (из рукописи 13-го века) – "то Она, устремившись на Него, припав к Нему (super ipsum ruens), от безмерной скорби и безграничной любви пребывала как бы мертвой – prae incontinentia doloris et immensitate amoris quasi mortua stabat.
Стояла в головах умершего Сына Своего Матерь Его Мария, слезами орошая Его лицо; многоразличными стенаниями терзалась Она изнутри; неустанно лобызала Она чело Его и щеки, и глаза, и нос, и все тело, и плакала с таким обилием слез, что казалось, будто вся плоть Ее вместе с душой всецело растворялась в слезы. Слезами омывала Она безжизненное тело Сына.,." [92]92
Liber de passione Christi et doloiibus et planctibus Matris ejus, (приписывалось Бернарду Клервоскому – MIGNE, t. 182, col. 1139). Ярко изображает нам плач Богоматери и великий германский мистик SEUSE. (См. изд. DIEDERICH's, torn II, стр. 65 cл., 205 cл., 107, 109).
[Закрыть]
Эти сцены, эти переживания мук Иисуса и скорби Его Матери вдохновляют и церковное изобразительное искусство, внося в него (с особой силой во второй половине Средних Веков) струю глубокого, хватающего за сердце патетизма,[93]93
См. об этом E. MALE: L'Art reliqieux de la fin du Moyen Aqe en France, 1908, ch. I et II.
[Закрыть] вдохновляют они, уже с ранних времен, и религиозную лирику и в особенности церковную, богослужебную песнь.
Мы знаем, что Восточная Церковь в своих песнопениях плачет и скорбит, созерцая умственным взором страдания Богочеловека. Она плачет и вместе со Скорбящей Матерью, повторяя Ее сетования, созерцая и переживая Ее материнскую скорбь. Приведу хорошо известные по "Постной триоди" некоторые из песнопений Иосифа Песнотворца (Ιωσήφ δ Υμνογράφος) жившего в 9-ом веке, – из канона, что поется в пятницу 4-ой седмицы Великого Поста. Мы слышим здесь возгласы и рыдания самой безутешной Матери и Девы:
Егда Тя, Чадо, неизреченно родих, болезней избегох, и како ныне вся болезней исполнятся? Вижду бо Тя висима яко злодея на древе, землю неодержанно Повесивтаго, глаголаше Всечистая плачущи...
Умерщелену жизнь на кресте зряще, и не терпяще болезни утроб, рыдаше чистая Дева взывающе: Увы, Сыне Мой, что Тебе народ беззаконный воздаде?...
Ныне яко агнца незлобива зрю Тя висяща и от беззаконных ко кресту пригвождаема, Сыне Мой, ребезначальный, рыданъми терзаюся, и матерскими одержима есть болезнями, Всечистая вопияше…[94]94
Греческий текст у MIGNE, Parroloqia, Series qraeca, t. 105, col. 1372-74.
[Закрыть]
А вот, из канона Симеона Логофета, читаемого в Великую Пятницу:
Обешена яко виде на кресте Сына Своего и Господа, Дева чистая терзающися вопияше горце, со другими женами стеняще, глаголаше:
О страшном Твоем рождестве и странном, Сыне Мой, паче всех матерей возвеличена бых Аз: но увы Мне, ныне Тя видящи на древе, распаляюся утробою...
Се Свет Мой сладкий, надежда и живот мой благий, Бог Мой угасе на кресте, распалаюся утробою, Дева стеняши глаголаше...
Уязвена Тя видящи и без славы, нага на древе, Чадо Мое, утробою распалаюся, рыдающи яко Мати, Дева провещаваше...
Но вот тело умершего Страдальца снято с позорного древа и покоится на коленях Матери.
Приемши Его с плачем Мати неискусомужная, положи на колену, молящи Его со слезами, и облобызающи, горце же рыдающи и восклицающи: "Едину надежду и живот, Владыко, Сыне Мой и Боже, во очию свет раба Твоя имех, сладкое Мое Чадо и любимое...
Не изглаголеши ли рабе Твоей слова, Сыне Божий? Не ущедриши ли, Владыко, Тебя родшую? – глаголаше Чистая, -рыдающи и плачущи, облобызающи тело Господа Своего.
Помышляю, Владыко, яко к тому сладкаго Твоего не услышу гласа, ни доброты лица Твоего узрю, якоже прежде, раба Твоя: ибо зашел ecu, Сыне Мой, от очию Моею...
И все снова и снова раздаются эти рыдания, эти сетования Матери.
Избавляй болезни, ныне приими Мл с Собою, Сыне Мой и Боже, да сниду, Владыко, во ад с Тобою и Аз, не остави Мене едину: уже бо жити не терплю, не видящи Тебя, сладкаго Моего Света
Со другими женами мироносицами рыдающи Непорочная горце и носима видяше Христа, глаголаше: Увы Мне, что вижу! Камо идеши ныне, Сыне Мой, а Мене едину оставлявши?...
Точно также и в религиозной лирике средневекового Запада встречаем ряд «плачей» Богоматери над телом умершего Сына. Весьма распространены они в немецкой литературе.
Owe kint, din wenqel sint
dir so qar erblichen;
al din krait, al din math
ist dir so qar entwichen.
«Увы, Дитя Мое», восклицает в одном из них Мария, «побледнели совершенно Твои щеки. Совершенно исчезла вся Твоя сила, все Твое могущество».
Tot, owe tοt
tot, nu nim uns beide,
daz er also eine niht
von mir werde gescheiden.
«Смерть, увы, смерть! Смерть! возьми теперь нас обоих, чтобы Он не был таким одиноким, разлученным от Меня!»
Herzi brich! Kint nu sprich
Und las mich mit dir sterben,
ode ich muoz hie under dir
so jaemedich verderben.
«Разорвись, Мое сердце! Дитя Мое, молви Мне хоть одно слово и дай Мне умереть вместе с Тобою. Или Мне придется здесь под Твоим крестом погибнуть от скорби».[95]95
см. DR. ANT. SCHONBACH: Uber die Marienidaqen, 1874, p. 3-4.
[Закрыть] В Италии 13-го века широкие народные массы охватываются религиозным порывом. Из глубин народной жизни вырастает это религиозное движение, органически связанное с деятельностью и проповедью св. Франциска Ассизского. Яркое и стихийное (хотя уже более внешнее) проявление этого подъема имеем, напр., в движении флагеллантов, когда десятки тысяч людей неудержимым потоком в течении месяцев переходили из города в город, из селенья в селенье, громко каясь в грехах, призывая милосердие Божие и воспевая страдания Христа и муки Его Матери.
Ео Maria dolorosa
Veqo lo mio fiolo pennare
Oyme, fiolo qlorioso,
Lassa mi, che devo fare?
«Я, скорбная Мария, вижу, как страдает Мой Сын. Увы! Сын Мой преславный! Несчастная Я, что Мне делать?» – так звучит все снова и снова возвращающийся припев (в сборнике флагеллантских гимнов, правда, зафиксированных уже в 14-ом веке).[96]96
Il laudario dei battuti di Modena (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Heft 20, 1909 – гимны 37, 38; ср. еще гимны 36 и 41). Обзор ряда других итал. гимнов, посвященных «плачу» Богоматери, дан у WECHSSLER, 1. с., стр. 30 cл. У него же обзор и других романских и латинских средневековых плачей Богоматери. Ср. также W. MUSSHACKE, Altprovenzalische Marienklage d. 13 Jabrhunderts, Romanische Bibliothek № 3, Halle, 1890. Об итальянских средневековых гимнах в связи с религиозными движениями 13 века см., напр., D'ANCONA, 1. с. 1, 106; THODE: Franz von Assisi und die Anfänqe der Kultur d. Renaissance in Italien, 1885, p. 37; GASPARY: Gesch. d. ital. Literatm, I, 141; О флагеллантах см., напр., Л. П. КАРСАВИН: «Очерки», 1912.
[Закрыть]
Оплодотворенная этим духовным подъемом 13-го столетия, в недрах, в первую очередь, францисканства зародилась, как известно, итальянская религиозная лирика, полная простоты и глубины беспредельно захватывающего чувства. О характере этих гимнов – laude, нередко страстно-напряженных, имеем интересныя указания в статутах некоторых религиозных (флагеллантских) братств того времени. Так, в статутах "Братства Распятого" (Statuti della compagnia del Crocifisso) в Губбио читаем, что члены его должны собираться в церкви в ночь Великого Четверга на Пятницу "для слушания Страстей Христовых, одетые во власяные вретища. В этой церкви да будет с благоговением воспроизведены перед народом слезные "лауды" и жалостные песнопения и горестные сетования Девы и Матери, осиротелой, лишенной родного Сына; при сем больше внимания следует обращать на слезы, чем на слова".[97]97
«... audituri passionem Christi, induti vestibus disciplinae in qua ecciesia lacrimosas laudes et cantus dolorosos et amara lamenta Virginis Matris viduae proprio orbate filio cum reverentia populo representent magis ad lacrimas attendentes quam ad verba. Peractis vero laudibus revertant ad locum suum.» (WECHSSLER, 1. c., pp. 32-33). – (Cfr. D'ANCONA, 1. с., р. 164).
[Закрыть]
У великого францисканского мистика и поэта Якопоне да Тоди, в творчестве которого имеем венец религиозной песни итальянского средневековья, сочетается в его итальянском "плаче" Богоматери изумительная свежесть выражения с потрясающим патетизмом чувства. Дева Мария (Donna del Paradiso) переживает здесь на наших глазах шаг за шагом все фазы последней драмы Своего Сына. Его предали и схватили. Его влекут. Его отдали на истязание. Напрасно молит Она мучителей о пощаде, напрасно взывает к Нему, уже распятому:
O fiqlio, fiqlio, fiqlio! – fiqlio, amoroso qiqlio
fiqlio, chi da consiqlio – al cor mio anqustiato?
Fiqlio, occhi qiocondi, – fiqlio, со поп respondi?
fiqlio, perche t'ascondi – dal petto ove se lattato?
"О, Сын Мой, Сын Мой, Сын Мой! – Сын Мой, прекрасный, как лилия, Сын Мой, кто даст утешенье – Моему скорбному сердцу?
Сын Мой с радостными глазами, – Сын Мой, что Ты не отвечаешь?
Сын Мой, что Ты скрываешься – от груди, что Тебя вскормила?"
Когда Он испустил последнее дыхание на кресте, Она начинает Свои полные безмерной скорби сетования:
Fiqlio, 1'alma t'e uscita, – fiqlio de la smarita
fiqlio de la sparita – fiqlio attosicato!
Fiqlio bianco e vermiqlio, – fiqlio senza simiqlio,
fiqlio, a chi m'apiqlio? – fiqlio pur m'hai lassato.
Fiqlio bianco e biondo, – fiiqlio, volto iocondo,
fiqlio, perche t'ha el mondo, – fiqlio, cosi sprezato?
Fiqlio, dolce e piacente, —fiqlio de la dolente,
fiqlio, hatte la qente – malamente trattato!
"Сын Мой, душа Твоя отлетела – Сын скорбящей Матери,
Сын покинутой Матери, – Сын Мой, отравленный ядом!
Сын Мой, белый и румяный, – Сын Мой, Которому нет равного,
Сын Мой, к кому Мне обратиться? – Сын Мой, ведь
Ты покинул Меня!" и т. д.
Впрочем, излюбленное и наиболее яркое и законченное выражение нашел себе в Средние Века образ Матери, состраждущей распятому Сыну, в латинской религиозной лирике и в латинских песнопениях Церкви.
Плачьте все вместе со скорбной Матерью! Так Сама Она обращается к верующим, проходящим мимо креста:
Qui per viam perqitis, – Hic mecum sedete
Si est dolor similis, – Ut meus, vedete:
Meum dulcem filium – Pariter lugete.
Videte spectaculum – In cruce pendentis
More damnatitii – Crimina luentis,
Pro peccato populi – Mortem patientis.
«Вы, что проходите по дороге, посидите здесь со Мною: посмотрите, есть ли мука, равная Моей. Плачьте вместе со Мною над Моим сладостным Сыном. Вот – Он висит на кресте, искупая грехи, подобно осужденному преступнику; вот Он терпит смерть за грехи народа»...[98]98
Analecta hymnica medii aevi, t. X, p. 79. (DREVES-BLUME: Ein Jahrtausend lateinischer Hymnendichtunq, 1909, II, p. 249).
[Закрыть]
Мать с душой, пронзенной мечом страдания, скорбящая у подножия креста, на котором висит Ее Сын, вот -один из наиболее потрясающих сюжетов, какие можно себе представить, в частности – один из центральных сюжетов в церковной песне средневекового Запада. Все снова мысль верующих возвращается к этому образу, и они длительно останавливаются на нем, со смятенной и соболезпущей душой, плача и благоговея. Можно наметить целую цепь непрерывного, преемственного развития в процессе воплощения этого образа в церковной песне, особенно 11-го века;[99]99
См. об этом Analecta Hymnica VIII, 55 (DREVES-BLUME II, 248).
[Закрыть] предвосхищаются при этом уже целые выражения, стихи, даже группы стихов, вошедшие, воспринятые потом (в конце 13-го века) в классическое, высочайшее по законченности и силе, воплощение этого плача Западной Церкви, плача вместе со скорбной Матерью над распятым Единородным – именно в «Stabat» Якопоне да Тоди: