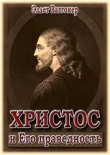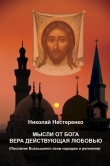Текст книги "Единый поток жизни"
Автор книги: Николай Арсеньев
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Глава шестнадцатая
Моя аудиенция у папы Иоанна XXIII-го
Папа Иоанн XXIII был великий праведник, смиренный и охваченный порывом жертвенной любви – служением любви. Самые первые его выступления после избрания его конклавом: как он выбрал себе имя «Иоанн» из особой любви и почитания к апостолу любви – Иоанну Богослову, как он был добр, смирен и приветлив, и прост в обращении, как он стал ходить пешком по улицам Рима без всякой охраны, и особенно как он стал говорить о внутреннем перерождении христиан, об их духовном росте, как необходимых предпосылках к единению – все это все больше возбуждало мое восхищение (это чувство возбуждал он, как известно, во многих и многих людях). При случае в разговоре с одним приятелем, очень видным католическим богословом, живущим в Америке, я сказал как-то: «Как я был бы рад и счастлив иметь аудиенцию у этого папы! Но конечно, это вряд ли возможно, так как я не имею никаких данных для получения такой аудиенции; я мало известный человек, занимающийся вопросами христианского миросозерцания, не имею ни сана, ни высокого положения, и притом не католик». На это мой собеседник мне ответил, что такую аудиенцию нетрудно устроить. Это было в конце марта или в апреле 1959 г. (в конце января 1959 г. папа Иоанн XXIII в пэрвый раз выступил с торжественным заявлением о желательности единения всех христиан, а также и созыве Собора всей Католической Церкви для обновления внутренней жизни Церкви). Через месяц после нашего разговора мой приятель мне сообщил, что он получил письмо из Рима, что папа Иоанн «riceverà volontieri» («с удовольствием примет») профессора Арсеньева. Как только выяснилось, что я смогу поехать летом в Европу, я написал в Рим о времени своего приезда – по указанному мне адресу. Ответа не последовало и лишь на третий мой запрос я получил уже в Европе (Женеве), сообщение, что окончательный ответ об аудиенции дается, по правилам Ватиканского «протокола», только по прибытии данного лица в Рим. Тотчас по приезде в Рим я позвонил прелату, ведшему переговоры, и тот сообщил мне, что он теперь сделает окончательный запрос и что через дней пять-шесть, не позже как через неделю, будет дан окончательный ответ. И действительно мне было сообщено через 6 дней, что папа Иоанн XXIII примет меня в личной аудиенции 8-го сентября 1959 г., т. е. через день, в своем загородном дворце в Кастельгандольфо. Но ведший переговоры сообщил мне. еще, что должны прислать еще накануне вечером официальное письменное приглашение мне, которое пришлют по его адресу, а он тотчас же мне его доставит. Вечером 7-го сентября никакого письменного приглашения не пришло, что ведший переговоры прелат подтвердил мне утром 8-го по телефону. Что делать? Приглашения нет. Но не хочу ли я отправиться на прием к старшему из коллегии кардиналов – кардиналу Тиссерану, на что я с благодарностью выразил свое согласие. Прием у кардинала был мне назначен на утро 9-го сентября, в его приемных покоях на Via della Conciliazione (около площади Св. Петра). Я изложил кардиналу, какое глубокое впечатление на многих христиан, в частности на меня, произвело заявление папы Иоанна о желательности шагов в сторону единения христиан и о желательности созыва Собора Католической Церкви. Я сказал при этом, что я никак не уполномочен говорить по этому вопросу, что я говорю только от собственного лица и что я глубоко приветствую, как и многие другие христиане (например и в протестантском мире), это выступление папы; далее, что я думаю -опять это мое личное мнение и я не получил полномочий высказывать его от какой-либо части нашей Церкви – что православные, конечно, не могут (с точки зрения общей обеим Церквам) быть членами этого Собора, но что было бы, по моему, желательным, чтобы «en marge du Concile» (я говорил с кардиналом по-французски), так сказать «на полях Собора», одновременно с Собором, но не-официально, происходили братские беседы по самым важным вопросам разделяющих в данный момент обе Церкви, между православными и католиками (также может быть между католиками и другими христианами). Такие не-официальные братские разговоры между видными представителями обеих Церквей могли бы может быть повлиять до известной степени на позицию Собора при обсуждении им этих вопросов. Кардинал был очень любезен и приветлив; я был у него около 20 минут.
Вечером я сижу в своей комнате и уже отчасти готовлюсь к близкому отъезду, как раздается стук в дверь и входит, весь одетый в черное, тот самый прелат, который вел переговоры о моей аудиенции. Он мне привез письменное приглашение на следующий день – 10-го сентября, в 12 часов дня в Кастельгандольфо – и это приглашение я должен был взять с собой. Дело в том, что папа перед тем был болен 3 недели и никого из посторонних в это время не принимал, поэтому произошло большое накопление ауденций, и моя ауденция не могла поэтому состояться в назначенный день. Впрочем и теперь, в виду накопившихся аудиенций, – так сказал мне мой посетитель, моя аудиенция будет, к сожалению, очень короткой: две минуты, в лучшем случае три минуты. Завтра утром ровно в 11 часов утра заедет за мной один из ватиканских автомобилей и отвезет меня в Кастельгандольфо (это 32 км от Рима). Одетым нужно быть в темносиний костюм (с темным или серым галстуком), теперь все это упрощено отменено требование быть в визитке. На другое утро сажусь в 11 часов в большой черный-лаковый ватиканский автомобиль у ворот дома, где я жил. Он быстро везет меня через Рим и через Кампанию, мимо арк Клавдиевского акведукта. Почти незаметно начинается подъем в гору и через 30 минут въезжаем во внутренний двор папского дворца Кастельгандольфо. Подымаюсь по подъемной машине два этажа. Меня встречает швейцар в черном фраке и два дежурных придворных чина в темно-пунцовых шелковых камизолах и отводят в комнату, третью от подъемной машины и приглашают сесть и ожидать. Осталось ровно 30 минут до срока приема. Я осматриваю мебель – типично итальянская дворцовая 17-18 веков. Высокие кресла с высокими и потом немного сгибающимися спинками, пол мраморный двухцветный – зеленый с белым, два мраморных стола на витых золоченных ножках. На одном – большие бронзовые часы – между двух золоченных канделябров, на другом – большое бронзовое золоченное распятие. Время медленно и сосредоточенно проходит. В 12 часов бьют часы, в разных местах, но с разнобоем, так что этот бой длится несколько минут. В 12 часов 5 минут раскрываются те же двери, через которые я вошел, и швейцар вводит группу мужчин парами; все в темно-синих костюмах – лет 40-60, но есть и юноша лет 18-19 со своим отцом. Всего их человек 12. Мне предлагают присоединиться к этим парам сзади, и мы все направляемся дальше вглубь дворца. Проходим еще комнату и, наконец, во второй от той, где я сидел, очень длинной, с возвышением у противоположной стороны, на которой стоит большое золоченное кресло, с рядом высоких кресел вдоль других стен. Мы все садимся в расстоянии 3-4 шагов друг от друга. Значит, думаю я, аудиенция будет полусовместная; не только папа будет с каждым говорить не больше 2-х минут, но все, что он мне скажет или что я ему скажу, будет слышно соседям и справа и слева. В это время входит опять дежурный придворный чин и громко вызывает: "Il professore Niccolò" ("профессор Николай").
Я иду один за ним в следующее, соседнее помещение, и опять меня сажают. Это уже – очень большая, длинная зала (в роде коридора) и мне кажется, что обстановка еще богаче. Мраморный пол уже не двухцветный, а пятицветный; (розовый-белый-черный-зеленый и, кажется голубой). Это уже шестая комната после подъемной машины. Вдруг идет по коридору ко мне навстречу высокий, худощавый, уже не молодой прелат с широким лиловым поясом, с коротко-остриженными седеющими волосами, с аскетическим и одухотворенным лицом мыслителя и подвижника, в очках, и берет меня за руку. Он ведет меня к двери напротив, отворяет ее, впускает меня и закрывает ее за мной. Я вхожу один. Передо мной очень большая комната. Окна и свет с двух сторон: прямо напротив и направо (до сих пор окна были только справа; значит я дошел до конечной комнаты этого этажа). Напротив – письменный стол; за ним сидит лицом к двери папа Иоанн в своем белом одеянии. Он протягивает по направлению ко мне руку. Я подхожу, становлюсь на одно колено и целую его перстень с инициалами Христа, а он знаком приглашает меня сесть у стола в кресло. Кресло стоит не против него, спиной к двери, а с узкой боковой стороны стола, совсем близко от его кресла: "Я очень рад, что Вы пришли, Вы хорошо сделали, что пришли", говорит он мне по-французски. – "Ваше Святейшество, позвольте Вам сказать, что на многих христиан произвело большое впечатление то, что Вы сказали об единении христиан, и я молю Бога, чтобы Он помог Вам сделать некоторые подготовительные шаги в этом направлении", так ответил я ему, приблизительно повторяя то, что я сказал кардиналу Тиссерану. – "Знаете ли Вы, из чего я исхожу? " ответил папа. "Я исхожу от Молитвы Господней – от первых трех ее прошений:
– Да святится Имя Твое
– Да приидет Царствие Твое
– Да будет воля Твоя!
Если Его имя будет прославляться в нас и через нас, если придет к нам и будет царить в нас и руководить нами Его Царство, если Его воля будет твориться в нас и через нас – тогда мы будем все едины".
"Вы знаете, как я пришел к решению говорить о необходимости стремиться к единству христиан? В конце января этого (1959 г.) года я служил мессу в течение "Недели единства"[212]212
По инициативе замечательных деятелей христианского единения – англиканского монаха о. Францис Джеймс, а позднее – Лионского аббата Павла Кутюрье, Католическая Церковь, некоторые ветви Православных Церквей, англикане и некоторые Протестантские Церкви решили каждый год в конце января совершать в течение недели моление об единстве христиан.
[Закрыть] и во время обедни пришла вдруг в голову мысль, не сказать ли мне что-нибудь об единении христиан. Но я сначала отогнал эту мысль. На другой день опять во время совершения мессы приходит она мне в голову. Тогда я обратился за советом к некоторым присутствовавшим при мне кардиналам и епископам: "Как вы думаете, хорошо ли бы было, если бы я сказал что-нибудь о желательности единения христиан? « Они мне ответили: „Конечно Святой Отец, это никак не может повредить. Может быть Святой Дух внушает Вам эту мысль!“ – И тогда в соборе св. Павла в последний день моления я сказал слово перед собравшимися кардиналами и епископами на эту тему». И он продолжал: "Нам нужно следовать словам апостола Павла, который говорит в Послании к Ефесянам, что Господь хочет «освятить Церковь... чтобы представить ее Себе славною Церковью не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф 5. 26, 27). Вот если мы станем очищаться и совершенствоваться, и если протестанты будут очищаться и совершенствоваться, и вы будете очищаться и совершенствоваться, то мы подготовим себя этим к единению. Ибо кто мы такие? Мы все – пустые сосуды. Благодать дается свыше. "И еще одно, – прибавил папа, – мир теперь, в значительной части своих обитателей, потерял веру в Бога, но мир при этом глубоко несчастен. Вот мы должны идти к миру и проповедовать ему спасение, данное во Христе. Оно одно может спасти мир от отчаяния. Вот если мы будем проповедовать, и другие христиане будут проповедовать, то мы, тем самым подготовимся к единению. "На это я позволил себе сказать: «Да, Святой Отец, я совершенно с Вами согласен. Но как проповедовать тем, кто никогда не придут слушать проповеди? Ведь среди неверующих очень много хороших и честных представителей молодежи, которые потеряли веру из-за пережитых ужасов войны и связанных с ней разрушений, потери близких, разгрома семьи и родины, ужасных и непонятных страданий. Они потеряли веру в Правду Божью. Как им проповедовать?» – «Свидетельством любви, свидетельством служения любви». После этого папа спросил меня: "Вы печатали какие-либо книги? " Я ответил: «Да, Святой Отец, и я очень хотел бы поднести Вам одну, но не посмел, так как я не знал, получу ли аудиенцию и не успел потому отдать ее переплести». – "Она у Вас с собой? " – «Да, Святой Отец». – «Дайте мне ее так, как она есть». Тогда я поднес папе Иоанну уже приготовленный мною на всякий случай экземпляр моей книги – «La sainte Moscou»[213]213
Вышла в Париже (Les Editions du Cerf), в 1949 году.
[Закрыть] со сделанной уже мною надписью. «А есть здесь Ваш адрес?» – «Нет, Святой Отец». – «Так напишите вот внизу Ваш адрес». Что я и сделал. «А теперь я хочу», сказал папа, «дать Вам от себя маленький подарок». И с этими словами он открыл ящик письменного стола, и вынул маленькую кожанную коробочку с Ватиканским гербом и протянул ее мне. В ней была бронзовая медаль папы Иоанна в профиль.
После этого я понял, что аудиенция кончилась и нужно уходить и, став на одно колено, я поцеловал его перстень.
– "Да я забыл Вас спросить, из кого состоит теперь Ваша семья!" спросил папа. Я ему сказал. – "Я буду молиться за них!"
Когда я вышел из кабинета папы, я посмотрел на часы: я пробыл у него 25 минут. Опять меня встретил в продолговатой комнате – тот же немолодой уже прелат с одухотворенным, аскетическим лицом. "Il Santo Padre è un santo" ("Святой Отец – Святой"), сказал я ему. Те же слова сказал я человеку, обслуживающему подъемную машину.
Глава семнадцатая
Религиозный кризис наших дней и роль Православной Церкви в современном мире
1
Какая роль принадлежит Православной Церкви в современном мире? Роль эта ответственна и велика, настолько велика, что даже можно сомневаться, способны ли отдельные члены – более того, весьма многие из членов – Православной Церкви эту ответственность нести. Но вопрос идет не об отдельных членах Православной Церкви – отдельных иерархах, мирянах, ученых богословах, школах, приходах, а о всей Церкви в ее основе, в глубочайшем ее вдохновении. Эта Церковь противостоит той субъективизации, вернее, распылению, или даже подмене веры, которая охватила широкие круги современного христианского мира, и в этом она является союзницей всех истинно верующих и на Западе. Православная Церковь там, где она жива, продолжает жить из неослабного созерцания великой тайны исторического прорыва Бога в мир: великой тайны Воплощения. История и – всепревосходящая Божественная Реальность, Вечная Жизнь, вошедшая в мир (1 Ин 1. 12).
Невозможное стало возможным. Мост установился между Богом и миром, и этот мост – Сын Божий. В этом "недоуменном", радостном и трепетном созерцании тайны христианское благовестив верно себе с самого начала проповеди до наших дней. И оно живо в недрах Православной Церкви, неотъемлемо от нее, составляет всю сущность ее. Это касается, конечно, не только Православной Церкви. Это составляет основную сущность христианского благовестия вообще, везде и повсюду. Но западный христианский мир в современном протестантизме, особенно в Америке, но и в Европе, все более отходит от этой сущности, этой основы Благой Вести, заменяя веру в совершившийся факт, встречающий нас в центре истории, исключительным ударением на субъективные мои переживания. Но мои переживания сами по себе не спасут, а то, на что устремлены и из чего они родились: исторический прорыв Божий в мир в лице Единородного Сына Божия.
2
"Иоанновское" трепетное созерцание тайны Воплощения, это то, чем христианство живет. Это есть центр и основа и содержание христианского благовестия. Против этого в христианском мире нарастают две тенденции: моральное размягчение, боязнь подвига, боязнь победного и радостного призыва к самоотречению, и размягчение религиозное – отсутствие трепета, отсутствие сознания трепетной тайны снисхождения Божия: Бог представляется лишь пантеистическим потоком жизни, в котором мы участвуем и который проявляется через нас. Новозаветное учение о Боге-Спасителе, и о предшествовавшей этому спасению нашему пропасти между Богом и падшим творением, пропасти, заполненной добровольным отданием Себя Сына Божия, отвергается, как "мифологическое", или более или менее игнорируется. В таком понимании, христианство состоит в том, чтобы служить здешнему нашему миру, не ведя его вверх к Богу "за пределы мира" (если можно так выразиться), в том, чтобы, просто помогая ему, ввести социальные улучшения. Христианская религия становится резко посюсторонней и только посюсторонней, тогда как она должна быть устремленной на Бога и на Его снисхождение, т. е. захватывающей и Бога, и мир, но и мир и братьев – в Боге. Да, идти в мир, да, проповедывать ему спасение, но прежде всего – спасение в Боге, в вочеловечении Сына Божия, а затем уже разные, вытекающие из этого, применения Правды Божией к различным условиям земной жизни, социальным и другим. Ударение перекладывается у некоторых представителей современного христианства с Бога на социальное законодательство в духе "Народного Фронта". При этом у одних ударение на демократию, у других на демократию с примесью советского (идеализированного) коммунизма. Между тем и демократия может быть "Богу послушна", и тогда она почтенна. Но она не есть Бог, а только должна воспитаться для того, чтобы стать служительницей Божией. С подчиненного, производного, с того, что само по себе слабо и убого, как все человеческое, взор должен самым решительным образом быть переведен на Того, Кто дает силу и освящение.
Эти мысли приходят в голову при слушании или чтении проповедей или книг многих современных, главным образом англиканских и протестантских проповедников, а также, напр., при чтении исходных тезисов ("drafts"), предложенных собравшемуся летом 1968 года в Упсале Мировому Экуменическому Съезду, где главный упор делается – несколько односторонне – на материальное и социальное положение наших братьев, требующих нашей помощи, а духовной их нужде уделяется меньше внимания.[214]214
Несколько поверхностно звучит, напр., такое определение Церкви: «Церковь как общество радостных людей» ( это звучит довольно безвкусно-эмоционально но только в переводе), «которые имеют надежду и жизненно значительную весть для мира, которые борются за экономическую справедливость и за человеческое достоинство, которые исподнены заботы о больных и униженных и признают полную ответственную свободу научных изысканий и искусства»... («Drafts for Section. Uppsala, 1968. Edited by World Council of Churches», Geneva, 1968).
Это все очень хорошо; но неужели Церковь только это? Какое сентиментально-однобокое и легковесное определение! Неужели эти прекрасные и заслуживающие одобрения плоды не указывают прежде всего на основную стихию – на жизнь в Боге и на ту Святыню, тот Источник, из которого Церковь живет?
[Закрыть]
Какая формулировка была бы самой современной, т. е. написанной с точки зрения и истории и Вечности и – прежде всего – прорыва Божия в мир? Та, которая выражена в I послании ап. Иоанна, так сильно, как и Сам Господь в Своей прощальной беседе, подчеркивающем Любовь к брату. Как может "не любящий брата своего, которого видит, любить Бога, Которого не видит?" (1 Ин 4. 20). Но все это вытекает из того, что: "Он положил за нас душу Свою. Поэтому и мы должны полагать души наши за братьев" (3. 16). В этом – христианство.
Рушатся в мире основы "капиталистически-социалистического" благополучия (а коммунистического благополучия вообще пока и в помине не было). Не страшно это для тех, кто имеет Бога, Который превыше мира и может быть опорой для нас, хотя и находящихся в мире, но тем не менее не вполне тождественных с миром. Но тем, для кого Бог сливается с миром, для кого социальное благополучие мира – как для некоторых современных богословов – почти заняло место Бога? За что же им ухватиться, если это благополучие колеблется и рушится? На это они не отвечают.
Формы этой новой квази-христианской религиозности (некоторые из наиболее решительных представителей новых течений прямо говорят о "безбожной религиозности") весьма многообразны и различны. Некоторые, напр., говорят о том, что спасение – в Прогрессивной Демократии, или вообще в Человечестве, в социальном коллективе, в братском единении человечества. Получается некое своеобразное религиозное "народничество", какая-то странная религия "Человекобожества",[215]215
"La vocation derniére des Eglises ne serait-elle pas finalement de disparaftre comme Eglises pour laisser la place â cette religion universelle de I'homme? " – ANDRE MONJARDET.
[Закрыть] которая может быть преддверием или приближением к некоему утопическому коммунизму.
Конечно, такие взгляды особенно сильно проявились в протестантизме и англиканстве, в католичестве они представляют – явное или затемненное – непослушание Церкви, разрыв со всей ее традицией, затемненной употреблением освященных всей религиозной практикой и религиозным опытом Церкви богословских терминов, но внутренне "опустошенных", лишенных своего смысла, своего отнесения к Высшей Божественной Реальности. И здесь мы присутствуем при великом религиозном соблазне капитуляции перед этим нашим миром, который провозглашается единственно существующим и занимает место Бога. Это может привести к соблазну поклонения Зверю. Это соблазн крайней безблагодатной социализации христианства, отождествление "благой проповеди" с царством сытости и "социальной правды" на земле (а эту "социальную правду" склоняются часто эти проповедники социального нео-христианства отождествить с царством насильственной регламентации всей жизни человека, – с царством коммунистического деспотизма). Этот соблазн поклонения "Золотому веку" здось на земле, соблазн коллективного "Золотного тельца", воспринимаемого притом в агрессивно-коммунистических тонах, захватил немало молодежи (между прочим, и молодых священников) в католичестве и в англиканстве и в протестантизме. В католичестве он вместе с тем соединяется с – часто вполне сознательным – непослушанием по отношению к Церкви, чем невольно подчеркивается чужеродность этих стремлений. В протестантизме и англиканстве такой вопрос о послушании Церкви в общем не ставится, можно под прикрытием некоторых христианских формулировок, оставаясь членами христианских обществ, очень определенно проповедовать анти-христианство.
А иногда христианство и анти-христианство в этих учениях смешиваются, но вдохновляющий импульс исходит во многих случаях от анти-христианской установки, отрицающей, как басни, как миф, прорыв Божий в мир и спасение мира через снисхождение все-превосходящей, творческой, недосягаемой и недомыслимой (по выражению Василия Великого) и добровольно отдающей Себя нас ради Любви Божией. Конечно, такие воззрения несовместимы с католическим учением, и потому эти тенденции гораздо более распространены в протестантском мире, чем в католическом. Самый факт появления таких настроений среди лиц (в том числе и духовных), официально с католичеством не порвавших, находится в связи с огромными духовными сдвигами, оживлением и часто даже изменениями, происходящими в католической среде после Второго Ватиканского Собора.
Этот замечательный Собор был созван как раз для обновления жизни Церкви на незыблемой основе апостольской проповеди. Много было им сделано для оживления духа соборности, для пробуждения чувства ответственности верующих. Преодолен был в значительной мере дух внешне-формалистического, схоластического подхода к вопросам духовной жизни, мешающий ее развитию. Но вместе с тем после Собора стала колебаться кое-где церковная дисциплина и раскрылись неожиданно глубины хаотического брожения, существовавшего уже раньше, но теперь получившего большую свободу выражения. Положительные плоды деятельности Собора для жизни Католической Церкви и всего христианского мира следует расценивать очень высоко, но опасность от элементов разложения не устранена. С увеличением плодотворной динамики церковной жизни увеличилась и напряженность духовной борьбы внутри самой Католической Церкви. Изменения в католическом мире идут, таким образом, как в сторону оживления и углубления, так и в сторону ослабления веры и ее сознательной или бессознательной подмены в угоду тенденциям, ярко выступающим в современном мире.
Мне думается, что духовные силы, с такой глубиной и вдохновенностью проявившиеся на Соборе, помогут преодолеть эти соблазны. С другой стороны, проблема единения христиан на основе всей полноты и всего радикализма не преуменьшенного христианского благовестия, стала теперь особенно явственно и настойчиво перед христианским миром. (Так, напр., неоднократно об этом говорил и свидетельствовал покойный патриарх Константинопольский первый по почету епископ Православного мира – Афинагор I, старец апостольского духа и молитвенного горения).[216]216
См. интересную книгу православного француза: OLIVIER CLEMENT: Dialogues avec le Patriarche Athénaqoras. Paris, 1969. Fayard.
[Закрыть]
3
Кризис веры и миросозерцания вообще сейчас в мире огромный. И ставится невольно вопрос: неужели случилось то, что рисует Достоевский во сне Версилова в "Подростке"? Отлетела от людей идея Бога. Борьба кончилась, замолкли яростные крики, стало тихо и спокойно, но... покинула людей эта великая идея, и... люди поняли вдруг, что они осиротели. Но поняли ли это современные люди, те, которые проповедуют "религию без Бога", совсем земную религию" без Того, Кто Свыше?
Итак, перед нами процесс выветривания веры в современном мире. Важно отметить, как это произошло. Всегда было и будет существовать агрессивное неверие. Христианство с самого начала всегда было "для иудеев соблазн и для эллинов безумие" (1 Кор 1. 23). В этом ничего нового нет. Отрицание Бога с точки зрения атеистического материализма или "научного рационализма" сильно распространилось уже с конца 18-го века, в течение 19-го века и мы в 20-ом веке встречаем только продолжение тех же течений. Конечно, успехи техники и научного исследования космоса достигли в 20-ом веке такой высоты, что голова закружилась. Но разве это значит, что современное научное миросозерцание теперь, более чем когда-либо, исключает религиозную веру, более, чем когда-либо, противоречит религиозному миросозерцанию? Открылись такие глубины строения физического мира, захватывающие дух, там, где глубочайшие основы материального в глазах науки распыляются в энергию, что наивный "научный" материализм 19-го века умер навсегда. Что там в глубинах? Что есть конечная основа или пред-основа мира, источник энергии, насыщающей мир? На это наука не может дать ответа. Но, как справедливо замечает Sir James Jeans в конце своей знаменитой книги "The new Background of Science", "мы можем сказать, что современная наука благоприятна идеалистическому миросозерцанию" (... we may say that present-day science is farourable to idealism).[217]217
Цитирую по изданию Ann Arbor Paperbacks, The Univ. of Michigan Press 1969, стр. 307 (первоначальное издание вышло в Кэмбридже: Cambridge Univ. Press).
[Закрыть]
Артур Эддингтон, другой великий физик 20-го века, свою книгу "Природа физического мира" заканчивает главой: "Наука и мистика". "Предпосылку для физических наук, – пишет он, – составляет некий задний фон, который находится по ту сторону наших физических изысканий. В этом заднем фоне мы должны обнаружить сначала собственную личность, а потом, может быть, и некую большую Личность (and then perhaps a greater Personality). Идея Всемирного Мыслящего Духа, или Логоса, была бы, по-моему, вполне возможным выводом из современного состояния науки, по крайней мере, гармонировала бы с ним". Мы видим из этих примеров (а их можно было бы умножить), что, в глазах первоклассных представителей и двигателей современной науки, атеизм отнюдь не есть необходимый вывод из достижений современной науки. Картина тайны, а отнюдь не безбожного, пустого мира предносится глазам и Эддингтона, и Джинса.
Вспоминаются слова великого Эйнштейна, что, если кто хочет изучать физическое строение Космоса и не признает Божественной Мудрости, проникающей его, то он советует тому оставить свое изучение, ибо тот все равно ничего не поймет. Эйнштейн придерживался, конечно, пантеистических воззрений, но признавал Божественное начало, проникающее бытие мира.
Из примера этих больших ученых явствует, что нет никакой необходимости быть "запуганным" развитием науки. И тем не менее такая запуганность есть. Страшно человеку перед подавляющим огромным молчанием." Молчание этих бесконечных пространств меня пугает" – так характеризовал такие переживания еще Паскаль. Это -естественный страх и ужас человека перед кажущимися немыми и безбожными бесконечными пространствами вселенной. И нет на это другого ответа, кроме того, который всегда был и прежде: встреча с Богом. Основание, часто приводимое теперь людьми, запуганными продвижением вперед науки, – что современное научное миросозерцание несовместимо с верой в Бога в христианском (и вообще теистическом) смысле слова, таким образом отнюдь не ново и не убедительно и вызывало в свое время ответы у ряда глубочайших религиозных мыслителей прошлого (у Паскаля, Достоевского и др.). Но сомнение в традиционной вере в Бога —так говорит нам, напр., ряд "критически" настроенных богословов – вызвано в последнее время еще и специальными причинами – невероятными успехами техники, особенно в исследовании и "завоевании" космического пространства, а, с другой стороны, ужасными потрясениями, связанными с мировыми политическими событиями. "Аушвиц" – "немецкие нацистские лагери смерти!" – так в один голос говорят проповедники нового "безрелигиозного" христианства, как, например, американцы Thomas Altizer и William Hamilton.
"Завоевание" космического пространства (конечно, пока еще очень незначительное, находящееся лишь в начальной стадии, несмотря на блестящие успехи с луной), это "завоевание" и стало очень подходящим поводом для горделивого провозглашения человеческой цивилизации без Бога и против Бога." Мы были в космическом пространстве, но Бога не нашли" – так, например, с невероятной примитивностью провозглашала советская антирелигиозная пропаганда устами некоторых своих космонавтов. Но с "завоеванием" луны картина вдруг изменилась: человек потрясен – безграничным величием вселенной и единства действующих в ней законов. Борман читает из каюты космического корабля о создании мира из книги Бытия и из Евангелия от Иоанна: "Вначале сотворил Бог небо и землю"... "Все через Него начало быть и без Него ничего не начало быть, что начало быть". Эти достижения – не только величайший вклад в науку, но и поучительным образом показывают внутреннее, основное соответствие законов, управляющих структурой космоса, с познавательными способностями человека. Ибо в основе всего, как чувствуют верующие ученые, – один Источник: Божественный Разум.
Третья, и главная, может быть причина столь сильно пробудившихся ныне – даже в среде "передовых" богословов нашего времени – религиозных сомнений: ужасы страданий, торжествующей несправедливости палачей и муки убиваемых и истязаемых (не только в нацистских, но в еще гораздо большем масштабе – отчасти и доныне – в советских лагерях; на последнее, впрочем, американские и английские передовые богословы мало обращают внимания). Страдание есть вместе с тем вечная, испокон веков существующая и самая трудная проблема, всегда ставившаяся (ср. у Достоевского), но теперь вставшая перед нашим сознанием может быть с еще особой силой и яркостью. На нее нет теоретического адекватного ответа, кроме одного – мистического, он же исторический ответ: страдание Сына Божия, в котором дается ответ не в смысле объяснения, а в смысле победы – над страданием и смертью. Этим чувством и уверенностью в победе, уже совершившейся, в подвиге Закланного Агнца Божия, полна, напр., книга Откровения Иоанна Богослова.
Вот – три главных корня, приводимых современными протестантскими и англиканскими богословами, проповедующими "благочестивый атеизм", "христианский атеизм", как они это свое миросозерцание называют. Все три источника их неверия (или, может быть, иногда и три повода к нему?), все эти факторы, побуждающие их создать и провозгласить современное благочестивое миросозерцание без Бога (или – другая формулировка: "безрелигиозное христианство") уже давно – как мы видели – существуют в мире. Конечно, очень усилился фактор № 2 – головокружительные, совершенно невероятные успехи человеческой техники, которые у некоторых из этих современных писателей и мыслителей создают веру во все растущее могущество человека. К чему тогда Бог? – "Мы не видим в Нем нужды". Таков ход мыслей, напр., у Хамильтона и других столпов американского теоретического направления, назвавшего себя "Death of God theology" – "Богословием смерти Бога" (не смерти Сына Божия – добровольной и искупительной на кресте, а иной совсем "смерти Бога", будто бы уничтожающей Бога "за Его ненадобностью"[218]218
W. HAMILTON, 1. c., pp. 27-28. (Cf. Charles N. Bent S. J." The Deathof-God-Movement, Paulist Press. N. York. 1967).
[Закрыть]).