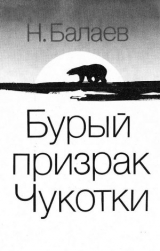
Текст книги "Бурый призрак Чукотки"
Автор книги: Николай Балаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Когда упорно и методично занимаешься каким-то, на первый взгляд даже призрачным делом, в один прекрасный день вдруг замечаешь, что полоса невезений тает. Начинает действовать знаменитый закон о переходе количества в качество, и обстоятельства, из которых она слагалась, как одушевленные существа, под давлением кучи фактов сдаются один за другим.
Однажды Жорж Павлюков, совхозный механик-водитель, один из старожилов Северной Чукотки, к которому мы особенно рьяно приставали с расспросами, посоветовал:
– Поговорите с Инайме. Кто-то в его яранге рассказывал похожую историю. И про зверя, и про птиц. Есть такое место в горах.
Так появилось очередное свидетельство. Теперь уже о самой Нутэнут. Как встретиться с Инайме? По связи было известно, что его бригада несколько дней назад прикочевала на Реку и встала за сопкой Скрипучкой к северу от дома, километрах в двадцати. Был бы я один, можно съездить на собачках. Два-три дня. Но оставлять своих нельзя, горы есть горы.
Пока я раздумывал, все решилось по принципу «не было бы счастья, да несчастье помогло». Стадо бригады пуганули волки. Зарезали переболевшего копыткой истощенного старого быка, а ближний край разогнали. Полтораста штук через низкий перевал прибежало в нашу долину. Жена сообщила об отколе по связи.
Через два дня за оленями пришли Инайме и Тынагыргын. Осмотрели откол, пересчитали – все нормально. А вечером, после ужина, за «длинным чаем» мы и завели разговор, результатом которого оказалось создание карты таинственной Нутэнут.
– Я знаю это место, – сказал Инайме. – Отсюда, если сейчас – три дня идти надо, если позже – четыре: скоро темно будет, солнце уйдет, день совсем съежится. Только утро и сразу вечер. – Он рассмеялся. Встал, чай попил – опять ложись… Если хочешь – пошли с нами. Как раз по дороге. Придем в яранги, а там еще день до долины, где течет речка Номкэн. Она справа в нашу Реку входит, под сопкой из белого камня – Эльгыквынайкай. Эту сопку, Белокаменную, хорошо видно, запутаться нельзя… Идем?
Я посмотрел на своих и покачал головой. Потом положил лист бумаги и дал ручку:
– Рисуй.
– Повернешь на Номкэн, – продолжал Инайме, – по льду не ходи, только берегом. Там берега хорошие. Кустов много, густо ольха растет. День идешь, увидишь – на берегу сопка низкая, плоская, Ыплылу – Желтая. Река ее пилила, вся в обрывах сопка, далеко блестит. За ней сопка Левтыпильгын, Голова барана с шеей. Между ними невысокий бугор с большим камнем на верхушке – Вувэвыйгын, Каменный. Все три, как валуны, от гор к речке выкатились…
Инайме говорил, часто прерываясь, чтобы рука успевала создавать на бумаге детали местности.
– Когда поднимешься на Желтую сопку, с нее все увидишь: и речку – она дугой вокруг этой кучки, – и баранью голову, и камень. Если все совпало, ищи в обрывах Желтой норки. Их много. Какие снегом забиты, какие открыты. Там и живут Кайпчекальгын. Внутри, в земле, ходы. И все соединяются. Когда бывает тепло и птицы проснутся, сунешь в одну руку, а они из других – фить-фить.
– Эти Кайпчекальгын в чужой яранге живут зимой, – сказал Тынагыргын. – Летом норки копают другие птицы. Такие, – он удивительно сжал кисть руки и выставил рогаткой два пальца.
Чукчи очень точно изображают зверей и птиц, их облик, характерные позы на охоте, у норы, на отдыхе. И я не стал напрягаться, отыскивая аналогии – Тынагыргын показывал ласточку.
Я взял справочник, открыл красочную страницу, Тынагыргын, прищурившись, окинул ее внимательным взглядом и среди многих изображенных птиц без колебаний указал на ласточек-береговушек. А они, как утверждают все справочники, в тундре не селятся. Но тогда откуда их знают пастухи? Значит, селятся? Интересный получается симбиоз: ласточки-береговушки, пожив лето в «запретных» местах, на зиму улетают в тропическое тепло и «сдают» квартиры Солнечным Птицам. Те всю зиму пользуются жильем и присматривают за порядком в нем, а весной, к прилету хозяев, освобождают. Северная четкая рациональность.
– Правильна, пра-а-авильна, савершенна вер-на-а! – победно пропел сын и заявил: – Мы их видели даже два раза.
Да, были такие случаи. Как-то в отсутствие хозяина окрестностей медведя Моквы мы пошли осмотреть его усадьбу на террасе сопки Скрипучки. Обычно ходили туда редко и с осторожностью, причем не столько боялись Мокву, сколько Скрипучку; осыпи ее постоянно жили – шуршали, скрежетали, рушились. Изредка мы даже наблюдали огромные глыбы, легкими мячиками скакавшие с обрывов на Пищухин Град у подножия сопки. Но в тот раз дождей давно не было, сопка притихла, и мы поднялись выше. Там и заметили среди усыпанных дресьвой выходов коренных пород мелькавших птиц, удивительно похожих на ласточек.
А второй раз видели над серединой озера, когда плыли в Дальние Заводи проверять сетку. Погода, как всегда в этих местах, испортилась неожиданно, дунул холодный ветер, и через перевал, отделявший Скрипучку от горной цепи, свесился в нашу долину грязный язык Кэльы, одного из злых духов Севера. Долго не думая, Кэльы прихлопнул языком озеро. Вмиг пропали красочные оранжевые и лиловые берега, смахнуло с озерной поверхности блестящий синий налет. Все стало угрюмым, серым и таинственным. Весь мир замкнулся вокруг лодки, и в холодных сырых клубах плотными сгустками заметались какие-то птицы. Полет их был удивительно похож на полет ласточек. Тогда вопрос остался открытым, ибо мы знали суждения справочников. Но теперь получили веское подтверждение от местного жителя. Придется, наверное, шатать устоявшееся мнение, а вместо него сеять сомнение. Хорошо ли? Да, хорошо. Сомнение – фундамент науки… А что если поискать в таблице Кайпчекальгын? С внезапно загоревшейся надеждой я стал переворачивать страницы и на одном листе Инайме показал:
– Вот. Похожа.
Это была пеночка-весничка, крохотная пичуга, меньше воробья раза в три. Инайме вгляделся и добавил:
– Да, сильно похожа. Только не она.
– Ты мне скажи точно, когда Кайпчекальгын спят?
– Как солнце уйдет совсем и мороз начинается. Пурга норки забьет, им там тепло. А потом, когда вернется солнце, они часто вылазят. Южак дунет, потеплеет – они и проснулись. Шуршат, кричат, суетятся. Под снегом в кустах ходы роют, как мышки. Очень голодные, все едят: помет клюют звериный, почки, метелки травяные. Когда мы яранги рядом ставили, они везде лазят, крупу берут, муку, мясо. А чуть мороз – опять в норки и спят. Я им всегда насыпаю корма…
– Секрет простой, как они выживают в такую длинную зиму, – сказала позже жена. – Не будь южаков, они бы не зимовали.
Да, наверняка птицам помогает своеобразный, уникальный, местный климат. Вытянутая сосулькой между двух океанов – теплым и холодным – Чукотка постоянно испытывает влияние обоих. Конечно, зимой преобладают морозы, но хоть раз в месяц, да вздохнет Тихий океан, глядя в северную мглу. Тогда теплые волны сырого морского воздуха омоют Чукотку и летят далеко в глубь Арктики, зализывая острые грани торосов, оплавляя снега ледяной коркой и превращая ее в крепчайший наст. И «течет» этот вздох иногда неделю. Резко поднимается температура, часто до плюсовых отметок. Конечно, нескольких дней такой погоды вполне хватит крохотным пичугам, чтобы откормиться и запастись калориями впрок до следующего недалекого потепления…
– Там еще зверь новый появился, – продолжал Инайме. – Только я сам не видел. Женщины видели, когда воду в реке брали. Живет и в воде, как нерпа, и на берегу, как горностай.
– Поподробнее можешь? – спросил я.
– Темный… – Инайме пожал плечами. – Следующей зимой будем туда кочевать, сам посмотрю, тогда скажу. Но прячется в воде – это точно, следы видел…
Что за животное? Первые сведения о нем я получил несколько лет назад от пастухов совхоза «Пионер» Шмидтовского района. Они увидели неизвестного им ранее зверька летом, в районе озера Вальхырыппин, на водоразделе между речкой Паляваам, текущей на запад в Чаунскую губу, и речкой Пегтымель, текущей на север.
Истоки этих рек и крупного притока Анадыря Усть-Белой начинаются в одном горном узле, а истоки самого Анадыря близки к истокам Чауна, связанного с Паляваамом, и к истокам двух Анюев, притоков Колымы. А на Колыме в сороковые годы акклиматизировали американскую норку. Спрашивается, могла она за сорок лет расселиться по увязанным в одну гидросеть водоемам? А если нет, то кого еще могли увидеть пастухи совхоза «Пионер», а теперь вот и наши?
В свое время, получив сведения от пионерцев, я написал одному биологу в Магадан. Ответ получил обескураживающий. В том ответе была недвусмысленная фраза: «…американская норка на Чукотке отсутствует совершенно…»
Что показалось мне странным: в деловом письме я не прочел даже самой простой заинтересованности, которой всегда ждешь от ученого. И, в общем-то, получилось не деловое письмо, а так – стандартная отписка. Зато в конце документа следовали увесистые строки, в коих перечислялись титулы и чины отписавшегося товарища: «…зоолог… научный сотрудник… кандидат…» Мол, знай наших и еще знай свой шесток.
– Кандидатам виднее, кто где должен жить, – резюмировала жена.
– А ты за эти годы много видела кандидатов в наших горах? – спросил я.
– Биологов? – Она подумала. – Совсем не видела.
– Зверек этот – тоже. Вот и относится к науке несерьезно. Остался без контроля и самовольно расселяется в непредусмотренных кандидатами угодьях. Ну давайте прикинем факты. Стели карту. Так. Вот она, Колыма. Расстояние до нас, пусть грубо – девятьсот километров. Пусть тысяча. Может норка осилить тысячу километров хотя бы за тридцать лет? Конечно, не те зверьки, которых выпустили, а их потомки? По малому счету – в тридцатом колене? По полсотни километров на колено. В местах, где всегда есть корм… Наверное, может… Что против? Лед на водоемах. На озерах до двух метров, без отдушин. И враги: лиса, волк, росомаха… Серьезные враги… Да-а, есть над чем подумать…
Пастухи ушли, а я несколько дней ходил под впечатлением их рассказов, прикидывая так и эдак.
– Напиши орнитологам, – сказала жена.
– Не поедут. Скажут: кто-то чего-то наговорил, сам автор лично не видел. И получим, как и раньше, чеховский ответ: «Не может быть, потому что не может быть никогда». Самим надо увидеть, потом писать.
И тогда она, поняв мое состояние, сказала:
– А разве мы сами не можем добраться до этой Нутэнут? Пусть четыре дня – не так уж и много.
Решение, видимо, где-то в подсознании у нас уже складывалось именно такое. Поэтому я ничуть не, удивился предложению, а машинально сказал:
– Бери для верности пять… В общем, для нас немного, но-вот чадо еще маловато… Ребенок…
– Как меня ругать, так «ты уже взрослый», а как в путешествие, так сразу «маловато»! – Сын надулся, однако я увидел, что глаза его вспыхнули тем извечным неугасимым огнем, что испокон веку освещает людям неизведанные дороги.
– Ребенок-то в третьем классе учится, почти дядя, – поддержала его жена. – Одежда у нас есть, палатка тоже. Только надо до декабря, пока нет темени и сильных морозов.
Я поднял руки и оказал:
– В принципе – согласен. Эх, если бы еще хоть какое добро от науки…
И тогда жена предложила:
– Может, Баранову написать? Он ведь говорил, что биолог по образованию, университет окончил…
– Точно!
Как же можно забыть такое? Баранов третий год работал в районе старшим инспектором Охотскрыбвода, показал себя, как писала районная газета, знающим специалистом и грозой браконьеров. Но мы и без газеты знали его хорошо: однажды пришлось наблюдать в деле против большой группы браконьеров с прииска «Полярный», а потом самим принимать участие в борьбе с нарушителями природоохранных законов, работавшими в Майской ГРЭ, после чего Баранов принял нас с сыном в свое ведомство. Меня – внештатным инспектором, сына – членом голубого патруля.
Мы засели за письмо.
Ответ пришел через месяц – по нашим местам и условиям довольно быстро. Письмо оказалось очень интересным, содержание его предварило некоторые детали наших дальнейших действий, поэтому привожу его почти целиком:
«…Да, я слышал от пастухов и о птице и о звере и почти на сто процентов уверен, что это правда. Еще ходят слухи о какой-то рыбной долине в горах. Не та ли это Нутэнут? То, что происходит сдвиг в северной экологии – общеизвестно. Во всяком случае, в последние годы зарегистрирован выход лосей к северу от Анадырского хребта, кета давно и во все больших количествах идет в Пегтымель и Чаун-Паляваамскую гидросеть, недавно под Певеком пойман калан, а в Чаунскую губу все чаще заворачивают моржи. Но этого мало: в прошлом году зарегистрировали соболя; в типичных высокоширотных тундрах острова Айон, а на Паляваам, в район Комсомольского ГОКа[3]3
Горно-обогатительный комбинат.
[Закрыть] пришла пара выдр. Правда, сохранить ее не удалось, убили горняки, но теперь уже ясно, что идет интенсивное расселение животных в северном направлении и, даже в тундрах, оказывается, есть экологические ниши для зверей, считавшихся типичными представителями таежной фауны. Так что благословляю – ищите! Сам я в ближайшее время, к сожалению, присоединиться к вам не могу, слишком много текущей работы, обычной охранной прозы. Вот только пару дней назад вернулся с поездки на речку Кувет. Там много зимовальных ям гольца и хариуса, ловить в них запрещено любой снастью, но горняки Полярного и разведчики Майского запреты игнорируют. В поездке составили акты на десять человек. Все сплошь руководители служб и участков, есть и повыше. Конечно, Кувет далеко, и рабочему человеку на такую поездку транспорт не дадут, а вот руководителю… К одному подъехали, лед рыбой завален, тысячу двести штук хариуса насчитали, половина в вездеход не влезет, а он не может бросить подергушку. Глаза сумасшедшие, руки трясутся… Конечно, поостыл – заканючил: наважденье, не помню, масть пошла, бес попутал… Даже нечистую силу привлекают, смотреть и слушать мерзко.
Поэтому к вам у меня остается старая просьба; немедленно сообщайте о каждом замеченном в тундре транспорте. Борьба перешла в такую стадию, о которой академик Мальцев прямо говорит, что природу сейчас не охранять, а спасать надо… Желаю вам успехов в поиске…»
Такое тревожное письмо, не оставляющее места для сомнений и колебаний, получили мы. Несколько раз прочитали вслух. Инспектор верил, что Нутэнут существует, и благословлял нас на поиск. И он боялся, что Нутэнут раньше найдут добытчики. Это решило все. Мы приняли письмо как приказ на действие.
– Идем! – сказал я.
– Ур-ра! – завопил сын.
– Аф-х! Аф-х! – взволнованно затявкал Пуфик.
– Уф! Уф! Уф! – подхватил на улице Дуремар.
– Тащи бумагу, – сказал я сыну. – Будем составлять список снаряжения.
Тоок!Как это ни печально, а хорошей зимней палатки-маршрутки на пару человек для работников Крайнего Севера пока еще не придумано, И даже не хорошей, а просто какой-нибудь. Знаменитую же летнюю двухместку зимой не возьмешь. Да и знаменита она лишь тем, что является единственной моделью на протяжении десятков лет. Все ругают, но пользуются. Куда денешься? Ее жиденький брезент продувают даже средние ветры, а крышу пробивают нормальные дожди. Когда идет дождь, в палатке образуется туман из водяной пыли, летящей с потолка. А попробуй хоть нечаянно коснись потолка в такой момент – вода польет потоком.
Поэтому мы сшили палатку-маршрутку сами, учтя личный опыт. Размер приняли два метра по длине и метр восемьдесят по ширине. Углы расставили клинышками и выиграли внизу еще двадцать сантиметров. Места спать на троих хватает и для кухни изрядный кусок. Стоять можно на коленях и, не остерегаясь, касаться скатов даже в дождь; крышу сделали из добротного непромокаемого материала «Олень». Входной полог в левой половине торца, края дважды перекрывают друг друга и наглухо препятствуют доступу ветра. Застежки типа пуговичных, только деревянные. Справа от двери кухня: уголок, где стоит шипучий, проверенный чуть ли еще не первопроходцами Севера керосиновый примус в легкой жестяной коробке. По низу коробки сеть дырочек для вентиляции. На ночь коробку превращали в печь: ставили внутрь две толстых самодельных свечи. На края коробки можно было вешать носки, если они нуждались в сушке. Но вообще в любой маршрут мы брали по нескольку пар носок, из расчета пара на двое суток, а также аварийный запас. Ноги в тепле – одна из важнейших гарантий успеха перехода. На сей раз упаковали пару на сутки – ноябрь все же, в такое время мы в горы далеко не ходили. Что там может ждать?
В зимнем комплекте палатки имелись пол из толстого брезента, байковый внутренний пристегивающийся полог, хорошо обработанная шкура оленьего быка-дикаря почти во весь пол, пыжиковое одеяло; сшитое из старой меховой одежды. Весь зимний комплект «дома» весил около десятка килограммов и занимал на нартах мало места.
Теперь продукты. Конечно, все для чая. Чтобы в пути долго не возиться с приготовлением, сварили кусок моржового ласта, разрезали на порции и на мороз. Два плотных мешочка для проб, которые нам подарили летом бродячие люди геологи, решили заполнить пельменями. Галеты, сахар, сгущенное молоко, соль. Конечно, по горсти конфет.
– Все? – задумалась жена.
– А мясо туристов? – показал сын на ящик консервов «Завтрак туриста».
– Обойдемся. У нас серьезное путешествие.
– А собачкам?
– Им надо сварить месиво, разделить на порции и заморозить.
– Из налимов, – предложил сын.
Налимов по первому льду мы заготовили полный мешок. Клюет он осенью превосходно.
– И косточек положить, – продолжал сын. – Будет месиво «собачье объедение».
– Нет, косточки пусть обсасывают дома, – сказал я. – Это занятие для сидячих работников. А в походе нужно усиленное питание. Давай сварим моржовое мясо с горохом, получатся прямо живые калории, сплошной белок. А налимов нарубим свежими, для заедки. Пусть грызут мороженые витаминчики. Чтобы не было цинги.
– А что это – цинга?
– Смотри, как времена изменились! – искренне удивился я. – Житель Севера даже не знает, что такое цинга. Была, братец, не так и давно, в Заполярье очень страшная болезнь. Много путешественников погибло от нее, и никто не знал, что спасение всегда под рукой – в строганине. Мясной и рыбной. Теперь цинга называется по-научному авитаминоз, и случается, когда не хватает витаминов С. Но такого сейчас почти не бывает. Особенно с теми, кто любит нерпичий жир.
– Я его люблю, – сказал сын. – Только он с языка выливается…
– Знаю… А как быть с занятиями?
– Мамика велела делать вперед математику, остальное потом догоним. Я уже много нарешал.
Сын учился дома. В поселке при школе было заочное отделение. Учителя с попутным совхозным транспортом объезжали учеников, живших в бригадах, разъясняли материал, читали обзорные лекции, проводили контрольные, диктанты и сочинения, давали задания. До четвертого класса мы и решили держать сына дома, ибо до этих пределов еще понимали задичавшую в последние годы математическую программу…
Проверили одежду. Отыскивали подозрительные места, подшивали. С ремонтом провозились два дня, да день ушел на пельмени. А все сборы заняли неделю.
Накануне выхода испортилась погода. По горизонту нависли лиловые тучи, в их отраженном свете снега мерцали фиолетовыми тенями, зажигались и бродили в распадках какие-то темно-красные искры. Утром все затянул туман. Только в южной части неба среди дня ненадолго посветило рассеянным желто-розовым светом невидное за тучами низкое солнце. Еще десяток дней, и оно вообще перестанет подниматься над горами… Да, близка Полярная ночь – восьмое чудо света.
А туман все плотнел. Жена заявила, что пропала связь. Непрохождение. Мы все послушали микротелефонную трубку. Казалось, туман вокруг живой. Таинственные звуки лились из его жутких глубин. Серые клубы ворочались, вздыхали, охали, стонали и всхлипывали.
– Печа-а-ально, – вздохнул я и уныло протянул:
Плохая видимость,
Плохая слышимость…
Жена ушла отлеживаться: разболелась голова. Обедать не стала, даже чай отвергла. Через час у меня тоже заныла голова, навалилась апатия. Сын, наоборот, был возбужден. И когда жена отказалась от обеда и чая, ой тут же к моим двум строчкам присочинил еще две, скакал по дому и распевал:
Плохая видимость.
Плохая слышимость…
Плохая кушимость,
Плохая питимость!
– Допляшешься, накличешь непогоду, – пригрозил я. – Сейчас надо вести себя смирно.
– Неправильно, неправильно, несовершенно верно! – пропел он в ответ. Не умещалось в голове ребенка, что экспедиция может сорваться. Возбуждение кончилось тем, что из носа хлынула кровь, после чего к нему пришло спокойствие. Так случалось не раз, мы знали, что головные боли и короткие, в десяток капель, кровотечения из носа у нас в горах были точными признаками перемены погоды. А когда к вечеру ровно горевшие печи загудели и раскалились, стало совершенно ясно – перемене быть. Ночью мы просыпались несколько разбудили кидавшиеся на дом шквалы. Покряхтывала сопка Скрипучка. Наверное, бродила в темноте по долине с метлой в руках, шуровала в углах и закоулках. Что она нашурует к утру?!.
Скрипучка подарила тишину и вселенский покой. Под густым синим кебом, усыпанным красными, желтыми и белыми звездами, светились розовые зубья дальних гор. Над головой Скрипучки короной сиял ковш Большой Медведицы и мерцала на звездных подвесках Полярная звезда. К югу небо светлело, размывалось и стекало в полыхавший на горизонте малиновый рассветный пожар желтыми потоками. Градусник показывал минус пятнадцать. Скрипучка лучилась белыми боками, словно накинула горностаевую мантию.
– Сударыня-матушка, спасибо за хорошую погоду, – поклонился я.
– Надо сделать жертву-подношение. – Сын собрал в горсть мороженые крошки мяса у деревянной колоды и посыпал в сторону сопки.
– Пусть каждое утро нашего путешествия будет таким! – заключила преддорожный обряд жена.
Сын солидно поправил висевший на поясе поверх кухлянки настоящий, в ножнах, охотничий нож, подаренный ему пастухами, и повесил через голову одноствольную тульскую курковку. Я не стал возражать – пусть несет оружие, оно не так тяжело, а если устанет, место на нартах для отдыха есть. Там груза всего килограммов сорок, для трех упряжных собак – чепуха. Часть еды несли мы с женой, у сына тоже был рюкзачок, в который поместили примус. Получилось у него все, как у взрослых: нож, оружие, рюкзак. А равноправие рождает в коллективе благоприятную психологическую атмосферу.
– Последняя проверка! – объявил я. – Оружие?
– Взяли! – хором ответили жена и сын.
– Рацию «Карат»?
– Взяли!
– Еду?.
– Взяли!
– Спички?
– Везде!
Да, спички накануне распихали везде. В нашем оленеводческом совхозе ходило много страшных рассказов и легенд о людях, лишившихся в дороге огня. Мы помнили о них и разложили сухую растопку и спички почти в каждый карман рюкзаков и одежды, упаковав вначале в полиэтиленовые мешочки.
– Еще куда-нибудь и еще куда-нибудь, – приговаривал я, выбирая подходящие места.
– Давай сюда-нибудь и давай туда-нибудь! – в тон мне подпевал сын, раскладывая коробки. Пуфик обнюхивал каждую заначку и одобрительно тявкал. Он прекрасно знал, что любимый им до самозабвения огонь рождается от спички…
Нетерпеливо топтались и повизгивали упряжные собаки. Их было три: трехлетний вожак упряжки Дуремар, и полуторагодки Огурец и Шушка. Красавец серой масти Дуремар получил такую кличку в детстве за то, что был тощ, нескладен и казался туповатым. Потом вот выравнялся в прекрасного, сильного и умного пса, а кличка осталась. Огурец был действительно похож на огурец. Тело, как с детского рисунка – продолговатый овал. А к нему прилеплены тонкие длинные ноги и голова на тонкой длинной шее. И все эти «прилепихи», как говорил сын, вихлялись вокруг огуречного тела, словно на круглых шарнирах, в разные стороны, причем совершенно немыслимые с точки зрения биологии. Однако в упряжке собака преображалась, становилась красивой и работала за двоих, утверждая поговорку – «труд красит». А работал он за двоих, потому что был рыцарем. Вид запряженной «дамы», бегущей справа, приводил его в возмущение, и Огурец неистово рвался вперед, стараясь облегчить ей работу. А Шушка, «прекрасная дама» с карими очами, ярко-красной пастью и отливавшей шелком черной шерстью, бежала себе потихоньку, умненько соображая, что все время пользоваться услугами кавалера нельзя, надо ему давать хоть изредка отдых. И на подъемах тоже включалась в работу, натягивая постромок с такой же силой, что и собратья. Зато на ровном месте он частенько висел дугой. Но мы не ругали Шушку. Она была ласкова и услужлива, посему ей многое прощалось. Кличку Шушка получила за то, что любила секретничать с женой. Уставит ей нос в ухо и пыхтит, шепчет что-то, блаженно повизгивая от такого близкого общения с хозяйкой. Со мной и сыном она своими секретами не делилась. Пуфик был длинноног, курчав и умен. Даже мало сказать – умен. Это был мудрейший из породы болонок пес, занесенный предначертаниями судьбы из Парижа на Чукотку. Да-да, из того самого Парижа, что лежит на другом конце континента. И не откуда-нибудь из окрестностей культурной столицы Западной Европы, а прямо с Монмартра. История Пуфика поучительна, интересна и достойна отдельного описания в другом повествовании. А тут достаточно сказать, что, кроме имени, у него была заслуженная кличка – Мудрый Келет, то есть Мудрый Добрый Дух.
Пуфик руководил нашей упряжкой и занимал должность старшего «конюшего». Он был взрослее Дуремара, а у собак подчинение по возрасту – главное в табели о рангах. Поэтому и Дуремар и Огурец, хотя имели клыки раза в три покрупнее и были в пять раз массивнее, беспрекословно опрокидывались на спину и из такого положения, виновато поскуливая, пытались облизать морду властелина, когда он решал, что соплеменники в чем-то провинились. Исключение составляла Шушка, но ведь она была Дама, а прекрасная половина звериного мира так же не подчиняется возрастным категориям, как и у людей. Да Пуфик ни разу и не повысил на нее голос: утонченный интеллигент, он был безнадежно влюблен в крепкую – кровь с молоком – сельскую работницу. Ах, этот старый-престарый мир! Поистине незыблемы и вечны плиты его фундамента!..
Итак, Пуфик руководил упряжкой. Каждую нашу команду он сопровождал лаем, забегая вперед и поворачивая голову к Дуремару. И давно уже сын, отдав очередной приказ вожаку, добавлял:
– Пуфик, переведи!
Пуфик переводил точно, судя по поведению вожака. Правда, случалось, что Дуремар неправильно понимал его, но мы списывали такие случаи на издержки перевода: Пуфик не до конца избавился от французского акцента…
Последний раз осмотрев груз и крепления веревок, мы присели на ступеньку крыльца. Я глянул на приклеенную к двери записку. Блаженны уголки земли, где еще можно позволить такое. Записка гласила: «Будем через неделю, продукты в складе, бумага на столе». Дата, подпись. Записка извещала гостей, что ждать хозяев не стоит, если нет времени. И гости забирали нужные продукты, перечисляли взятое на листе бумаги, а в следующий визит проверяли и подписывали накладную. И ни разу не было случая, чтобы у нас не хватило хоть коробки спичек по вине пастухов. Честность их можно смело возводить в эталон…
– Вперед, что ли? – нетерпеливо сказал сын.
Мы поднялись, надели лыжи.
– То-ок! – крикнул сын. – Пошел!
Мелодично залился Пуфик, собаки подхватили и, визжа, рванулись вперед. Сын прыгнул сзади на нарты. В вихре блескучей изморози упряжка нырнула с берегового уступа и полетела по широкой равнине озера. Жена толкнулась палками, я еще глянул на дом, поймал легкий белый дым над трубой и заскользил следом.








