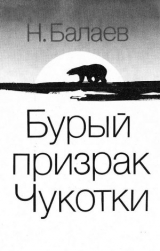
Текст книги "Бурый призрак Чукотки"
Автор книги: Николай Балаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Утром мы уже пили чай, когда залаяли собаки. Вначале, как всегда, вопросительно, но потом со страхом и злостью.
Мы вышли. Сочились те рассветные минуты, когда уже погасли звезды и небо приобрело тот же серовато-розовый оттенок, что несли и окружающие горы. Собаки лаяли в сторону Скрипучки, а она почти не отличалась от неба и стояла перед нами прозрачным конусом. Ничего там не было видно, однако Окот, приглядевшись, поднял руку и сказал:
– Смотрите туда!
– Вон он! – испуганно прошептала Тэгрэт.
По бараньей тропе на середине склона двигалось неясное темное пятно. Мы вытащили бинокль и подзорную трубу. Окот достал свой бинокль.
Оптика приблизила зверя, и в темно-бурых контурах можно было ясно разглядеть характерные признаки белого медведя: относительно маленькая голова, длинная шея, передняя часть тела уже и ниже огромного зада. Медведь трусил по бараньей тропе, и мне показалось, припадал сразу на две лапы.
– Как призрак, – сказала жена.
– На, возьми бинокль.
Несколько раз донеслось кряхтение.
– Чегой-то он рыкает, – сказал сын.
Я смотрел на бурое пятно без оптики и видел, как оно медленно уплывало влево и постепенно таяло. Да, призрак. Бурый призрак. Вот и кончилась еще одна тайна.
– Все, – сказала жена.
– Это Умка-Победитель, – сказал сын. – У него нет уха.
Я не стал возражать. По правде говоря, не обратил внимания на уши зверя. Да и потом, бинокль восьмикратный, а у него в руках двадцатикратная подзорная труба. Вполне возможно.
– Есть шанс, – сказал я. – Сегодня такой необычный день, когда и призраки оставляют следы. Ветра нет совсем. Собираемся!
…Собаки остановились метрах в двадцати ниже. Мы выбрались на тропу. Местами она была хорошо обдута, и среди снежных полос, перемешанных со сланцевой пылью и оттого темно-серых, торчали каменные щетки. А местами на тропе, укрытые каменными навесами и крутыми стенами, лежали мягкие подушки чистого снега. На них стыли совершенно свежие отпечатки следов белого медведя. Мы сразу узнали их – они обычны за околицей центральной усадьбы совхоза, а иногда встречались и у конторы.
– Смотрите, кровь! – крикнул убежавший вперед сын.
Действительно, длинные мазки алели на внутренней стороне следа правой задней лапы и посредине левой передней. Я нагнулся. Ранен? Может, тот сторож выпалил в Умку дробью, а потом с перепугу забыл? Или, помня о запрете на стрельбу в белого медведя, решил ничего не говорить? Да нет, он не знал, что белый.
– Стреляли? – спросил я Окота.
– Не-ет. – Пастух отрицательно качнул головой. Затем поднял ногу и постучал по подошве торбаса: – Очень слабый гыткальгын… этот… как?
– Нога? Подошва?
– И, – он кивнул, – дома снегом ходит, мягко. А в тундре дорога выквэн… – Он тронул носком торбаса торчавший из снега острый сланцевый обломок: – Далеко шел, стало больно, плачет.
– Бедный Умка, – сказала жена. – Блудный сын.
Да, избил ноги по чужим дорогам. Тяжела плата за путешествия в дальние страны. А какая это адская боль – стертая пятка – знает каждый путешественник. Не только зарычишь – взвоешь.
– Прощай, бурый призрак! – жена махнула рукой.
– Счастливого пути, Умка! – крикнул сын и солидно добавил. – Хорошей тебе охоты!
Следующая зима окончательно разбила нашу уверенность в том, что белому медведю не положено далеко выходить на сушу. И показала, как мало человек знает о природе.
Уже осенью 1976 года от охотников-промысловиков совхозов имени Ленина и «Певек» начали поступать сообщения о растущем выходе белых медведей на равнины приморской тундры. Позже пошли телеграммы из бригад, кочующих в отрогах Анадырского хребта. О встречах с белыми медведями заговорили водители автомашин, работающих на внутрирайонных трассах, горняки поселков, расположенных чуть не в центре хребта. К весне 1977 года прибрежные поселки были чуть ли не оккупированы могучими зверями. Вели они себя в основном терпимо.
Медведи «изымали» у охотников тушки нерпы и другую морскую добычу. К весне «пришельцы» не брезговали уже и «материковой» едой: олениной, рыбой, отходами на свалках.
В тот год и позже было высказано немало гипотез, пытавшихся объяснить этот массовый выход. На первом месте, конечно, стояло совершенно лишенное научных обоснований мнение: «Запрет на отстрел сделал свое дело, надо срочно стрелять, иначе на берег хлынут целые полчища этих лохмачей, поедят всех героических тружеников Заполярья». Мнение это исходило не от ученых, а от руководителей всех рангов от района до области, жаждущих приобрести такую престижную шкуру.
Зато охотники-профессионалы были одного мнения: «Северяк дует и дует, льды нагнало чуть не столетние, ни одной отдушины, нерпа от берегов ушла».
О голоде среди медведей говорил и охотник-профессионал Соловьев: «Я вон на участке в сарае, где нерпа хранилась, дверь не закрываю, чтоб не отломали. Они мороженую гальку, пропитанную нерпичьим жиром, на полметра вглубь слопали».
К объяснениям промысловиков можно добавить вот такие любопытные строчки:
«…К востоку от острова Айон повсеместно к припаю был прижат массив с преобладанием двухлетнего и многолетнего льда. Преобладающие северные ветры обусловили отсутствие каких-либо разряжений за припаем. Местами в массиве отмечались сжатия до двух баллов…
Низкие температуры воздуха способствовали интенсивному нарастанию льда, и к началу марта толщина ровного припайного льда на участке Айон–Шмидт превышала среднемноголетние значения в среднем на 20–30 сантиметров».
Эту справку выдали мне в Певекском управлении Гидрометслужбы и контроля природной среды.
Такая обстановка сложилась зимой 1976/77 года в указанном секторе Арктики. Поэтому часть животных этого сектора поневоле выбралась на сушу, где и смогла прокормиться, пока не восстановились нормальные условия существования. Случаев падежа белых медведей от голода на суше не зафиксировано, хотя сильно истощенные попадались. Было замечено, что медведи, как обычные олени, копытили: разгребали занесенные снегом ягодники, не брезговали и ветвями кустарников. Вообще примеров вегетарианства белых медведей даже в сытые годы замечено множество.
Черновики этой рукописи пролежали у меня в столе некоторое время, так как рассказы о далеких плаваниях белых медведей и возвращении посуху приходилось слышать только от зверобоев, пастухов да геологов. Ну еще личные наблюдения. Официальных сообщений ученых не встречалось. Отсюда возникали некоторые сомнения.
Но недавно в руки попала вышедшая в 1983 году книжка полярного исследователя С. М. Успенского «Живущие во льдах». Вот выдержка из нее:
«В Японию и Маньчжурию, как о том свидетельствуют материалы японских императорских архивов, живые белые медведи и их шкуры попадали уже в VII веке. Впрочем, население этих стран могло познакомиться с этими животными и раньше, так как медведи изредка достигали берегов Японии вместе с плавучими льдами».
Как белые медведи находят дорогу домой, на Север? Думаю, тут роль играют два основных фактора.
Первый. Рассудочная деятельность. Белый медведь прекрасно ориентируется по сполохам.
Второй. Несомненную роль играет взаимодействие электромагнитных полей Земли и головного мозга животного.
И вообще, кто знает: может быть, электромагнитные ноля, как и биосфера, – продукт жизнедеятельности на нашей планете? Сумасшедшая гипотеза автора? Она самая…
Местопребывание белого медведя очень специфично. Оно постоянно в движении: льды ломаются, одни исчезают, другие родятся заново. Поэтому у белого медведя нет четко очерченной территории, как у его наземного бурого собрата. Он вечно движется в двух направлениях – бродит сам, в то время как бредут несущие его льды. Белый медведь вполне заслуживает данное ему прозвище – великий скиталец. Вот так и сложилась легенда о буром призраке Чукотки.
Солнечные птицы
Наблюдая много лет взаимоотношения человека и природы, я усвоил печальную истину: увидев интересное явление, найдя древний памятник материальной или культурной деятельности человека, не обнародуй сразу точные координаты мест наблюдений или находок. Основания на то есть.
Сейчас все знают об открытии в шестидесятые годы на чукотской реке Пегтымель наскальных рисунков.
Но никто пока не знает, что в 1975 году состоялась первая попытка их варварского уничтожения. Туристы-горняки Полярнинского ГОКа, сплавлявшиеся по реке, решили сфотографировать картины древних мастеров. Однако им не понравилось, как эти картины смотрятся через видоискатель фотоаппарата, и тогда туристы взяли в руки ножи, проскоблили некоторые рисунки, а потом сфотографировали.
И все же я бы не назвал данное деяние варварством, найдя ему определение помягче, но среди туристов был учитель истории…
Мне давно не приходилось бродить в тех светлых и печальных тундрах. Может, имели место и другие попытки? Может, там уже и кайлом орудовали? На предмет помещения бесценных произведений искусства в своей личной «зале», как теперь называют в горняцких квартирах Чукотки комнату, имевшую ранее прекрасное российское название – гостиная.
И чего только не тащат в эту «залу», стараясь перещеголять друг друга! В одном из маленьких горняцких поселков Чаунского района есть человек, который коллекционирует высушенные головы… Нет, нет, не людей. Он не каннибал. Он рядовой из живущего пока племени убийц природы. Он сушит головы наших меньших братьев, куликов-турухтанов, а затем цепляет на стенды в «зале». Головы прекрасных птиц, украшающих нашу северную природу. А на вопрос, что это у него на стенде за птицы, ответил:
– Да сам не знаю. Весной выйдешь за поселок, они на обсохшем бугре дерутся. Шмальнешь из ружья – враз десяток. А смотрятся, правда? Ни у кого в поселке нет!
Факты такого, каннибальского, отношения к природе можно приводить десятками.
Поэтому в данной повести изменены названия рек, долин, сопок по маршруту, где проходило наше путешествие. Но кусочек местности, конечный пункт путешествия, я описал таким, каков он есть. Он мал, и найти его среди тысяч диких долин и ущелий Анадырского хребта даже специалисту-топографу, как я узнал в местном геологическом управлении, практически невозможно. Правда, в угрожающей близости оказалась «Первобытная стоянка», но сейчас меры, разработанные государством с целью экономии горючего, подсократили дальние вояжи добытчиков. Хотя государство, по наблюдениям моим и многих других жителей Чукотки, берегущих тундру, может смело урезать – и существенно – и новые нормы…
Результаты нашей экспедиций мы сообщили орнитологам Магаданского института биологических проблем Севера.
…Птица спит. Кругом метели горы снега навертели…Пультын отрицательно покачал головой:
– Уйнэ, – сказал он. – Нет. Не улетают. И зимой тут. Как песец. Как Вэтлы – Ворон. А когда совсем холодно и темно – спят. Как Кэйнын. Только в длинных норках.
– Как медведь? Спят?!
– И-и… Да.
Мы уставились на Пультына в изумлении: птицы спят всю арктическую зиму в норках?!
А старый пастух достал из-за выреза кухлянки сигареты «Стюардесса», сунул одну в коричневый мундштук, сооруженный из винтовочной гильзы и корешка курильского чая, осторожно прикурил от керосиновой лампы и сказал:
– Я был нэнэнэкэй, ребенок. Залезал на обрыв и вытаскивал их из норок. Там много, оммай… куча. Все спят. Возьмешь в руку, чувствуешь – один бок холодный, как лед. Другой бок теплый. Послушаешь ухом, сердце чук… чук… совсе-е-ем редко. Замерзли и спят. А когда станет тепло – растают и полетят…
Пультын помолчал, потрогал ложкой накрошенные в чай галеты и продолжил:
– Я их доставал и кушал сильно был голодный: тогда война на земле жила.
– Где ты видел этих птиц? – спросил я.
– Там. – Пультын посмотрел в окно и махнул рукой в сторону гряды, блестевшей литым снежным панцирем: – Далеко-о-о… Где живет охотник Вельвын.
Я мысленно представил себе карту. Да, далеко. Километров полтораста напрямую. А тут горы. Считай, триста с гаком…
Так мы впервые услышали о таинственных Кайпчекальгын – маленьких птахах. Из дальнейших расспросов выяснили, что по расцветке они напоминают воробьев, но по размерам – меньше. И зимой – старый пастух твердил это упорно – на юг не улетают, остаются здесь, в заполярных горах. И проводят зиму, судя по рассказу, в состоянии спячки. Как Кэйнын, бурый медведь…
Утром Пультын уехал. Олени подхватили легкую нарту, крутанулся снежок, и через несколько минут упряжка исчезла в мешанине тундровых увалов, пологих склонов и распадков. Разве могли мы подумать, что видим пастуха в последний раз?..
Повествование Пультына вначале показалось невероятным. А необычное всегда не дает покоя сознанию, даже помимо воли. Отмахиваешься, гонишь мысли о нем, подчиняясь привычным бездумным стандартам: «Не может быть, потому что… справочники… литература… авторитеты…» А оно сочится себе в сознание только ему ведомыми путями, точит незыблемые, казалось бы, правила и установки, грызет потихоньку их фундамент. Мудрая природа наделила сомнение зубками потверже алмазных. И потому в один прекрасный день вдруг сознаешь, что все твое существо давно переполнено мыслями о необычном и сознание вовсю ведет его анализ и ничем другим заниматься не желает.
И тогда начинаешь ночами в каком-то полусне бродить горными тропами, искать, обследовать… Проснешься, вспомнишь, а тропы-то из рассказа Пультына…
– Красивая сказка, – однажды вечером задумчиво сказала жена, и я понял, что она тоже не забыла услышанное. – Маленькая пташка так любит свою родину, что даже в глухую полярную ночь не желает покинуть ее, замерзает в первых метелях и снова оживает, когда пробуждается природа. Прямо местный вариант птицы Феникс. – Она помолчала и мечтательно добавила: – Увидеть бы эту сказочную, верную своей земле, птаху.
– Пожалуй, надо верить Пультыну, – сказал я. – И верить, что он сам доставал птиц из нор. К военному голоду не придумаешь такие детали: половина тела ледяная, половина теплая, редкий стук сердца… Сейчас-то известно уже, что уменьшение сердечной деятельности – одно из условий зимней спячки.

– Значит, не годится моя сказка, – вздохнула жена. – Жаль.
– Почему? Наоборот: очень, емко подтверждает, что фольклор рождался на достоверном фундаменте. Правда, тут пока фундамент…
– Давайте мы ее насочиним дальше, – перебил сын. – Вот так: «За долами, за реками, за высокими горами… птица спит… Кругом метели…» – Он задумался.
– Горы снега навертели, – продолжил я. – Хоть и близко ты живешь, где ее в снегу найдешь?
– А что делать? – спросила жена.
Я пожал плечами. Искать в путанице диких гор, да еще зимой, крошечную птаху, спящую в глубокой заснеженной норе, за триста верст от дома? Несерьезно. Да, но раз она зимует возле охотника Вельвына, почему бы ей не устроиться и в других местах? Вот тут и лежит тропинка для размышлений.
Начнем искать, – предложил я. – Но до маршрутов пока далеко. Вначале будем опрашивать пастухов. Жаль, я растерялся и не уточнил у Пультына место. Будет связь, спроси шестую бригаду, когда он придет еще.
– Его забрали в районную больницу, – сказала жена. – Вертолетом, три дня назад.
– Ну, вернется, можно прямо по связи уточнить. А пока других опросим.
Вокруг нашей перевалбазы в радиусе тридцати-пятидесяти километров той зимой стояли три совхозные бригады. И хоть раз в месяц, не считая вездеходов с центральной усадьбы, кто-нибудь из пастухов приезжал на оленях или собачках за продуктами, почтой или просто пообщаться, обменять книжки передвижной библиотечки, полистать журналы. Зима в оленеводстве – самое легкое время работы, если не случаются казусы с погодой. Средний снег, ровные морозы, отсутствие теплых южных ветров – благодать для чукотского оленя. Корм он достает легко, а раз сыт, значит, здоров и спокоен.
Бригада выбирает долину с зимними кормами, и стадо медленно перемещается вокруг яранг, вспахивая пласты снега. Добывая корм себе, олени помогают жить и другим зверям – песцам, куропаткам. В распаханных полосах песцу легче добраться до мышки, а куропатке до ягод, семян многочисленных трав, листиков и почек вечнозеленой «ивы чукчей».
Дежурные с собаками-оленегонками не торопясь обходят группки животных, хорошо видимых в голубовато-серебряных волнах света ночного солнышка – луны. Волков в тихие малоснежные месяцы у стад не бывает. Волк – умный и опытный солдат природы и без нужды не лезет под пулю. В спокойные по погодным условиям зимы еды для него в горах хватает.
Опросы пастухов позволили нам собрать немало сведений. Заинтересовался и сильно помог главный ветврач совхоза Анатолий Бочаров. Он почти постоянно находился в бригадах, и с его помощью была создана следующая картина.
Да, есть такие птицы, утверждали жители тундры. Серенькие, невзрачные на вид. Зимой на юг не улетают, остаются в тундре.
Только ложатся спать не осенью, как евражки и медведи, а когда солнце уходит за лиловые вершины Анадырского хребта и наступает полярная ночь. Просыпаются тоже не весной, а с появлением солнца и более или менее теплым дуновением южного ветра. Стоит цепям гор оплавиться в первых золотых лучах и зажечь над собой синий край застуженного, затянутого игольчатым, звездным инеем неба – они тут как тут.
– Какие солнечные птицы! – прошептал сын, выслушав этот рассказ. – Папка, надо их найти.
Да, надо. И, главное, можно. Уверенность в этом окрепла после сообщений Бочарова. Проявилась любопытная деталь: каждый рассказчик называл новый район обитания птиц. Один показывал на восток: «На речке Нотарелян…»; другой на запад: «В обрывах речки Умкарыннэт…»; третий махал рукой на юг. Но все дружно сходились в главном – птицы спят в норках; когда нет солнца, вообще не появляются; при солнце пробуждаются – «в южаки», то есть в дни теплых ветров.
И поскольку все рассказчики, работавшие в разных бригадах, указывали разные места встреч, напрашивался вывод, что удивительные птицы многочисленны и живут на большой территории. Значит, вероятность встречи с ними не так уж мала. Почему же нигде в литературе о них нет ни слова? Это нас смущало, но только до поры до времени, пока не разобрались в ситуации. Для жителей тундры они были обычны, как евражка. А орнитологи бывают в тундре только летом. Людям же, связанным с горной промышленностью, они либо безразличны, как ворона в подмосковном селе, либо они не умеют видеть необычное и анализировать увиденное. Летают? Ну и пусть себе летают: значит, так надо. Правда, наше предположение, что птиц много и ареал обитания широк, сдерживалось существенным фактором, пока не встретился второй человек, державший птиц в руках, как Пультын. В лице старого пастуха мы потеряли единственного свидетеля, сумевшего дать сведения биологического характера.
К весне ручеек иссяк: в марте бригады небольшими кочевками медленно пошли в сторону пролива Лонга, к «живой воде» океана.
В середине лета стада оленей нашего совхоза выходят к многочисленным лагунам, протянувшимся вдоль северного побережья Чукотки, забродят в их тихие, спокойные, очищенные солнцем и ветром ото льда неглубокие заводи. Там животные сутками пьют морскую воду, становясь чем-то вроде биологического комбината по переработке насыщенного солью и микроэлементами «питательного бульона», сваренного для них заботливой и умной хозяйкой – матерью Природой.
Живой водой организм очищается от шлаков, накопленных в зимние месяцы, и каждый его орган и каждая клетка запасает на следующий жизненный цикл нужные для нормальной работы вещества, которыми бедна растительность тундры.
Летом живую воду приходят пить и многие звери, а те, что обитают слишком далеко от побережья, все равно получают свою долю морских питательных веществ осенью, когда по рекам в верховья начинает подниматься на места зимовок голец, все лето жировавший в просторах Ледовитого океана.
Пультын правСледующая зима близилась к завершению, а ничего нового нам узнать не удалось. Клубок истории о таинственных «солнечных птицах» словно закатился в какой-то овражек, и кончик путеводной нитки, состоящей из конкретных фактов, запал в его дебри. Мы и так и сяк дергали «клубок» новыми расспросами, но увы…
Однако, памятуя древнее «ищущий да обрящет» попыток не оставляли. И в разгар весенней корализации были вознаграждены.
Веснами в оленеводческих совхозах проводится выбраковка, и формирование товарного стада. Зоотехники и ветеринарные врачи с десятком рабочих объезжают бригады, в каждой сооружается легкий кораль и двух-трехтысячное стадо в течение нескольких дней пропускается через него. Опытные оленеводы и специалисты осматривают животных, выбраковывая непригодных для воспроизводства. Работа трудоемкая, тяжелая, проходит на открытом воздухе, а в марте, да и в апреле гуляют по долинам горных тундр жгучие ветры с температурами в тридцать и ниже градусов.
Сильные морозы той весной заставили руководителей совхоза поставить кораль рядом с перевалбазой и обработать в нем по очереди стада сразу трех бригад: половину совхозного поголовья. Удобно же: настоящий дом под боком, ночевки в тепле, в свободную минуту можно забежать и выпить кружку горячего чая, памятуя древнюю русскую поговорку о том, что тепло не в шубе живет, а в животе.
Ну а по вечерам всякие ходили разговоры за широким столом. И каких только историй не услышишь! Как-то и я выложил рассказ старого пастуха. Все притихли.
– Живут байки, но такие… – наконец ехидно начал один из молодых механизаторов, но его перебил другой голос.
– Пультын прав! – к нашему изумлению твердо сказал разъездной фельдшер Гладков. – Я их тоже видел и держал. – Он вытянул над столом руку и сложил ладонь лодочкой. Какими-то до того уверенными и обычными были и слова и этот жест Гладкова, что все невольно попытались заглянуть в ладонь: а вдруг там и сейчас притаилась таинственная Кайпчекальгын?
– Где? – только и смог спросить я. – Где это было?
– Да на речке Энматгыр, километрах в тридцати от моря. Там бугры невысокие, речка их прорезает, и получаются крутые обрывы. Ехали мы в шестую бригаду: Пультын, Телетегин, я. На чаевке Пультын и рассказал, а Телетегин подтвердил. Приехали к обрывам, полезли с Телетегиным, нашли норы. Он в двух пошуровал – пусто. А из третьей достает. Подул на перышки, поднес к уху, потом мне дал. Я повертел: серенькая, вроде мороженая. Но поднес к уху – сердце стучит. Редко, но стучит. Прав Пультын.
– Что ты с ней дальше сделал?
– А ничего. Отдал Телетегину, а он на место положил, снежком дырку припорошил. Попили чай и поехали дальше.
Я смотрел на него во все глаза. Человек был рядом с необычным. В руках его держал! И никаких эмоций. По крайней мере, сейчас. Но это, наверное, по прошествии времени… Или нет?
– И ты не удивился? – спросил я. – Ведь наверняка нигде не читал об этом, не мог не знать, не чувствовать хоть, что видишь необычное…
– Ха – удивился! Меня другие заботы гнали по тундре: в бригаде ждали трое больных, двоих надо было срочно вывозить в стационар…
– Ну а потом? Вспомнил хоть?
– Вспомнил… Вот сейчас.
– А место? Найдешь?
– Речку искать нечего, она недалеко от центральной усадьбы в море впадает, за избой Вельвына…
О! Так это то самое место, о котором поведал старый пастух. Вот и подтверждение его правдивости.
– …а точное место на речке… можно попробовать, – продолжал Гладков. – Хотя не гарантирую. Но Телетегин-то в бригаде, он покажет наверняка.
– Телетегин далеко, – сказал я.
– Так и речка тоже. А там они рядом.
Действительно. Вот он, шанс. Но нужен транспорт.
– Назарыч, – сказал я главному зоотехнику, – вездеход дашь?
– Смеешься? – изумился главный. – Да ты посмотри на них – оба на ладан дышат. Дай бог без поломок корализацию закончить, людей в поселок вывезти. А там оба в ремонт, а там летовка, а там… Ну производство же… Не-ет, выше ушей не прыгнешь.
– Это Брумель не мог, – кто-то за столом хмыкнул. – А сейчас научились – ногами вверх.
– Мне уже за пятьдесят – ногами вверх прыгать, – сказал Назарыч. – Не-е, – не уговаривайте… – Он помолчал и раздумчиво продолжил: – А вообще интересно… Но сейчас вездеход – не могу… Давай вот что – отложим это дело на следующую зиму. Да и весна уже по календарю: чего сейчас докажешь? Оппоненты завопят – по весне прилетели!.. – Он повернулся к Гладкову: – Когда видел?
– В феврале.
– Во, другое дело – зима! Тут весенний козырь против нас отпадает. Да, надо брать календарные зимние месяцы. Чтобы официально. Прицепок будет и без этого много, я на Чукотке давно-о, этот край находками не скудеет, но судьба их разная. Насмотрелся. Вот следующей зимой, в декабре, поедем на просчет и заодно соорудим это дело. И погоды в декабре устойчивее. Согласен?
Я вздохнул: опять задержка. Но в словах Назарыча светила разумность.
– Согласен… А ты сам про этих птиц не слышал?
– Говорили старики. Тут всего наслушаешься, а за работой забываешь, да и не берешь в голову эти рассказы серьезно. Ценишь, как байки с устатку, для бодрости, под кружку чая. Гор-то вон какая мешанина, дичь, глушь… Если поспрашать народ, и про живого мамонта можно услышать, и про красного медведя, величиной чуть не в дом, да еще с жирафьей шеей… Про дикого лохматого человека, ворующего из яранг женщин… Много чего рассказывают. Да вот есть как будто тут Нутэнут, страна где-то в горах, там эти птицы и обитают. И не только они, а и зверь объявился какой-то водяной, с пушистым хвостом. Птица белая там зимой летает, но не сова… А Кайпчекальгын… Жаль, что не можем сейчас махнуть враз. Сделал – и точка.
«Враз махнуть»… Я улыбнулся. Старые кадры северян все были немножко авантюристы в хорошем смысле этого слова. Все решительны, бескомпромиссны и романтичны. Они годами довольствовались палаткой, минимумом самой простой еды и с благоговейным трепетом чтили ПРИКАЗ. Когда они получали приказ на действие, их ничто не могло остановить. Они не канючили «законное», не отписывались, не охали, они начинали ДЕЙСТВОВАТЬ.
Это сейчас новая волна «покорителей Севера» долго и нудно выясняет размеры зарплаты, премий, квартир, прежде чем приступить к началу всех начал, к тому, что сделало в природе человека – к работе. А когда приступил, тут уж считает, что сделал обществу одолжение. А раз так, то поставил его в подчиненное положение. Личное лезет из каждого поступка и слова.
А у старых кадров был не затуманенный личным кругозор. Даже из низинных, забитых нудными беспросветными тучами долин, сознание их всегда поднималось на вершины, где они четко ощущали, как на плечи их опираются теплые руки Родины…
Вечером, ложась спать, я подумал; да, уже апрель. Поэтому, даже найдя сейчас птиц, ничего не докажешь – весна. За опровержениями никто никогда далеко не ходил. Посему не стоит давать лишнюю лазейку неверующим. Скептиков и без того хватит, если найдем птицу. То-то и оно – если… Но теперь появились еще два свидетеля: фельдшер Гладков и пастух Телетегин. Доставали, рассматривали, слышали стук сердца. Господи, да у нас образовалась куча фактов! Теперь надо набраться терпения и ждать до декабря.
Но нам вновь не повезло. Планам поисков с применением техники «нанесло удар» окружное сельскохозяйственное управление. Оно перевело главного зоотехника в другой район округа директором захромавшего совхоза. Назарыч удалился от нас за Анадырский хребет, на расстояние более тысячи километров по прямой. Конечно, прекрасно, что старые кадры остаются в гарантированной высокой цене, но планы поисков Кайпчекальгын повисли на волоске. Разговор с директором совхоза, человеком, не имевшим в душе даже хиленьких ростков романтики и здоровой человеческой любознательности, перекрестия наши надежды на могучий прекрасный транспорт ГАЗ-47.
Мы приуныли, однако тяга в Нутэнут, таинственную страну диковинных зверей и птиц, неожиданно даже для нас самих, оказалась довольно прочной и сильной. В Кайпчекальгын мы теперь верили… ну, скажем, так: достаточно, чтобы организовывать настоящие поиски. Другие животные? А почему бы нет? Если есть солнечные птицы, почему не оказаться там и другим животным? Немного для этого нужно и, в первую очередь, тепло. А уголков со своим индивидуальным микроклиматом в любых горах хватает.
Летом сын бродил по цветущей тундре и распевал;
В царстве Моквы может
Всякое случиться,
Мамонты и Папонты; тут
Бродят по пушице!
И медведь Моква, хозяин окрестных тундр, отдыхавший после обхода владений на нижней террасе сопки Скрипучки, одобрительно потряхивал головой.
Мечтать не возбраняется. И любому исследованию или открытию предшествует мечта. Тем более путешествию. А за несколько лет жизни в заполярных горах мы кое-что узнали и, главное, научились сносно вести себя в их окружении, не паниковать при стечении всяческих неудобных обстоятельств и находить верные тропки в их лабиринтах. В общем, появилось бесценное – опыт жизни в жестком климатическом районе.
Долины, резко отличающиеся от соседних своим, личным микроклиматом, мы уже встречали. Например, на полдороге между Нанаваамом и Кукивеемом лежит долина, где никогда не замирает ветер. Свистит в обдутых каменистых откосах зимой, плавит солнечные лучи в дымке весенних поземок, шелестит летом в высоких травах, сыплет косые дожди осенью. День и ночь в одном направлении – с юга на север. Зимой там редко встретишь животных, зато летом приходят стада могучих оленей-дикарей. Благодатный ветер не пускает в долину дымные тучи гнуса, и звери уже в боковых распадках притормаживают панический бег. Распадки – как двери. Здесь стражи долины – упругие вихря – омывают искусанные в кровь тела зверей, сметают тучи гнуса в карие воды ручьев на радость стаям фиолетовых хариусов, и пропускают истощенных оводом и комарьем животных в спокойную страну с голубым небом и зелеными полями густых диких злаков.
А почти рядом долина, где, наоборот, никогда не бывает ветра и снег опускается редкими крупными хлопьями, лежит всю зиму гагачьим пуховым одеялом, по которому на обычных лыжах и не пройдешь, нужны вэльвыегыт, чукотские лыжи-плетенки, снегоступы. Зверю тоже нечего делать, утонет, как в болоте. Зато перед длительной непогодой собираются там огромные стаи куропаток и спокойно пережидают ненастье в густых ольховниках по берегам засыпанного снегом ручья.
А вокруг нашей перевалбазы раскинулся целый район с долинами и сопками, где практически никогда не бывает гололеда. Нисходящие потоки воздуха не пускают сюда зимой несущие ужас всему животному миру Чукотки дождевые тучи с Тихого океана. Так объяснили залетавшие однажды к нам агрометеорологи. И несколько раз мы в меру сил помогали спасать здесь и наши стада, и стада соседнего совхоза «Пионер» от гололеда.
Вспоминая это, мы все больше верили, что в бесконечной пока цепочке таинственных уголков Анадырского хребта есть место и для страны, о которой слышал и поведал нам зоотехник Назарыч.








