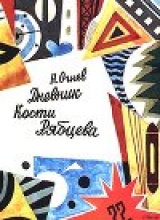
Текст книги "Дневник Кости Рябцева"
Автор книги: Николай Огнев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
14 марта.
Я говорил с Сережкой Блиновым насчет аборта, и он мне подробно объяснил, что это такое. И дал еще газетку с рассказом, который я решил полностью вырезать из газеты.

Испытание железом
Рассказ
1
Как всегда, у двери клуба горела красная звезда, такая ласковая в бархатном воздухе летнего вечера; как всегда, дверь осаждали ребята, желавшие попасть в клуб, а дежурные грудью принимали напор; дверь отлетала, хлопала, снова отлетала, и в синий воздух переулка падали обрывки выкриков…
Манька Гузикова пхнула кого-то локтем, кулаком, нырнула головой вперед, ее цапнули сзади за грудь. Манька очутилась перед Васькой, тот рванул дверь от себя: «Проходи, што ль, Гузикова». Манька пошла под Васькиной рукой, и сразу Маньку так и обдало махрятным дымом, ярким светом, гомоном, ругатней: в клубе было все, как всегда, только вот Манька была не такая: пакостная, нечистая, опоганившая себя и клуб. Вот уже второй день Маньку тошнило, тянуло на селедку и соленые огурцы; свое небольшое подросточье жалованье, двадцать шесть рублей тридцать копеек, Манька отдавала матери, а мать не признавала никаких разносолов: лопай щи и картошку, и больше нет ничего.
На Маньку налетели девчата, все, как одна, в красных платочках, завертели, закружили. Манька с трудом отбилась от них, пошла в общую комнату, и сразу ей ударило в голову, комната стала темной, поплыла. Маньку затошнило небывало, и она села на пол, на холодные свои ноги: в общей стоял Володька-арестант, заливисто хохотал, бузил с ребятами, как малый.
Маньку схватили, потащили на скамейку, тотчас в зубы въехал ободок холодного ковша. Манька брыкнулась, открыла глаза и снова закрыла: над ней тесным кругом сомкнулись ребята, девчата шушукались, и все, все смотрели на Маньку в упор. «Все знают, знают, – поняла Манька. – А я, я – позорная, проклятая, и Володька, сволочь, хохочет…» Какие-то странные долетели до Манькиного слуха слова:
– Фершала надо из отделения…
– Сама очухается…
– Вот нерванная…
– Перестань, дурак, не видишь: больна.
– Что с ней такое?
– Объелась на праздниках…
И, наконец, простое и страшное:
– Скажите Хайлу.
Манька вскочила на ноги, хотела сказать: «Нет, не надо, здорова», – но пол улетел из-под ног, скамейка сама подвернулась под Маньку, сколько-то времени и слов прошло, и вот уже по комнате тонким стальным молоточком простучал голос грозного Хайла.
– Разойдитесь, ребята! Она больна, а вы ей дышать мешаете.
Манька ждала другого, она понимала, что все ее покинули, что ждать ей помощи неоткуда, что Хайло будет ее ругать и, так как все знают, вышибет ее из клуба: а тут вдруг: «Она больна», – и это было еще страшней, еще ужасней, и Манька вся замерла. Но хворь отошла, голова перестала кружиться, только слабость чуть-чуть осталась. Манька хитро приоткрыла глаза, только наполовину, будто больная, чтобы не сразу вышибал из клуба: ведь сжалится же, даст отсидеться. Но Хайло спросил.
– Встать можешь?
Манька вскочила, как, бывало, в школе у строгой учительницы, рванулась было в сторону. «Я пойду, пойду, я сама уйду…» Но железной хваткой цапнул Хайло ее за руку:
– За мной. В читальню.
Хайло говорил отрывисто и властно; может быть, из-за этого, да еще из-за взгляда, прямого, в упор и стального, и побаивались его ребята, а девчата часто при его приближении обрывали свою чечеточную трескотню. А ведь Хайло был такой же фабричный парень, как и все; разве вот раньше хулиганом был первейшим во всей рабочей слободе; с того времени и прилипла к нему озорная кличка.
2
В читальне Хайло взглянул грозно, сказал:
– Выйдите, ребята, на пять минут.
И читальщики прошелестели газетами, захлопнули книги, скрылись. Тогда Хайло сел на скамью, уперся в Маньку глазами – она чувствовала, хоть и не смотрела, – и спросил:
– Ну? В чем дело?
Маньке стало почти что весело: значит, Хайло не знал. Значит, соврать можно и… и из клуба не вышибут. Выпалила:
– С матерью поругалась. Мать из дому выгнала.
И смело глянула на Хайло. На нее в упор глядели добрые серые усталые глаза. Таких глаз Манька никогда у Хайла не видела. Смотрела, смотрела и поняла: куда-то делась прямая такая, страшная морщинка у Хайла над глазами, – раньше всегда была, а теперь не было.
– За что выгнала-то?
Манька еще не придумала соврать, юльнула глазами в сторону, на бородатого Карла Маркса, моргнула, и в это время снова поймала взгляд тех же серых добрых глаз прямо перед собой. Хайло, словно случайно, двинул локтем – и:
– А? Мань? За что выгнала-то? – А глаза впились в Маньку – не увернешься.
Манькины глаза сами собой закрылись, невтерпеж стало; потом голова подвернулась, словно птичья, и Манька принялась пристально разглядывать кусок ковра на полу, между бедром и рукой.
Чья-то горячая рука легла на Манькино плечо; чей-то чужой, как будто уже недобрый, голос стукнул:
– Ну?!
– Вот что, Хайло, ты только не сердись, что не отвечала, мне все тошно, а ты такой, я тебе больше матери доверяю, я тебе все сейчас скажу, погоди… Ты погоди, ты не сердись, я все равно уйду из клуба, я сама уйду, только ты никому не говори. Я сама знаю, что не скажешь, потому что ты такой…
Манька вскочила, задыхаясь: никогда не говорила так много сразу, не приходилось.
– Меня все тошнит, тошнит, и есть ничего не хочется, и селедки все хочется, и потом… знаешь… перестало… как у всех девчат бывает… а я… гуляла с одним… ну… ну… и все…
Рухнула на скамейку, голову на руки – и шею подставила Хайлу: ну вот, теперь он знает, пусть вышибает из клуба хоть сейчас. Маньке все равно.
– Мать знает?
– Не-ет, мать не знает, – удивилась вопросу Манька. – Она все глазами тыркает да тыркает, все приглядывается: а это я тебе соврала, что она меня выгнала. А узнает – беспременно выгонит.
Голос у Маньки был дрожащий, обрывистый, как слезы; в сердце опять застучала злоба: ну чего тянет, не выгоняет, скорей бы уж, что ли.
– Зачем же из клуба-то уходить? – спросил Хайло тихо и внятно.
– А что ж, девчата разве не засмеют? – злобно сказала Манька. – А ребята разве потерпят? А сам ты… Я нешь не знаю? Я убегу, убегу!! – закричала она истошно. – Я и из дому убегу, я на бульвар убегу, я проклятая, я позорная, нечего мне в клубе делать… Ну вас всех!..
Манька рванулась было к двери, но твердая Хайлова рука ухватила ее повыше плеча.
– Стой, Гузикова!
Может быть, Манька в том и нуждалась, чтобы кто-то ей сказал твердо и властно: «Стой, Гузикова». Может быть, еще не все было потеряно; может быть, все эти плакаты и портреты на стенах и вся уютная, теплая, в коврах читальня так и останутся своими, родными, близкими…
– Стой, Гузикова! – Хайло повторил; и Манька окончательно вросла в пол, как гвоздь в стену.
– Вот какая вещь, видишь… В кратких словах: все поправимо. Поняла: все поправимо. Я не стану тебе объяснять, что и как, времени терять нельзя. Только раньше ответь ты мне на один вопрос. Но уж тут врать нельзя. Отвечай: кто? Верней: клубист или не клубист.
Спросить об этом час назад, – Манька, наверное, промолчала бы. Но теперь, теперь, после того, как он бузил при всех, словно ему и горюшка мало, Манька равнодушно:
– Володька-арестант.
– А! Володька! – сказал Хайло, и прямая страшная морщинка встала на лбу, как штык. – Так! Пустили черта в клуб, а он – гадит! И что же: жениться не хочет?
– А я не спрашивала. Он все от меня бегал недели две, больше, а вчерась я ему сказала… про это… Ну, он словно задумался, потом стал ругаться… и потом… потом…
– Ну?!
– Убежал. Так бегом и убежал. Я хотела… я хотела опять сегодня… сказать, а он хохо… хохо… хохочет с ребятами…
– Ладно, – стукнул Хайло зловеще и тонко. – Так вот запомни: все поправимо! Ты не кисни. Положись на меня! Можешь положиться на меня?
– Могу, конечно.
Судорога в горле прошла, и Манька взглянула на прямую морщинку: на кого же и положиться, коли не на Хайло?
– Ну вот! Ступай в клуб и жди, пока позову.
– Как же… с девчатами-то? Все ведь знают?
– Ты разве сказала?
– Сказать не сказала… только догадались, наверно…
– Вздор! Никто не догадался! Скажи: работала в духоте, не пообедала, и все тут. Побузят и кончат! Да… еще: сколько тебе лет?
– Я девятьсот седьмого года… Семнадцатый.
– Ссссволочь! Да что ты это? Это не ты, это я про Володьку! Ну, марш!
3
Хайло встал в дверях спортивной комнаты; голые ребята в красных трусиках работали со штангами и на турниках. Сказал громко:
– Актив, в кипятильник!
Тотчас двое ребят положили гантели, стали надевать брюки, рубашки; в драмкружке оборвалось пение и смех, к Хайлу подошел высокий активист в барашковой шапке, несмотря на лето, и спросил:
– Куда? В кипятильник? – и двинулся за Хайлом; Ваську Сопатого Хайло сменил у двери, повел за собой.
Кипятильником ребята называли комнатушку с бездействующим кубом; в помещении клуба когда-то раньше был трактир; теперь не хватало дров, а в кубе ночевали иногда заработавшиеся до ночи клубисты.
– Четверых ребят нет. Ну, да не беда, – сказал Хайло, залезая на куб. – Ну вот, ребята, видишь, какой случай, Манька Гузикова, кажется, тяжелая, беременная, а начинил ее Володька-арестант. Теперь жениться не хочет, бегает.
Дальше слова Хайло заударяли молотками, и в такт им захлопал его кулак по медной крышке куба.
– Я говорил вам, чертям, нельзя принимать в клуб такого мерзавца, как Володька! Это неважность, что я сам был хулиганом! Одного исправить можно, другого – нельзя. Это сразу видно по человеку. Но это не по существу. Тут, видишь, вопрос надо разобрать глубже. Что теперь делать?! По-моему – заставить его, сукинова сына, жениться! Кто имеет?
– Да-а, заставишь его, важнецкая штука! – протянул высокий парень в барашковой шапке. – Скажет: я не я и лошадь не моя.
– А толк-то какой? – спросил один из парней, снятых с гимнастики, кудрявый и веселый. – Ну, женим мы их, а дальше что? Чуд-дак! Он пойдет и на другой день разведется.
– Ну, это ты, Ахтыркин, зря, – стукнул Хайло. – Это следить можно, а то алименты платить будет.
– Уследишь за им, важнецкая штука! – влез опять высокий. – А кроме того, как женится, ты думаешь, сласть какая ей будет? Лупить он ее смертным боем будет – и все, а алиментов с этого хулигана не взыщешь.
Высокий говорил уныло и протяжно: похоже было, что выражение «важнецкая штука» он и вклинивал только для того, чтобы продлить речь.
– Чуд-дак, – подтвердил кудрявый Ахтыркин. – Да она сама от него на другой день сбежит!
– Ну а ты, Васька? – обернулся на соседа Хайло.
– Ух-х-х-ма, – засопел Васька. – Так-то оно так, да и эдак-то оно вот эдак. Ф-ф-ф-ффма! Я еще – этого, ф-ф-ф-ма, не разобрался в вопросе.
– И долго же ты, черт сопатый, будешь разбираться?! Тут, видишь, надо сейчас же ответить, а не разбираться. – Морщинка на лбу Хайла нагнулась, словно собираясь ударить на Ваську в штыки. – Девчина, видишь, ждет ответа. А ты тут разбираешься!
– Это, конешно, ф-ф-ф-ма, так, – засуетился Васька смущенно. – Тут другого ответа нет, и… и не может быть, фм-м-ма! Но ведь опять-таки, хм-м-ма, что касается касательности, то ведь тут опять же относится вопрос, хым-м-м-м, какая помочь должна быть?
– Помощь должна-а быть, – утвердительно протянул высокий. – Тут пе-ервое дело, важнецкая штука: помощь.
– Ну, в общем, я вижу: согласны, – закрепил Хайло. – Я понимаю вас так, что вы от помощи не отказываете, только остается вопрос: чем и как именно помочь. Кто имеет? Да, я забыл сказать: семейное положение паршивое. Мать из дому выгонит, ежели узнает. Ну?!
Ахтыркин навертел кудри на палец, дернул изо всей силы книзу:
– Вот… предложение. Взять ее клубу… полностью содержать, пока не родит… Живет пусть здесь, в клубе. Ну… – Ахтыркин дернул палец еще сильнее, словно хотел оторвать клок волос от головы.
– Ну, это… фм-м-м-ма, – заерзал Васька. – Не-ет, такое дело, хым-м-м-м, не подходит. Тут подход касаемый другой, в относительности. Хм-ма! Денег ей выдать… на жительство. Пусть, этого, фым-м-м, живет как хочет. Отдельно от матери.
– Ва-алынка, – протянул высокий. – А потом она с ребенком куды денется? А? Ээ-э-то ты рассудил? Деньги! Ва-жнецкая штука! А потом как и куды?
– Да и денег нет, – перебил Хайло решительно. – Откуда возьмешь денег? Сам все плачешь: на книги нет, на дрова нет! А ведь это много надо: клади не меньше три червонца в месяц! Ну, кто еще имеет?
– Аборт! – выпалил молчаливый активист.
В кипятильнике стало слышно, как поют и возятся через коридор в комнате драмкружка. Потом кто-то заорал: «Фе-едька!» Кто-то протопал тяжелыми сапогами, – видно, бегом. Хайло спросил:
– А это… не опасно?
– Ка-кой там!..
– Это по-олная опасность есть, важнецкая штука, – вздохнул высокий. – У меня мать от родов померла.
– Так то – от родов, а то – аборт. Вполне пустяки. Одна минута…
– Неправда это! – крикнул Хайло, и морщина пошла в штыки на рассказчика. – Есть опасность, и большая опасность! Я читал! Опасность есть в загрязнении… видишь, в каких-то там неправильностях, а есть… С этим осторожно надо… Кой черт пустяки! Тебе – пустяки, а девчина умрет под ножом, ей не пустяки! Ну, ладно, я вижу – выход один, если она сама согласится. Это, видишь, большая ответственность на нас ляжет. Берем мы эту ответственность или не берем? Кто имеет?
По коридору снова кто-то пробежал – мягко, почти неслышно, в валенках. Из драмкружка доносилось: «Поэтому, Галилей, мы к тебе предъявляем… Поэтому, Галилей, мы к тебе предъявляем…»
В коридор ворвались голоса: «Ребята, девчата, на марксистский! Ребята, на марксистский! Бегунов, иди на марксистский!»
– Тут вот что, – смущенно начал Ахтыркин. – И так говорят… что клуб рабочей молодежи… что мы тут развратом занимаемся… А если про это узнают…
– К черту! – злобно крикнул Хайло. – К такой и такой матери! Кто говорит? Ну? Кто говорит? Какая сволочь это говорит? Ну? Кто говорит?
– Да старое бабье больше стрекочет, ва-жнецкая штука, – отмахнулся высокий. – Не стоящие внимания… Это пусть. Им крыть нечем, ну…
– Нет, Ахтыркин, ты скажи: кто говорит, – вцепился Хайло. – Не можешь сказать, так я тебе скажу: обыватели говорят, вот кто говорит!!! Сталоть, по-твоему, мы должны равняться по обывателям?! А?! Ну, скажи, скажи?! Эх ты, голова с мозгами! Ты бы еще про белогвардейцев вспомнил! А потом – конечно… само собой понятно: трепать про это нечего!
– Кто будет трепать, тому я пропишу! – внезапно вскочил со скамейки Васька и поднял громадный кулак кверху. Куда-то девалось и сопенье и вялость: только с Васькой с одним во всем клубе и происходили такие внезапные перемены. – Я те потреплю! Язык вырву… с корнем!
– Ну, конечно, – тяпнул о крышку куба рукой Хайло. – Сейчас я к ней пойду, объясню все это, и тогда… завтра направим… Ты, Васька, крой сейчас в больницу, узнаешь там, как и что. Ежели в казенной нельзя, валяй в частную. Спросишь, сколько денег надо. Ахтыркин, сколько в кассе денег?
– Три рубля семьдесят шесть копеек, – без запинки ответил Ахтыркин.
– Ну… в случае чего… я достану, – сказал Хайло, выходя в дверь. – Надо.
За ним шмыгнул Васька.
4
С того момента, как Манька Гузикова явилась в приемную больницы вместе с Васькой Сопатым, записалась, стала Гузиковой Марией, работницей-подростком, 16 лет,? 102, надела чистое, холодное, как будто чужое белье, напялила тоже чистый, но тоже как будто чужой халат, – перестала она сознавать себя простой, обыкновенной девчиной-работницей с прядильной фабрики; Манька Гузикова как будто осталась там, за порогом больницы, где-то в рабочем поселке, незаметная и безобидная; а вот здесь, на койке, сидит уже Мария Гузикова, и на нее обращают внимание взрослые и серьезные люди, и очень скоро с этой Марией Гузиковой будет что-то страшное и позорное, от чего белье не становится теплым, как обыкновенно, от тела, а холодит спину и заставляет ноги дрожать.
– Гузикова, в операционную, – равнодушно сказала сиделка.
Манька с трудом, как тяжелобольная, поднялась с постели, пошла; только тут заметила какие-то бледные лица, следившие за ней с кроватных подушек; сиделкина спина колыхалась впереди деловито и спокойно; сердце Манькино зашлось было, Манька чуть не упала, но удержала себя: «Так тебе и надо, теперь нечего дурака валять…» В операционную вошла почти спокойная.
Грузный седой доктор с румяным лицом кончил мыть руки, обернулся, шагнул к Маньке, поднял ее подбородок, сказал:
– Значит, ребеночка не хотите? Жаль, жаль! Ну, снимайте халат.
Манька скинула халат, легла куда велели, и тут же рядом с ней очутилась давешняя докторица, взяла Манькины руки, развела их в стороны, кто-то еще потянул Манькины ноги, сколько-то жуткого времени прошло, и в тело, прямо в сердце, разворачивая его и леденя, вошла невероятная, нестерпимая, несосветимая боль и жгучим, калящим своим острием засверлила все дальше и глубже. «О-о-о-о-ой!» – захотелось закричать, завыть, заорать, но Манька закусила губы, закинула голову назад, а наверху был светлый, очень высокий потолок, он был белый и беспощадный, он словно говорил: «Ну, не сметь орать, лежи смирно, сама, черт паршивая, виновата». Но боль не прекращалась, она охватила все тело, боль стала живой, боль ожила и острые когти свои вонзила в Манькино тело и сверлила, сверлила, сверлила без конца, без пощады, без надежды… Потолок помутнел, улетел куда-то еще выше, и вот уже не стало видно, в глазах стала какая-то мутная, нудная пелена, и она соединилась с болью, заполнила все Манькино тело, отделила Маньку от земли, от людей, от больничной комнаты. Манька стояла одна, одна во всем мире, и осталась с ней только боль – бешеная, въедающая, разрывающая тело на куски, на части, на мелкие кусочки, и в каждой крохотке этой разорванной была все та же нестерпимая боль. Потом в сознание вошло: «Ну, когда ж кончится? Когда? Ну, когда?!» Боль стала утихающей, замирающей, словно уходила прочь, умирала… Руки стали свободными: значит, их выпустили, значит, их выпустила докторица; значит, все кончено, можно уходить. Но боль еще держала изнутри. Манька поднялась, опять упала, увидела потолок, докторицыны черные глаза.
– Молодец, малышка, молодец! – сказал ласковый и румяный доктор. – Прямо молодчина: такая малышка, а не кричала. Крепкая!
Гордость вспыхнула в Манькином сознании. Захотелось скорее вскочить, побежать в клуб, прямо к Хайлу, сказать ему: «Вот, самый главный доктор сказал про меня, что я крепкая! И ты надейся на меня, я не подгажу!..» Но Маньку подняли, отнесли в палату, в кровать.
Внутри болело, но не так уже сильно, можно было перенести. Манька лежала несколько времени с закрытыми глазами, а когда открыла, то увидела у кровати Ваську Сопатого.
– Ну, ты, этого, хм-м-ма… как? А? Маруськ? – спросил Васька.
– Уходи, уходи, – в ужасе зашептала Манька. – Уходи скорей, тебя еще за того… сволоча примут!
– Да нет, хым-м-м, – смутился Васька. – Вот хлеб я принес, – может, проголодалась, так ты, этого… ешь! – И он сунул ей прямо в лицо большую белую булку.
5
Прошло не больше двух дней и двух ночей с той минуты, когда Манька увидела в клубе Володьку-арестанта, а Маньке казалось, что она прожила целую большую и тяжелую жизнь, как будто схватила ее чья-то большая рука, безжалостно окунула в нудный и тошный водоворот, водоворот перекрутил ей голову, вырвал ее из привычной простой жизни, повертел, повертел во все стороны и выбросил – и прямо на крылечко покосившегося домика в рабочей слободке. Матери что-то нужно сказать: в первый раз в жизни Манька не ночевала дома, – в больнице заставили силком отлежаться, хоть Манька чувствовала себя здоровой и рвалась домой в самый день операции. А вот что сказать матери, Манька и не знала. Сказать: «У подруги ночевала», – мать изобьет: зачем не предупредила? Летний вечер был тих и легок. Манька переминалась на крылечке с ноги на ногу, как вдруг дверь отворилась, и на пороге появилась мать с ведрами в руках.
– Пришла?! – спросила мать, поставила ведра и сложила руки на груди. – Пришла, стервочка? – это уже шепотом, чтоб соседи не слышали. – Пришла, поганка?! Пришла, лахудра?! Где ж это ты таскалась-то?! А? Ну, иди, иди в горницу-та!
Манька враз поняла, что мать знает – или подозревает. Но странно: обыкновенно, когда мать ругалась и дралась, Маньке становилось тошно, беспокойно в страшно. А теперь – ничего. Манька прошла в комнату; мать управилась с ведром и, войдя, засвирепела сразу:
– Ну, сволочища!! Ну, потаскушина!! Ты и рта не открывай теперя, лучше не говори ничего, не раздражай ты меня, все одно не поверю! Ты што же это матерь-то свою поганишь?! Ты думаешь, слушку нету?! Ты думаешь, все так обойдется?! Ну и сволочища! Ну и паскудина!
Мать шагнула, протянула руку и рывком сдернула с Манькиной головы красный платок.
– Аааа, стерва!
«Не дамся бить, – упрямо встало в Манькиной голове. – Вот не дамся и не дамся».
– Отдай платок! – Манька протянула руку. – Отдай, мать, платок, я тебе говорю!
– Мне и слушать-то тебя не желательно, – зашипела в ответ мать и крючками пальцев вцепилась в Манькины волосы, словно не мать, а ведьма какая – седая, страшная, чужая. Манька рванулась, отскочила в угол.
– Отдай платок, говорю! Не то плохо будет!
– Ты не даесьси! Ты не даесьси! – закричала мать истошно. – Да што ж ето, люди добрые, она теперь не дается!! Матери родной – не дается?! Чему ж тебя теперя в сукомоле обучили?! – Мать рывком села на табуретку, хлопнула ладонями о колени. – Матери родной не даваться?! Ах ты лахудрина несчастная!.. – Мать вскочила, устремилась на Маньку. Манькины руки как-то сами собой выбросились вперед, мать наткнулась на них, отлетела к столу.
– Отдай платок, мать, не то в суд подам, – спокойно сказала Манька. – Я серьезно говорю – в суд подам.
– И ето на мать родную в су-уд?! Да, люди добрые, где ж ето теперь видано?! Шляется незнамо где, незнамо с кем, а потом в су-уд?! Ты зачем ето, стерва, в больнице была? – опять засвирепела мать. – Отвечай, сволочища! Всю рылу искровеню, отвечай!.. Узнаешь мой суд, га-а-адина!.. Видели тебя, с каким-никаким коблом в больницу пошла!
– Отдай платок!
И Манька вцепилась в материну руку. Мать дернулась, задела за ножку стола, покатилась на пол, заголосила:
– Спасите, люди до-о-обрые! Убивают! Убивают!!!
Маньке стало противно и не по себе; рванула дверь да так, без платка, простоволосая и вышла во двор. Синий воздух был свеж и отраден. Где-то в огородах лаяла собака, задорно и отрывисто. Манька постояла на крыльце, потом решительно пошла в клуб.
«Черт с ним, с платком, – неслись в голове мысли. – Возьму там у девчат! А только как вот в клуб показаться? Девчата небось проведали… Ну, да с девчатами-то ничего… Побузят, побузят – и кончат. А вот с Хайлом встретиться – стыдно. Он небось опять стал сердитый. Смотреть будет на меня, как… на такую… Ой, стыдно, стыдно; лучше совсем не ходить…»
Манька остановилась. Переулок был спокойный, голубой и ровный – такой же, как всегда. Кое-где загорелся уже в окнах желтый огонь; было, должно быть, около десяти. В это время в клубе перерыв занятий: значит, все в коридоре; значит, легче всего встретиться с Хайлом. Но тогда – куда же? Домой?
– А-а-а-а, вот ты где попалась! – странно ласковый и знакомый голос – прямо над ухом; и сзади две руки обхватили, не пускают. Володька! И дальше поет: – А я тебя, Марусенька, поджидал! В клубе – там, знаешь, неловко к подойти-то к тебе! Ну, пойдем, что ль, погуляем? Ночка темная, я боюся, д-правади меня, Маруся!!! – горячим таким шепотом у самого-самого уха. Манька отвела Володькины руки, повернулась, как-то сам собой поднялся кверху Манькин кулак – и с размаху в противную, наглую морду. И сейчас же, со стучащим сердцем – бежать… скорей, скорей, лишь бы не догнал!.. Сзади – ругатня на весь переулок: «Ну, погоди же ты у меня», – топот тяжелых сапог. «Догонит, догонит, еще только один переулочек, еще!.. Да нет, догоняет…» Сам собой вырвался крик: «Аааа!..» Манька бежала быстрей, нажимая из последних силенок… Еще дом, еще… И перед Манькой на повороте засияла ласковая красная звезда. Ноги одеревенели, но бежали, бежали, словно сами собой… Уже Володькино тяжелое дыхание почти над Манькиной головой.
Дверь распахнулась – словно ждали Маньку, – и Манька влетела в клуб, к Ваське Сопатому чуть не в объятия.
– О-о-о-о, – сказала Манька, прислонившись к стене, а Сопатый было:
– Ты чего, хм-м-ма, как с цепи?..
Но не договорил: в двери вырос Володька-арестант. Васька рванулся вперед и принял Володькин наскок.
– Ш-ш-што, с ума, што ли, сшел, чер-р-рт? – зарычал Володька. – Своих перестал пускать?!
– Своих пускаю, – ответил Васька, загородив собой дверь, – а тебе подождать придется.
– Э-э-это еще почему?
У двери стало несколько ребят – решительные, бледные, спокойные, словно из земли выросли; должно быть, ждали Володьку.
– До общественного суда, – ответил Васька. – Общественный суд над тобой будет.
– Пшел к чер-р-рту, какой там суд! – Володька двинулся вперед. Но ребята стали стеной, Васька сделал движение, – и Володька покатился по мостовой, матерщиня и чертыхаясь.
На Маньку наскочили девчата, завертели, закружили, потащили с собой по коридору. А по коридору шел навстречу грозный Хайло, и морщинка на лбу стояла, как штык. Морщинка качнулась, на Маньку глянули строгие, а вовсе не добрые глаза, и Хайло хотел пройти уже мимо, но было, должно быть, в Манькиных глазах что-то странное, потому что Хайло остановился, сказал:
– Ну, чего скисла?
Манька хотела ответить, что нет, не скисла, что она храбрая и крепкая, да язык не шевелился, и вдруг Манька поняла, что она и вправду скисла. На глазах выскочили слезы. Хайло, должно быть, их заметил, потому что ударил по плечу, сказал:
– Ну, чего ты?.. Пролетария маленькая? Ступай, дурашка, на политграмоту.
И пошел. А Манька вприскочку побежала по коридору, и горячая, славная такая волна пошла по спине и залила сердце. Это потому, должно быть, что из глаз Хайлы глянула на Маньку великая товарищеская любовь всего рабочего класса к маленькой, неразумной дочери.
Я показал Ваньке Петухову, и он говорит, что рассказ – правильный. А по-моему, это случай. Я вполне верю, что эти самые «аборты» не обходятся без того, чтобы девчину искалечить. Лучше пускай они рожают хороших и здоровых ребят.
Должна быть смена.
15 марта.
Я давно уже заметил, что Венька Палкин в школу не ходит. Я так думал, что это из-за капустников. Теперь мне кажется, что по другому поводу. Но вмешиваться я в это не стану. Мне кажется, что Никпетож прав и что следить за товарищами – не совсем благовидное занятие.
Так как я разошелся с Сильвой, то мне не с кем было дружить, и я все чаще бываю с Черной Зоей. Она мне призналась, что раньше меня ненавидела за всякие придирки. И что переменила ко мне чувства после спектакля, когда я очень ловко вышиб рапиру из рук Сережки Блинова.
Занятия мои идут нормально. Головные боли прекратились и ф-ф-п-п – тоже. Я каждое утро обтираюсь снегом.
21 марта.
Сегодня ко мне подходит Сильва и говорит:
– Костя Рябцев, я принуждена тебе сказать, что окончательно переменила мнение о тебе. Раньше я думала, что ты настоящий комсомолец и верен идеологии. А теперь я вижу, что ты просто притворялся и что настоящая твоя идеология далеко не соответствует комсомолу.
– Я никогда не притворялся, – отвечаю я. – И откуда ты знаешь мою настоящую идеологию?
– Тебе это прекрасно известно. Но и мне известно, что вы устраивали с Веней Палкиным.
– Прежде всего, я ничего не устраивал, а только ходил. А потом, значит, это ты писала анонимки?
– Ах ты дрянь ты эдакая, – говорит Сильва и смотрит мне прямо в глаза. – И ты мог это сказать? Хорош!
Повернулась – и уходит.
– Стой, Сильва, – говорю я. – Ты действительно думаешь, что у меня не комсомольская идеология?
– Я с тобой и разговаривать-то не хочу. – И ушла.
Мне было до крайности обидно, но я ничего не мог сделать, потому что отчасти она права. Хотя я никогда не притворялся.
Но все-таки я ей докажу.
23 марта.
Произошел большой и все-таки не совсем понятный скандал.
В школу явился служитель культа (поп) – отец Лины. Он вызвал Зин-Палну, и они долго объяснялись. Отец Лины, весь красный, что-то доказывал Зин-Палне, а она только разводила руками. Это было в шкрабьей комнате, поэтому никто ничего не слышал. Потом Зин-Пална, страшно взволнованная, ушла вместе с отцом Лины и вернулась только к концу уроков.
Сейчас же было созвано собрание шкрабов, а мы распущены по домам.
25 марта.
Мне очень тяжело будет написать это, но я все-таки напишу.
Сегодня, как только я пришел в школу, Зин-Пална вызвала меня к себе.
– Вы будете, Рябцев, со мной говорить вполне искренне? – спрашивает она.
– Буду, – сказал я и гляжу ей прямо в глаза. (Мне надоело врать.)
– Скажите, вы бывали на этих сборищах, которые устраивал Веня Палкин?
– Бывал.
– Вам приходило в голову, что вы этим не только срываете школьные занятия, но и подводите всю школу?
– Даю честное комсомольское слово, что не приходило.
– Что ж вы думали о связи школы с этими… явлениями?
– Я думал, что… раз это устраивается вне школы, то… одно к другому не имеет отношения.
– Ну, допустим так. А то, что случилось с Линой, вы знаете?
– Я видел, что она не ходит в школу и что это стоит в какой-то связи с… капустниками, но, даю честное слово, определенно не знаю.
– Лине придется уйти из школы, и она уезжает на Украину. Я думаю, вы сумеете так же молчать про наш разговор, как вы молчали про ваши капустники?
– Зинаида Павловна, я, конечно, буду молчать, – сказал я, и у меня в горле перехватило. – Только… Я думаю, что девчатам все уже известно гораздо лучше меня.
– Я с ними уже говорила. Ступайте.
– Погодите… Зинаида Павловна… еще один вопрос. Что… имеет отношение… то, что случилось с Линой, имеет отношение к… половому вопросу?
– Да. Имеет, – твердо сказала Зинаида Павловна. – Теперь идите.
Я ушел – только не в школу, а домой.
После записи 25 марта в тетради вымарано несколько страниц.
5 апреля.
Вчера я получил письмо от Лины:
«Костя Рябцев! Я тебя теперь не виню ни в чем и понимаю, что сама очень виновата. Костя Рябцев, когда ты получишь это письмо, то я буду так далеко от тебя, что мне не будет стыдно. Я теперь начинаю новую жизнь, а все то, старое, прошлое и мрачное, осталось позади и вычеркнуто из моей жизни навсегда.
Знай, что я сошлась с В. П. из-за тебя. Верней, со зла на тебя и с отчаяния, что ты со мной груб и что так глупо и пошло вышло наше самоубийство. Все это прошло, прошло, прошло, – и теперь мне так легко… Я советую тебе тоже бросить такую жизнь, потому что, кроме беспросветного мрака, ты ничего не получишь. А все прекрасное в жизни у тебя, как и у меня, еще впереди.
Тоже узнай, что письма писала всем родителям я. Я мучилась, я страдала и хотела все это прекратить, только не знала как. Вот и выдумала. Мне стало от этого еще тяжелей. И только теперь, вырвавшись из мрака на свободу и свет, я поняла, как была глупа.








