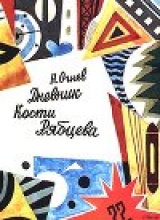
Текст книги "Дневник Кости Рябцева"
Автор книги: Николай Огнев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
– Но так как речь идет о личностях, – сказала Зин-Пална, – то я предложила бы поставить вопрос несколько шире, а именно: допустима ли в пятой группе второй ступени такая неграмотность, которая обнаружена мною в сочинениях на тему о «Евгении Онегине».
Сережка Блинов, который до сих пор молчал, говорит с места:
– Мы пришли сюда учиться, а не диспуты разводить.
– Ну, признаюсь, Блинов, – отвечает Зин-Пална, – вы меня удивляете. Вы, такой сторонник всестороннего обсуждения каждого вопроса, и высказываетесь против диспута. Впрочем, если большинство того же мнения, я отказываюсь от своего предложения и готова рассказать вам о Пушкине и его произведениях еще раз. Если вы соблаговолите вспомнить, в прошлом году Пушкину были посвящены два месяца. Вопрос о Велепольской придется поставить на обсуждение школьного совета и общего собрания школы.
– Ну нет, – говорит Сильва. – То, что говорит Блинов, еще не обязательно для всех нас. Я, например, считаю, что вопрос о Велепольской должен быть обсужден немедленно и даже должна быть вынесена резолюция с указанием мер, которые должна принять школа. – Стали голосовать, и оказалось что половина – за диспут, а другая половина – против. Тогда Сережка Блинов встал и говорит:
– Я ухожу. Здесь была применена мера, которую обыкновенно применяют наши школьные работники. Перед самым голосованием Зинаида Павловна пригрозила школьным советом и общим собранием. Естественно, что ее предложение собрало известное количество голосов, и диспут, несмотря на внутреннее сопротивление собрания, все же состоится. Такого рода угрозы можно назвать насилием и моральным давлением; в диспуте же, который создан насильно, я участвовать не желаю.
– Вам нельзя отказать в логике, Блинов, – отвечает Зин-Пална, – но согласитесь сами, что такого рода явления, как сочинение Велепольской и выходка Громова, не могут проходить бесследно как мимо учащихся, так и мимо школьных работников. Что же прикажете делать? Я предлагаю меру, которая может дать ориентировку в дальнейшем, – меру, казалось бы, разумную и для части собравшихся приемлемую, – вы говорите, что пришли учиться, а не разводить диспуты. Обращение к школьному совету и общему собранию вы называете насилием. Можно подумать, что вы, Блинов, вообще хотите затушевать вопрос и не желаете по каким-то причинам его разрешения.
– Да пусть он уходит отсюда вон, – крикнул я с места. – Слушать такие споры – это самое скучное и ничего не может нам дать. Давайте или диспут, или уроки, а эту бузу нужно кончить.
– Конечно, правильно! – закричали ребята. – Даешь одно или другое!
Из девчат кое-кто ушел за Блиновым, но большинство осталось, и решили открыть диспут. В председатели выбрали меня.
Зинаида Павловна пошла и села за парту, а я на ее место. Первым взял слово Юшка Громов.
– Я не вижу никакого поступка в своем поведении, – сказал он. – Что же из того, что я сказал про Стаську? А она не пиши таких сочинений!
– А ты не ори, когда тебя не спрашивают. Не по существу. Садитесь, Громов, вас вызовут, – сказал я.
Тут Юшка начал было разоряться, что я не так председательствую и что я не имею права делать замечаний, но на него закричали, и он сел. Потом взяла слово Сильва.
– Я, – говорит, – чувствую, что своим выступлением возбудила против себя часть девочек, но без этого нельзя было обойтись. Я им желаю добра, а вовсе не зла. Пятая группа через несколько месяцев должна поступить в вузы, вообще войти в настоящую жизнь. И что же они туда принесут с собой, в вузы? Ведь то, что нам сегодня читала Зинаида Павловна, даже нельзя назвать некультурностью, это просто дикое невежество. Самое плохое то, что та же Велепольская не нашла нужным посоветоваться с кем-нибудь из школьных работников или с кем-нибудь из ребят, кто знает предмет получше ее. Она просто «на шарап», – как говорят наши малыши, – взяла и написала; авось проскочит! Мое конкретное предложение – это пусть наша пятая группа обратит на себя внимание еще до того, как выскочит в абитуриенты, и ликвидирует свою неграмотность.
Затем выступил Володька Шмерц. Как только он встал, я сейчас же почувствовал, что он что-нибудь нахулиганит.
– Зинаида Павловна говорит, – сказал Володька, – что Пушкин умер бы во второй раз, если бы прочел наши сочинения. А я так думаю, что и пускай бы умер, потому что он был буржуазного происхождения, а мы, как поется в песне, – «молодая гвардия рабочих и крестьян».
– Не по существу, товарищ Шмерц, – сказал я. – Потрудитесь держаться темы и не разводить бузы. В противном случае я вас лишу слова.
– Хорошо, я буду по существу, – говорит Володька. – Так вот, по-моему, Громов имел право назвать автора сочинения про «Онегина», потому что если Велепольская в пятой группе подолгу разговаривает со шкрабами и даже наедине, так это еще не значит, что она очень образованная…
– Лишаю оратора слова, – сказал я. – Еще того недоставало, чтоб ты, Володька, стал разные сплетни здесь разводить.
Шмерц как-то скверно захохотал и сел на место. А я ему вслед говорю:
– А если вы, Шмерц, вообще будет хулиганить, то я попрошу вас уйти с собрания.
– Чтой-то ты какой вежливый, Рябцев? – ответил Володька Шмерц. – Должно быть, в школьный совет метишь.
Я обозлился.
– За намеки на личность председателя прошу вас, Шмерц, оставить собрание.
– Я не подуруша какой-нибудь, чтобы ни с того ни с сего уходить с собрания.
– Что это еще за «подуруша»! Ступай вон!
– Ну хорошо, я уйду. А подуруша – это из писем Пушкина. Советую тебе, Рябцев, прочитать. Ликвидируй свою неграмотность.
И ушел. По-моему, он нарочно все это подстроил, для того чтобы при всех доказать, что я не читал писем Пушкина.
После этого взяла слово одна из старших девочек и начала говорить против Сильвы. Кроме того, она сказала, что виноваты в неграмотности не учащиеся, а шкрабы (с чем я отчасти согласен) и что не нужно было таких неграмотных переводить из группы в группу. Она говорила довольно мирно, и, наверное, диспут так бы и кончился без инцидентов, но тут произошло следующее.
В аудиторию быстрыми шагами вошел Никпетож, огляделся, увидел, что Зин-Пална сидит на парте, и подсел к ней и начал что-то очень горячо говорить шепотом. Зин-Пална отрицательно качала головой и ему тоже горячо отвечала. В конце концов все замолчали и начали вопросительно смотреть на них на обоих.
И вдруг Никпетож повышает голос и возбужденно говорит:
– А это разве педагогический прием: шельмовать при всех взрослую девушку и доводить ее до слез и до истерики?
Зин-Пална спокойным голосом, но тоже вслух отвечает:
– Здесь разговаривать об этом не стоит, Николай Петрович; поговорим в учительской.
– Нет, это совершенно неправильно, – говорит Никпетож и хотел было продолжать, но тут я собрался с духом и сказал:
– Николай Петрович, хотя я вас очень уважаю, но я вам слова не давал, и поэтому если хотите вести частные разговоры, то ступайте в коридор. Здесь происходит диспут.
– Ах, здесь диспут, извиняюсь, я не знал, – отвечает Никпетож и вышел из аудитории, а за ним Зин-Пална.
Как только они вышли, все сорвались с места, и как я ни стучал об стол кулаками, порядка мне восстановить не удалось. Девчата сбились в угол и начали шушукаться, а ко мне подходит Сильва и говорит:
– По-моему, мы все быстрыми шагами идем к мещанству. Как бы от этого избавиться?
– А в чем ты видишь мещанство?
– Да вот: разве – это диспут? И кроме того, я сейчас себя поймала на скверной мысли. Когда вошел Никпетож, я почти была уверена, что он войдет…
– И я тоже.
– Ну вот. Это и есть мещанство. Пойдем отсюда.
В шкрабьей комнате шел горячий спор: там все шкрабы были в сборе, и громче всех выделялся голос Никпетожа. От маленьких я узнал, что со Стаськой Велепольской случилась истерика и что она ушла домой.
Ребята как-то странно притихли. Я решил, что самое лучшее – это идти на футбольную площадку. Так я и сделал.
По школе все упорнее идет слух, что между шкрабами полный разрыв и что Никпетож собирается уходить из школы. И будто бы на стороне Зин-Палны – все остальные шкрабы, а Никпетож – в одиночестве. Из ребят многие на стороне Никпетожа, а девчата – почти все.
Все как-то странно перемешалось: я, например, не знаю, как мне теперь быть и на чью сторону становиться. Сильва ж целиком на стороне Зин-Палны, потому что, по ее мнению, Никпетож, какие бы чувства в Стаське ни питал, должен был поддерживать справедливость и открыто признать, что Стаська не имеет права писать такие сочинения и что вообще Стаське не место в пятой группе.
Я с этим согласен, но, с другой стороны, во-первых, я очень люблю Никпетожа, а во-вторых, я из принципа всегда становлюсь на сторону меньшинства. А тут хотя из ребят-то большинство на стороне Никпетожа, но шкрабов – большинство против, и они, конечно, его победят, потому что шкрабы всегда побеждают, если они в большинстве.
Для меня сводится вопрос к следующему: Сильва или Никпетож? Сильва говорит, что если я стану на сторону Никпетожа, то это значит, что я – беспринципный человек.
Вопрос этот решить сразу нельзя, а надо обдумать. Поэтому я решил до тех пор воздержаться от соединения с какой-нибудь партией, пока не найду настоящего ответа на этот вопрос.
26 августа.
Ввиду того что скоро наступает новый учебный год, я пошел вместе с Сильвой к секретарю ячейки Иванову, чтобы узнать, когда мы станем настоящими комсомольцами, а не кандидатами. Иванов сказал нам, что поставить об этом вопрос на ячейке можно и что даже, по всей вероятности, нас обоих утвердят, но этого мало. Тут он еще вставил, что, по его мнению, мы оба при желании можем быть активистами, потому что данные есть. Мне это было очень приятно. Потом Иванов стал развивать о том, что дело не в вывеске и не в том, чтобы называться комсомольцами, а в том, чтобы на самом деле быть ими. А для этого нужно поднять работу в школе на должную высоту. Я сказал, что, по моему мнению, поднимать работу должен бывший секретарь ячейки Сережка Блинов.
– Ну, уж с этим я не согласен, – говорит Иванов. – Во-первых, ваш Блинов – бузотер порядочный. А во-вторых, если все комсомольцы будут валить на секретаря, то любой секретарь, хоть он двужильный, лопнет от работы, тогда как другие будут бездельничать. Нерационально все валить на секретаря. Тем более что государство дает вам возможность стать в ряды культурных людей, и вы должны оправдать это доверие теперь же и показать, что вы действительно в авангарде. А для этого обязательно самим работать всеми силами, а не ссылаться на секретарей.
– Вот что я хотела спросить, товарищ Иванов, – говорит Сильва. – Вы сейчас упомянули культурных людей и что государство дает нам возможность стать в их ряды. Ну, так вопрос вот в чем. Наши наиболее развитые девочки по окончании школы хотят идти на фабрику. Может быть, было бы лучше, если бы они прямо, не кончая школы, шли на фабрику?
– А зачем им на фабрику? – спросил Иванов. – Что они будут делать на фабрике?
– Конечно, работать, – отвечает Сильва. – А вообще затем, чтобы врасти в класс.
– Ка-а-ак? – с удивлением спрашивает Иванов.
– Врасти в класс. Стать пролетарками.
– Да ведь это очень трудно – после второй ступени работать на фабрике. И кроме того, на фабрике начинают с подростков.
– Трудности можно преодолеть.
– Спору нет, можно. И конечно, пожалуй, пользительно было бы вашим барышням поворочать горбом, – задумчиво сказал Иванов. – Да ведь такое дело: будет ли рационально? То есть в том смысле, будет ли это рациональное использование энергии? Ведь как-никак на вас всех громадные деньги народные ухлопаны. И ухлопаны для того, чтобы вы могли приносить пользу своими спецзнаниями. А вы вдруг бросите весь этот багаж на полдороге и начнете переучиваться на фабричных работниц. Значит, на вас нужно тратить еще какую-то добавочную, лишнюю энергию, – это для вашего обучения на фабрике. А лишней энергии у государства нет. Кроме того, у нас масса безработных, часто квалифицированных безработных. И мы, вместо того чтобы удовлетворить трудом этих безработных, будем тратить время, деньги, вообще энергию на то, чтобы вас обучить сызнова, бросив к чертовой матери под хвост все, что истрачено на вас раньше. Нет, товарищи! Так не годится! Нам нужны врачи, учителя, инженеры, да, кроме того, техники средней квалификации. Откуда мы их возьмем, как не из второй ступени или из семилетки? Поэтому с фабрикой придется погодить.
– Значит, нам всем закрыт доступ на фабрику? – упавшим голосом спросила Сильва.
– Доступ не закрыт, – отвечал Иванов. – При известной настойчивости можно, конечно, поступить. Не на нашу, так на другую. Но вы должны поставить перед собой резкий вопрос: рационально ли? Ведь вы сознательные люди, а не какие-нибудь там анчутки беспятые. И раз вы сознательные и представляете себе затруднительное положение Советского государства, вы должны не увеличивать затруднения, а всячески их ликвидировать.
Тогда я спросил, как Иванов представляет себе нашу работу в школе и что мы должны делать, чтобы поднять работу на высоту.
– Работы вашей в школе никакой нет, – ответил Иванов; и мне стало очень обидно. – По крайней мере, не видно результатов. А чтобы поставить работу, нужно перестать болтать и взяться за дело.
Тогда я спросил, что могли бы делать, например, мы с Сильвой.
– А пионеры у вас организованы? – сказал Иванов.
– То есть как организованы? Они дают торжественные обещания, потом маршируют, носят галстуки, участвуют в демонстрациях, потом…
– Вот то-то и есть, что носят галстуки. Теперь везде в школах организуются форпосты пионеров из тех ребят, которые не нагружены в отрядах. Форпосты должны привлекать школу к участию в общественно-политической жизни страны, налаживать самоуправление, помогать учителям даже вплоть до учебной работы и еще проводить политическое, физическое и антирелигиозное воспитание ребят. Да всех задач не пересчитаешь. Вот вы бы и взялись организовать такой форпост у себя.
После этого мы ушли.
27 августа.
Был суд надо мной по делу Пышки.
Все было очень торжественно. Председателем суда был избран Сережка Блинов. Он хотя отнекивался, но в конце концов довольно вяло согласился. Обвинителей было двое: Алмакфиш и Нинка Фрадкина. Защитников – тоже двое: Никпетож и Сильва.
Для меня поставили отдельную скамейку, для Пышки – тоже. Потом избрали двенадцать заседателей: шесть ребят и шесть девчат. Когда я увидел, что в заседатели вошли Володька Шмерц и Юшка Громов и еще некоторые их приятели, я решил, что мне несдобровать.
Суд открыл Сережка Блинов. Он сказал:
– Слушается дело по обвинению Кости Рябцева в том, что он организовал совершенно недопустимую в школе возню с потерпевшей Еленой Орловой. Костя Рябцев, ты сознаешься в этом?
– В чем? – спросил я. – Что возился – признаю, но преступления не вижу. Жмали все.
– Кто все?
– Все ребята.
– А ты был предводителем и инициатором?
– Ничего подобного.
– Кто же, по-твоему, был инициатором?
– Никто. Просто жмали и жмали. Это – такая игра.
– Но ведь в игре бывают предводители: например, капитан в футбольной команде.
– Футбол – игра организованная, а это – неорганизованная.
– Ну, хорошо. Пока довольно. Лена Орлова, ты признаешь себя потерпевшей?

Пышка молчит.
– Ну что же, Орлова? – официальным тоном спрашивает Сережка. – Тебя все ждут.
– Он жмал, – пищит Пышка еле слышным голосом.
Все как захохочут. Сережка зазвонил в колокольчик.
– Публика, ведите себя приличней, иначе очищу зал заседаний. Итак, Орлова, ты считаешь себя потерпевшей.
– Да ничего подобного! – заорал Колька Палтусов из публики. – Просто она признает, что жмал.
– Палтусов, еще одно восклицание – и ты уйдешь из зала заседания. Что же, Орлова, это тебе приятно было?
– Неприятно, – пищит Пышка.
– Так почему же ты не обращалась к дежурному шкррр… школьному работнику?
– Боялась.
– Чего боялась?
– Да-а, чего… – пищит Пышка, – а вздуют.
Все опять захохотали. Сережка говорит:
– Это вздор, Орлова. Где это ты видела у нас в школе, что мальчики бьют девочек?
– Сколько раз, – отвечает Пышка.
– Разрешите мне вопрос, – ввязалась Зин-Пална из публики. – Скажите, Орлова, а почему эти драки не доводятся до сведения школьных работников и почему никто о них не знает?
– Да ведь это игра, – отвечает Пышка. – А бывает, что девочки бьют мальчиков.
– Ну, пока довольно, Орлова, – сказал Сережка Блинов. – Теперь свидетели. Суд вызывает только одну свидетельницу: гражданку Каурову, которая была в этот день дежурным шкррр… школьным работником. Елена Никитишна, что вы можете сказать по этому делу?
– Я могу сказать то, – говорит Елникитка, – что Рябцев, как мальчик безнравственный, несомненно, был во главе той шайки, которая нападала на Орлову. То, что и он и Орлова называют игрой, вовсе не игра, а безобразие. В школе это недопустимо. Если бы это был не Рябцев, еще можно было бы думать, что тут невинная детская шалость. Но о Рябцеве существуют другие сведения.
– Ну, о других сведениях мы говорить не будем, – сказал Сережка. – Кто еще желает дать свидетельские показания?
– Я, – говорит Колька Палтусов.
– Что же ты можешь сказать? Да говори поскорей.
Тут вдруг – Сильва:
– Я выношу протест, что председатель подгоняет свидетелей.
– Ну ладно, – отвечает Сережка. – Всем нечего тянуть. Говори, Палтусов.
– Ну вот, – начал Колька. – Я тоже в этом участвовал и не понимаю, почему судят одного Рябцева. Была обыкновенная возня, и если судить, то придется судить всю школу по нескольку раз в день. Пускай сами шкрабы вспомнят, возились они или нет, когда были маленькие или хотя бы во второй ступени…
– Говори: школьные работники, Палтусов, – поправил Сережка.
– Ну, школьные работники, это все равно. И в литературе написано, как возились. Только им раньше была дана большая власть, и за возню учителя в старой школе избивали и драли ребят, а теперь – нельзя, вот они и придумали суд…
– Суд никто не придумывал, – строго перебил Сережка. – Суд есть организованная форма советской общественности. Ну, довольно. Слово предоставляется обвинителям. Александр Максимович, пожалуйста…
И вдруг Алмакфиш неожиданно заявляет:
– Я отказываюсь от слова, потому что дело и так ясное.
Все посмотрели на него с недоумением. После этого выступила Нинка Фрадкина – второй обвинитель.
– Я, – говорит, – требую, чтобы Костю Рябцева обязательно наказали как можно строже: например, выгнали бы из школы. Потому что у него руки не на привязи и он не может пройти мимо девочки, чтобы не вытянуть ее по спине…
– А сама-то на прошлой неделе меня за волосы дернула, – говорю я.
– Подсудимый, твоя речь впереди, а сейчас молчи, – это Сережка.
– Я – один раз, а ты меня – сколько раз, – говорит Нинка. – Потом он – верно – постоянно устраивает жманье Лены Орловой. Они все говорят, что им нравится, как она пищит. Ну, а если им нравится, как я ору или как я хлопаю их по щекам туфлей, то они меня тоже будут жмать? А это безобразие, если они всех девочек начнут жмать. Поэтому я требую примерного наказания для Рябцева, и если не из школы исключить, то, по крайней мере, дать ему сто задач по математике и чтобы он все их решил в неделю.
– Ученьем не наказывают, – говорит Сережка. – Теперь пусть говорят защитники. Ты, что ли, Дубинина, первая.
– Могу и я, – говорит Сильва и вскочила с места.
Поглядел я на нее – и не узнал: глаза горят, волосы закудрявились и растрепались.
– Если, – говорит, – исключать Рябцева, то нужно исключить и всех остальных мальчиков. Пусть остаются одни девчата. Потому что и Фрадкина, которая обвиняла Рябцева, и все остальные прекрасно понимают, что не Рябцев один виноват, а все мальчики. В коридорах и в зале идет постоянная возня, и не разберешь, кто кого колотит или кто с кем возится. Но здесь мы пойдем против идеологии Советской власти, которая ввела совместное обучение для того, чтобы раскрепостить женщину и установить равенство полов. Конечно, может, Рябцев рукоприкладствует чаще, чем другие, но из этого еще не следует, что мы должны нарушать установленный революцией порядок и отделять девочек от мальчиков. Почему ко мне никто никогда не лезет ни с любезностями, ни с колотушками? Потому что я этого не желаю и никогда не допущу. Так же и другие. Вместо приговора Рябцеву я предлагаю вынести приговор всем девчатам, которые любят возню, а потом предлагают других исключить…
– Теперь Николай Петрович, – говорит Сережка.
– Мне, пожалуй, после Дубининой говорить больше нечего, – сказал Никпетож. – Но все же я могу добавить. В каждом человеке борются два начала: доброе и злое. Люди в свое время воплотили это в противопоставление: бог и черт, свет и тьма и так далее. И в литературе это отразилось. Например, есть такая драма Шекспира: «Король Генрих». Там описывается, как принц Генрих водит знакомство с пьяницей и распутником Фальстафом, нападет вместе с ним на прохожих, кутит и все такое прочее. Но вот Генрих становится королем, Фальстаф спешит к нему, думая, что теперь-то Генрих наградит его и опять начнет кутить безо всякого удержу, но тут-то Фальстаф и ошибается: Генрих едва вспоминает Фальстафа – и то как тяжелый, кошмарный сон… Это надо понимать так. В каждом человеке сидят и Генрих и Фальстаф. Может иногда – особенно в молодости – брать верх и Фальстаф, но достаточно, чтобы человек почувствовал ответственность перед другими, – и одолевает Генрих, и тогда фальстафовщина вспоминается как тяжелый сон… Теперь вы хотите осудить поступки Рябцева, в которых – я согласен с Дубининой – ничего особенного и нет: обыкновенная школьная возня. Но допустим, что это – фальстафовщина в Рябцеве, которая исчезнет как дым. А обвинительным приговорами мы толкнем Рябцева к противодействию и к продолжению фальстафовщины… А ведь в Рябцеве больше – принца Генриха, чем Фальстафа, то есть я хочу сказать: больше добра, чем зла…
Тут как сорвется с места Алмакфиш.
– Позвольте мне слово! – кричит. – Я, как обвинитель, имею возразить защитнику. Николай Петрович тут говорил про добро и зло и что в Рябцеве больше добра, чем зла. Я настаиваю и утверждаю, что качественно поступок Рябцева стоит по ту сторону добра и зла, а количественно он являет изобилие эпохи. Я кончил.
Так никто и не понял, что он хотел этим сказать. (А Никпетож любит Шескпира и уже куда его только не сует!)
– Имеете последнее слово, подсудимый, – говорит Сережка Блинов.
– Я себя оправдывать не стану, – сказал я. – Я не виноват, и все это знают, поэтому если я буду оправдываться, значит, буду защищать эту комедию. Но вот что я хочу сказать. Тут сначала Николай Петрович, а потом Александр Максимович говорили насчет добра и зла. Из политграмоты видно, что никакого добра и зла не существует, а все зависит от экономических отношений, а добро и зло – это есть идеализм. Я, например, думаю, что во мне нет никакого добра и зла: когда я сыт, то добрей, а когда голоден – тогда злей, и если ко мне пристают, то могу отдубасить. Вот и все.
Заседатели ушли и совещались ровно пять минут. Когда они вышли, у меня сердце так и схватило: а вдруг приговорили выставить из школы? Но Володька Шмерц прочел:
– …поставить Рябцеву на вид его поведение и прекратить жмание, а Орловой и другим девочкам тоже поставить на вид, чтобы не позволяли себя лапать и жмать.
Все вышло по Сильвиному.
28 августа.
Вышла новая стенгазета, без номера и без подписей, под заглавием: «За Никпетожа».
Так как я до сих пор не решил, к какой партии мне присоединиться, то я не только в этой газете не участвую, но даже не знаю, кто ее выпускал. Сильва тоже не знает.
Там есть такая статейка:
«Медицина – борьба с языкочесоткой
Профессором Ив. Ив. Дураковым найден способ лечения языкочесотки, в последнее время распространившейся до размеров угрожающей эпидемии. Многоуважаемое светило медицинского мира, получившее, кстати сказать, на днях Нобелевскую премию в размере двух соленых огурцов, посвятило борьбе с вышеуказанной болезнью меньшую половину своей жизни.
И. И. Дураковым найдена языкочесоточная бацилла, распространяемая укусами глуповодиса при сильно развитом бездельимусе.
Наш маститый ученый привил вполне самоотверженно указанную бациллу – себе, отчего стал болтать до 1000 слов в минуту, из них – 120 % гнуснейшей сплетневой чепухи. Благодаря, однако, геройской выдержке ученого им было открыто средство для борьбы с болезнью.
Средство это, состоящее из вытяжек из Каутского и других авторов, писавших о марксистской этике, названо Ив. Ив. Дураковым антисплетницин.
Принимать рекомендуется в свободное от занятий время, а также перед сном.
Помимо антисплетницина, тов. Дураков установил особую дисциплину лечения страшной болезни. Больной, находящийся на излечении, для достижения благоприятных результатов (снижение бацилловой продукции до 25 сплетушков в минуту) должен безостановочно обсуждать следующие темы:
1) сравнение поджога Москвы в 1812 году с имевшим место в нашей школе поджогом шкрабских правил,
2) черты сходства и различия между моторной лодкой, сюртуком, гвоздем и панихидой,
3) проблема закуривания папирос о блестящие лысины (доказать математически).
В беседе с нашим репортером гр. Дураков заявил, что первоначально он обратил внимание на языкочесоточную бациллу в мировом масштабе (когда ноты Керзона перевалили за размер воскресного «Таймса»). После того как эпидемия захлестнула и СССР, профессор переехал для специальных исследований в Россию, где и натолкнулся на нашу школу. На днях профессор начнет пользовать больных языкочесоткой в нашей школе.
Скипидар для смазывания языков у больных заготовлен в количестве нескольких тонн».
Всем это очень хорошо, и я с этим вполне согласен, но у меня с каждым днем все мучительнее развивается внутренняя борьба. За кого мне быть: за Никпетожа или против. Ходят слухи, что Никпетож окончательно и бесповоротно уйдет. Без него в школе будет пусто.
Я сказал про свои сомнения Сильве; она говорит, что ей тоже тяжело, но принцип прежде всего. И кроме того, Сильва говорит, что уже давно известно, что личность не играет в истории никакой роли. Это-то верно…
29 августа.
Я наконец решился – и обратился прямо к Никпетожу.
– Николай Петрович, – спрашиваю. – Когда личное и общественное сталкиваются, тогда чему следует отдать предпочтение?
– Общественному, – ответил Никпетож.
– Так. Поэтому… Я не мог быть в партии, которая за вас. Хотя мне это очень тяжело, я принужден быть в противной партии.
– Не нужно никаких партий, – сказал Никпетож, и мне показалось, что ему тяжело говорить. – Я знаю, что я… не прав. Я ухожу из школы. Я на некоторое время поставил личное выше общественного.
Я чуть не заплакал. Разговор этим кончился.
30 августа.
Мы с Сильвой – комсомольцы. Все инстанции нас утвердили. Нам поручено организовать в школе форпост пионеров. Это наша первая партнагрузка.
Сегодня стало окончательно известно, что Н. П. Ожигов уходит из школы. Я буду ходить к нему на квартиру.
1 сентября.
Я вошел в школьный совет от форпоста. Пионеры меня качали. Меня почему-то младшие ребята любят.
Да здравствует наш форпост!








