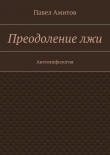Текст книги "Преодоление"
Автор книги: Николай Вагнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Новый прилив злости захлестнул Василия. Ему захотелось сдернуть с жены одеяло, стукнуть ладонью по столу и потребовать объяснения. Но тут же он усмехнулся. Теплая тяжесть опьянения обволокла голову, грудь, руки. Не все ли равно, где была Люба, и не все ли равно, как она ответила ему? Она же – чужая! Пора это понять. Совсем не нужный для него человек, лишний, не имеющий с ним ничего общего, кроме разве лишь вот этой, квартиры.
Глава шестнадцатая
УХОД
Снег выбелил город, надолго скрыл зелень газонов, пестроту цветочных клумб, запорошил ветви деревьев. Скучно и морозно стало в Речном. Зима взяла круто, без привычной смены заморозков и оттепелей, одним разом сковала землю, затянула наледью окна домов. Сорокаградусные морозы, ударившие необычно рано, в середине ноября, не предвещали ничего доброго. Они замедлили строительные работы, осложнили монтаж. Груздев нервничал, целыми днями не показывался в управлении, а лишь сообщал Лене по телефону, на каком объекте находится, и попутно отдавал неотложные распоряжения. Чаще всего Груздева можно было застать у спецмонтажников, потому что среди земляных, бетонных, отделочных и других работ, которые требовалось завершить до наступления весны, главным оставался своевременный пуск всех агрегатов.
Только ранним утром и в самом конце дня можно было найти Груздева на месте, и тогда его кабинет превращался в штаб – звонили телефоны, входили и выходили люди, возникали короткие, летучие совещания. Лена давно не помнила таких напряженных дней, несмотря на то что стройка на всех своих этапах не знала спокойного течения. И Лене верилось, так же, как верилось самому Илье Петровичу, что эти трудные месяцы не сломят упорства людей и не сорвут сдачу гидростанции в намеченный срок. Единственное, что усугубляло и без того сложную обстановку, – это приезд министерской комиссии. Она нагрянула неожиданно, была многочисленной и включала в себя специалистов различных профилей. Разделившись на группы, члены комиссии каждое утро разъезжались то строительным управлениям, вызывали людей, тщательно записывали их ответы на заранее подготовленные вопросы. Среди них неизменно повторялся вопрос о стиле руководства стройкой, в частности, об отношении к ее нуждам и к инженерно-техническому персоналу начальника управления Груздева. Об этом не раз слышала Лена от людей, ожидавших приема. Иные возмущались стремлением комиссии «подкопаться» под Груздева, другие злорадствовали: «Пусть поубавит пыл, не то время». Однако о предварительных выводах комиссии никто не знал: ее руководитель – моложавый, с каменным выражением лица человек, по фамилии Кронин, к Груздеву за все эти дни не заходил, да и другим работникам управления никаких мнений не высказывал. Но вот он появился в приемной с кожаной папкой в руке, едва кивнул Лене и прошел к Груздеву. «Наверное, работа комиссии подошла к концу, – подумала Лена. – Хорошо, если бы так!» Ей жаль было Илью Петровича, который и без того с наступлением зимних холодов совсем забыл о плохом здоровье и немолодых годах.
Лена открыла ящик стола и начала собирать бумаги. «Если не уйти сейчас, – подумала она, – можно снова опоздать на лекцию в институт». Лена была уже в пальто и собиралась заглянуть в кабинет Ильи Петровича, чтобы предупредить о своем уходе, как он сам вышел в приемную вместе с руководителем министерской комиссии.
– Ты что – уже собралась? – спросил Груздев. – Придется тебе остаться. Вот товарищу Кронину надо отпечатать срочные материалы. Для коллегии министерства. Добро?
Лена ничего не ответила. Сняла пальто. Подошла к столу и поставила на него машинку.
– Будете диктовать? – спросила она Кронина.
– Я думаю, вы разберетесь, – ответил он сухо и раскрыл папку. – Тут-все разборчиво… Спасибо, – сказал он Груздеву, присев рядом с Леной.
Когда они остались вдвоем, Кронин предупредил:
– Имейте в виду – материалы секретные. О том, что вы будете печатать, не должен знать ни один человек. Вам понятно? – Он посмотрел на Лену, увидел утвердительный кивок, выложил из папки докладные записки членов комиссии, поправленные и сокращенные, видимо, его рукой. – Здесь получится страниц тридцать. Ваш труд будет оплачен.
Кронин ушел, не добавив ничего к сказанному и не попрощавшись. Вскоре в пальто и меховой шапке появился Груздев.
– Задали, говоришь, работы? Ну ничего, терпи. Зато наконец распрощаемся с комиссией. Так, Елена Андреевна?
Илья Петрович улыбнулся, но Лена поняла, что за этой улыбкой не было радости. Уставшее лицо с проступившей на нем желтизной выражало досаду и растерянность. Он прошелся по комнате, постоял возле стола, закурил папиросу.
– Да… – сказал он как будто бы сам себе, потом посмотрел на Лену. – Ну, бывай! Я к монтажникам, оттуда – домой.
Груздев торопливо зашагал к двери и с необычайной для него тщательностью плотно закрыл ее за собой.
Скорее не по привычке – вначале прочитать материал, а потом печатать, – а из желания узнать, что написано в докладных, Лена принялась перелистывать их. Она сразу почувствовала недоброжелательность. Положение на стройке именовалось критическим. Ни слова не было сказано о мерах, принятых в связи с неблагоприятными погодными условиями, и о людях, продолжавших создавать огромный гидроузел, несмотря на трудности. На каждой странице упоминалось имя Груздева. Он не опирался на инженерные расчеты, игнорировал их. Все свое руководство стройкой сводил к штурмам и авралу. Не берег специалистов. И дальше Лена увидела фамилию Петра. Она еще раз пробежала глазами по странице, убедилась – Норин, Петр Иванович Норин, ее муж, свидетельствовал о том, как Груздев «разбрасывался кадрами». Он, ее муж Петр Норин, исполняющий обязанности заместителя начальника управления, подтверждал «расправу» с высокообразованным специалистом и незаменимым практиком – заместителем главного инженера Евгением Евгеньевичем Коростелевым.
Получалось так, что его уход со стройки явился невосполнимой потерей и пагубно сказался теперь, когда в предпусковой период «держал экзамен на зрелость» весь коллектив. Выводы комиссии не были определенными – решать вопрос о положении дел на стройке предлагалось коллегии министерства, но весь подбор фактов сводился к тому, что начальник управления Груздев не соответствовал должности, которую занимал.
Лена не могла печатать. Она приложила ладони к разгоряченным щекам, вновь и вновь перечитывая страницы, написанные разными, но до удивления аккуратными, разборчивыми почерками. И все-таки она ввернула на валик белые листы бумаги, прослоенные копиркой, и начала стучать по клавишам. Глаза ее следили за строками, пальцы выстукивали буквы, но душа протестовала, не мирилась со всей этой несправедливостью, все медленнее двигались руки, а глаза вдруг потеряли зоркость. Лена смотрела поверх машинки, заставляла себя собраться с силами и продолжала печатать.
Так прошло два, три часа. Все новые страницы, заполненные жирным шрифтом, ложились на стол, справа от машинки. Но когда она дошла до имени Норина, руки сами по себе остановились, пальцы легли на клавиши, сжали их судорожно, провалились вместе с холодными пластинками металла. Лена посмотрела тупым взглядом на изломанные ряды клавиатуры, встала.
Не помня себя, она схватила стопку отпечатанных страниц, с силой рванула их поперек и еще вдоль, швырнула в корзину, стоявшую у стены. Не закрыв машинку чехлом и не убрав докладные записки, она потянулась к пальто, накинула его на плечи и выбежала в коридор.
Муж был дома, сидел за письменным столом, возле лампы-грибка, перебирал бумаги. Лена не удивилась и ничего не сказала ему. Не раздеваясь, она прошла к нише, включила свет, присела на край кровати. Он повернулся в пол-оборота, посмотрел пристально и, как показалось Лене, со злорадной ухмылочкой спросил:
– Явились наконец, Елена Андреевна? А я было начал подумывать, зачем мне потребовалось жениться. Ни тебе ужина, ни заправленной постели. Что вы на это скажете?
– Что я скажу? Я скажу: довольно паясничать. Я скажу, что ты лживый, лицемерный человек. Что ты совершил подлость.
– Спокойно, спокойно! – предупреждающе пробасил Петр, вбирая голову в плечи и буравя Лену тяжелым, неподвижным взглядом. – С чего это вы расходились? Нельзя ли поубавить жар?
– Нечего смотреть на меня, как удав на кролика! На меня это не действует! Теперь я знаю твою истинную цену!
– Хватит болтать! – крикнул Петр, стукнув по столу. – В чем дело?
– В чем дело? На каком основании ты занялся клеветой на Груздева? Зачем тебе это понадобилось?
– Еще раз говорю – успокойся. Это понадобилось не мне.
– А кому?
– Кронину. И будет тебе известно – он не последний человек в министерстве.
– Какое нам дело до министерства? До Кронина?
– Ну уж, остается только удивляться твоей недальновидности. Не кажется ли тебе, что твоему мужу Петру Ивановичу Норину довольно ходить в исполняющих обязанности? Почему бы не подумать о самостоятельной работе? Не здесь, так в другом месте. Пороху у меня для этого хватит. О перспективе надо думать, а не сидеть, как простофиля, и не ждать, когда тебя кто-нибудь когда-нибудь куда-нибудь выдвинет.
Лена закрыла глаза, согнулась, словно переломилась. Она не слышала больше, что говорил Петр. Одна предельно ясная мысль не выходила из головы: «Какой он низкий, какой омерзительный! Да, один из тех двоих, что говорили тогда о Петре в коридоре, был прав. Подхалим и карьерист. Не моргнув глазом перешагнет через тебя, через любого!.. Через Марию Михайловну, которую оставил в Разъезде. Через Груздева, которого оклеветал. Через любого!.. Через меня… Говорят, что он даже специально пошел на то… На что он пошел? Конечно же – на сближение со мной. Чтобы оказаться на виду, чтобы легче пролезть на должность, которую теперь он занимает, чтобы ездить в командировки, угодничать перед начальством, чтобы я ему помогала во всем этом… А я уйду в бригаду! Завтра же… в бетонщицы. К черту эти бумаги, этих типов, Петра!..»
– К черту! Слышишь, к черту! Ненавижу твою сытую физиономию!
– Кончай истерику! Надоело! – Петр встал со сжатыми кулаками.
Лена медленно поднялась, глядя на него с презрением, и прошептала еле слышно:
– Не могу дышать с вами одним воздухом. Не хочу вас видеть! – Она повернулась, схватила платок и выбежала из комнаты. Только на улице, на хрустком снегу, Лена замедлила шаги. Студеный воздух щипал щеки. Лена смахнула рукой слезы, туго завязала платок и остановилась; досмотрела на дремавшие в лунном свете дома, на застывшие звезды, прислушалась к тишине. Снова далеко разнесся скрип от ее шагов. Лена шла все быстрее: мороз жег колени, подбирался к лопаткам, облепил куржавиной повлажневшие от дыхания края платка. «Вот и общежитие! Но как я туда явлюсь? Что скажу?»
Эти мелькнувшие на секунду сомнения не остановили ее. Чувствуя, что вся замерзает, она пробежала последние метры пути, рванула дверь.
Дверь оказалась запертой. Лена стянула зубами варежку, застучала по стеклу костяшками пальцев. В нетронутом изморозью овале стекла показалось заспанное лицо дежурной. «Наверное, новенькая», – подумала Лена и жестом руки попросила открыть дверь. Дежурная отодвинула щеколду, и Лена проскользнула в вестибюль, бросила на стол варежки, начала растирать руки, лицо, потом подошла к батарее, прижалась к ней онемевшими коленями.
– Из какой комнаты будешь?
– Видите ли… сейчас не из какой. Я раньше здесь жила, четыре года. Но вы не беспокойтесь – где-нибудь устроюсь.
– Это как же – не беспокойтесь. Направление-то у тебя есть?
– Нет… но будет.
– Без направления не имею права.
– Это чистая формальность, – уже отогревшись, спокойно сказала Лена. – Меня здесь знают. Завтра возьму направление. Так я пойду…
Дежурная заслонила дорогу.
– Ни в коем разе! Ты что, хочешь меня места лишить? Сказано, не пущу, и все!
– Послушайте, – вспылила Лена, – вы человек? Или хотите, чтобы я замерзла на улице?
– Это меня не касается. Откуда прибежала-то? Вот туда и вертайся. Дом-от, поди, есть. Не бездомная какая. Я здеся неделю и то площадь имею. За нее и сижу тут. Так что нече меня подводить. Небось грамотная и сознание имеешь.
Она отступила с дороги и умолкла только тогда, когда Лена вернулась к столу и стала натягивать варежки.
– Так что не обидься… А хошь, свою койку уступлю, мне все равно сидеть до утра.
– Какую койку?
– Так я в этом же доме живу. Только с той стороны. Подвал, ясное дело, но тепло. Желаешь – отведу.
Лена согласилась. Ей все равно надо было где-то пробыть до утра.
Закрыв наружную дверь на ключ, дежурная повела Лену вокруг дома, к черневшей в крохотном пристрое двери. Лена никогда не была во дворе общежития и не подозревала, что кто-то мог жить здесь, ниже первого этажа.
– Должна тебя предупредить. Там девка у меня с парнем гостюют, но они тебе не помеха. И спят уже, ясное дело. Да моих двое девок, соплюхи еще. Тебе, как сказано, свою койку уступлю. Выспишься и никого не увидишь.
Они спустились по запорошенным ступеням в подвал, прошли коридор, обшитый узкими нестругаными досками, через щели которых пробивался яркий электрический свет. Потом дежурная открыла низкую квадратную дверцу, и Лена, к своему удивлению, оказалась в теплой, чисто выбеленной комнатушке. Она была проходной. Лена догадалась об этом, увидев двери, завешенные одеялом.
Она оглядела комнату, увидела стол, покрытый старой клеенкой, и пустые бутылки из-под водки и вина, железную кровать и спавшую на ней в черном платье и чулках раскрасневшуюся девицу. На полу, сплошь застланном клетчатыми половиками, стояли две некрашеные табуретки.
– Раздевайся, сопреешь. Койку сейчас ослобоним. Не велела ведь Гришке касаться моей постели, он свое. Григорий!
– Я туточки! – отозвался хриплый голос из другой комнаты.
Одеяло на двери трепыхнулось, и в комнату протиснулся плечистый парень с гривой кудрявых волос.
– Я туточки, маманя! О! Кого мы видим! И где ты скадрила такую красотку. Прошу!
Гришка-монтажник, Тарзан, как называла его Катя, облапил Лену, пытаясь расстегнуть пальто.
– Прошу раздеваться! Как ваше имячко? Вера, Маша, Лидочка? Э-э, да я узнал вас! Вы же в управлении делами заворачиваете. Вся моя разлюбезность к вашим услугам.
– Отцепись ты от нее. Не видишь – промерзла? Сидишь, как медведь в берлоге, и лиха не знаешь.
– Не медведь, а монтажник, и к тому же – музыкант!
– Бывший, сказывают, монтажник-от.
– Маманя! Понял!
Гришка исчез в дальней комнате и снова появился с недопитой бутылкой водки.
– Пожалте, маманя. – Он налил ей в стакан и засуетился возле Лены. – Раздевайтесь. Глотнете чуток – норд зюйдом покажется. Согреемся, познакомимся, а завтра в романтику вместе вдаримся, стройку двигать будем! Я ведь простой, всем тут известный. Работяга!
Он оскалился пьяной улыбкой и замер, увидев пристальный взгляд больших серых глаз.
– У нас работяг нет. У нас есть рабочие. А они, кстати, сейчас спят или в третью смену работают, а не разводят балаган.
– Понял! Значит, за третий сорт иду. Не подхожу к вашей милости. Выпить, значит, и деньгу зашибить уважаю. С девочками валандаюсь… – Гришка смолк, скривив рот, и посмотрел злым прищуренным взглядом. – А твой Норин, думаешь, лучше? Да он вот куда мне не годится! – крикнул Гришка, хлопнув ручищей по подошве сапога, и дико захохотал.
Лена повернулась и, сдерживая душившие ее слезы, побежала прочь из комнаты, по коридору, по скользким, заснеженным ступеням, по двору.
Остановилась она у телефона-автомата, подернутого пленкой инея, словно примерзшего к стене магазина. Думая, как ей теперь быть, она скорее машинально, чем сознательно, набрала квартирный номер телефона Груздева. Не дождавшись ответного гудка, повесила трубку и побрела усталой походкой, не замечая мороза, который становился все крепче и заволакивал туманом ночные улицы. Лена шла, едва разбирая дорогу, ведущую в далекий старый поселок, к Кате, и среди глухой тишины ей все еще слышался отвратительный хохот Гришки-Тарзана.
Глава семнадцатая
ВСЯ ЖИЗНЬ
В те минуты, когда боль отступала и дышать становилось легче, Илья Петрович Груздев невольно обращался к прожитой жизни. Она сама собой возникала перед ним нескончаемой вереницей значительных, незабываемых видений. Сухие губы вздрагивали в тихой улыбке или плотно сжимались.
Все помнилось ясно, как будто бы не в далеком двадцать пятом или тридцатом году и даже не в далеком теперь пятидесятом, а только вчера происходили эти события и встречи с друзьями-товарищами, которые жили где-то и по сей день в разных концах Союза или – навсегда ушли из жизни. Эти картины и эти встречи отчетливо стояли перед глазами. Он и сейчас, в эту минуту, был участником трудных работ на Волхове, Днепре, в Закавказье, цепко обхватывал пальцами отполированные тысячами прикосновений рукояти тачки, дробил кувалдой промерзший грунт, месил подошвами разбитых сапог бетон, жадно курил махорку из кисета Пашки Зеленина, замертво валился на топчан вместе с Колькой Кыласовым и тут же засыпал до утра, а чуть забрезжит свет, бежал из барака к звонкому рукомойнику, подставлял ершистый затылок под ледяную струю воды и снова топал по дороге в котлован.
Какие золотые люди были кругом! Не жалели друг для друга ни рубахи, ни последнего куска хлеба, ни закрутки табаку. Скольких из них пораскидала жизнь невесть куда, но они и теперь были с Груздевым – родные люди, с которыми он прошел по трудным дорогам пятьдесят с лишним лет и не расставался поныне ни на один день и час. Они по-прежнему были рядом и в то же время отодвигались все дальше – в былое, уходили прочь, насовсем.
Илья Петрович нет-нет, а ловил себя на мысли, что и видения этой, уральской, стройки, ее люди, их голоса, улыбки, глаза стремительно уносятся вспять и что сам он – непременная частица бурной, сотворяющей чудеса жизни – вдруг отделяется от нее, а она, ускоряя ритм, уходит вперед, и поспеть за ней уже нельзя.
Он смежил веки, попытался отбросить назойливую мысль и в который раз попробовал осторожно вдохнуть полной грудью, так, чтобы боль не ударила в левое плечо. Это не удавалось: боль притаилась около сердца, сторожила каждое неловкое движение, грозила обернуться всей своей страшной силой, еще неведомой ему. Она на многое способна, эта возможная боль, только дай ей волю. Но и без того каждую секунду она готова была проявить себя.
«Что же будет со стройкой? Приехал ли Петухов, кипучий, неутомимый Петухов-Мамаладзе?»
Груздев абсолютно не знал ничего о том, что делалось в управлении и на объектах. Ему с первого дня, как только он попал в больницу, не принесли ни одной деловой бумаги, ни одной свежей газеты. Спасибо Лене, которая передала подшивку строительной многотиражки. Это разрешили. Он взял со стола пачку пожелтевших газет и стал перелистывать страницы, вспоминая, как в разные годы приходилось готовить доклады к торжественным датам. В таких случаях он всегда чувствовал необходимость оглянуться на уже свершенное не только коллективом стройки, но и всей страной. В тиши парткабинета он вот так же пробегал глазами номера «Правды». За много лет. И тогда оживала история страны, история поколений, с которыми он шел из десятилетия в десятилетие, вспоминались все радости и беды. Это была история, возникшая из фактов его жизни, из документов его партии, оставляющих зримый след сделанного за пройденные отрезки пути.
Она всегда была не легка, дорога, не проторенная ранее никем, и потому помнились каждый переход, каждая победа и каждая утрата. Неведомое становилось познанным, необычное – обычным, опробованным на ощупь, а товарищи, павшие в пуни, жили в сердцах тех, кто продолжал идти вперед, и вместе с ними вершили начатое дело. Они не умирали. Ни рядовые, ни великие. Великих знали все, рядовых – рядовые.
Никто из идущих теперь рядом с Груздевым не мог бы припомнить Пашку Зеленина, но они помнили других – таких же, как Пашка. Смельчак высотник, парень без нервов, как окрестили его друзья за бесстрашие. Из таких вот вырос, наверное, позже первый человек, прорвавшийся в простор Вселенной.
Тело Пашки сняли со стометровой высоты. Его придавило балкой к опоре на вольном, озорном ветру под самыми облаками.
Никто из друзей не смог взглянуть в Пашкино лицо в день прощания. Оно было прикрыто белым рушником, усыпанным ромашками и васильками. Только ступни Пашки, обтянутые новенькими носками цвета маренго, которые чудом сумели где-то достать через профком, были видны всем. Они вздрагивали на тарахтевшей полуторке, и было до слез трогательно думать, что Пашка, никогда не носивший таких новых и красивых носков, уходил в последний путь обихоженный, не в своих старых, раскиселившихся ботинках.
Это было совсем вчера, но… это было еще до войны, на которой сложил голову мудрый, рассудительный Колька Кыласов, сразивший шестнадцать фрицев в рукопашном бою. Как только смог свершить такое робкий ролька Кыласов?.. И это тоже было совсем вчера. А сегодня? Сегодня тридцативосьмилетний инженер Сергей Петухов учит гидростроительству вчерашних безграмотных туземцев в далекой Африке. И он, конечно, не посрамит русской земли, как не посрамил ее здесь, на Урале, а еще раньше – на Кавказе.
И снова – видения.
В Речной они с Петуховым приехали почти в одно и то же время. Это было в конце августа, когда ивняк и крушинник пламенно желтели на луговом берегу и река привычно несла свои воды еще в первозданном русле. Никто не обеспокоил еще ее сонного течения, и, если бы река могла думать, ей бы казалось, наверное, что так и будет вечно, так и будет она омывать тихие берега, как омывала их до этого многие сотни и тысячи лет. Правда, уже не гляделись в ее воды домишки Касатки с красного крутояра, утыканного воронками ласточкиных гнезд, очерченного скорлупками просмоленных рыбацких лодок внизу, по кромке отмели. Крутояр пестрел коттеджами и бараками, обшитыми тесом лунной желтизны, а чуть поодаль от них, на въезде с реки, беспорядочно громоздилось оборудование, доставленное, как всегда, до времени и потому успевшее уже изрядно поржаветь, скособочиться, врасти в землю.
Такую картину не раз заставал Груздев, принимая стройки в тот момент, когда уходил начальник-«временщик», в обязанности которого входило лишь обжить место и который по своему опыту и умению не мог охватить весь огромный узел противоречий, требующих решения в разгаре работ.
Спокойное время подготовительных мер было не в характере Груздева и не в характере Петухова, к которому Илья Петрович пригляделся еще на Кавказе. Смекалистый и смелый, он никому не оставлял своей работы, всюду хотел успеть и успевал и умел уважать проект, а с его автором Виктором Викторовичем Весениным даже дружил. Впрочем, главный инженер проекта нравился и самому Груздеву. Придирчивость и излишняя педантичность Виктора Викторовича не претили. В конце концов он заботился не о своем престиже. И не за свою шкуру дрожал этот смолоду узнавший всю суровость жизни, покалеченный на войне инженер-строитель. Он думал о надежности и экономичности своего детища. Только и всего. О том, как и сколько оно послужит людям. Спорили с ним – верно. Даже ругались. Ну и что? С кем не поспоришь ради пользы дела? Но разве эти расхождения могли помешать чувству уважения к человеку?..
Снежная крупа залепила окно палаты. Лишь в самом верху, через полоску стекла, виднелось заволоченное тучами небо. Оно давило и, казалось, изничтожало воздух, который так хотелось вдохнуть до конца, полной грудью. Если бы не предписали лежать на спине, пожалуй, можно было бы сделать этот вдох и обхитрить боль, притаившуюся где-то возле левой лопатки. Он нужен, этот вдох. Всего лишь один вдох. Тогда боль отступит и уже не сможет одолеть его.
Нужно думать о чем-нибудь другом! Все равно милый старик – завотделением – не появится до следующего утра и никто больше не изменит назначенный больничный режим. Разве возьмет на себя такую ответственность дежурный врач? Нет, этой симпатичной девице, на голове которой под высоким белым колпаком спрятано целое сооружение из золотистых волос, совсем ни к чему рисковать. У нее небось все заботы – об устройстве вот этой самой невероятной прически, да о других своих личных делах. И не видно ее, не пришло, должно быть, время вечернего обхода… Надо думать о чем-нибудь другом!
Не всегда небо бывает таким мутным и не всегда швыряет снежной крупой… В тот день, когда они с Петуховым бродили по улочкам Касатки, уже изрытым экскаваторами и бульдозерами, небо отливало молочной голубизной. Чисто голубым или чисто синим оно здесь не бывало никогда. В этом мнении они неоднократно сходились с Петуховым, когда забирались в рассветные часы воскресного дня куда-нибудь вверх по реке. Порыбачить последний раз пришлось года полтора назад. В то утро они повстречали Виктора Викторовича Весенина. Он сам набрел на них. Откуда-то сверху, с обрыва забасил с напускной ворчливостью:
– Разве так рыбачат? Тоже мне – горе-рыбаки!
Весенин спускался по заросшей лопухами тропке, раздвигая ивняк черной лакированной палкой с резиновым набалдашником. Отбросит листву, упрется палкой в песок и вынесет вперед негнущуюся в колене ногу.
– У вас не только вся рыба, удочки уплывут. А ну-ка, дайте мне!
Обозвав Груздева и Петухова варягами, не знающими здешних мест и повадок рыбы, Весенин поднял уткнувшееся в воду удилище и со свистом взмахнул им. Поплавок, словно шальной овод, упал на водную гладь далеко от берега и поплыл в расходящемся круге. Через мгновение он заколыхался, и Виктор Викторович ловко выхватил лесу из воды. В прозрачном воздухе блеснули капли, сорвавшиеся с лески, и оголенный крючок.
– Насаживать не умеете! – проворчал он и воткнул тупой конец удилища в песок. – Вообще, разве тут есть теперь хотя бы щеклея?! Лучше бы подумали о бетоне! Опять не те фракции пошли!
– Какие не те, какие не те? – акцентируя по-грузински, загорячился Петухов. – Самые что ни на есть те! Карги – хорошие фракции! Вот такие! – Петухов свел большой и указательный пальцы, почти не оставляя между ними просвета. – С золотого дна реки гравий, через автомат-завод прошел, через ОТК, в конце концов, черт побери! Те! Самые те, какие нужно! Карги фракции, тебе говорю!..
Груздев смотрел с умиленной улыбкой на спорящих Петухова и Весенина, как отец на великовозрастных детей. Он не примирял их: знал, что опор оборвется сам по себе, как бывало уже много раз, потому что оба одинаково заинтересованы в прочности сооружения.
Он думал о другом: довелось дожить до той поры, когда кругом свои, вот такие грамотные люди, инженеры самой высокой квалификации. Ведь оба в сыновья ему годятся, а знаний и умения – не занимать ни тому, ни другому. Хоть что тебе построят, и не развалится, будет соответствовать самым жестким нормам техники сегодняшнего, а значит, и завтрашнего дня. И не кичливые оба, совсем как те ребята – в двадцать пятом, тридцатом годах. Только в рот заграничным спецам не заглядывают, как было. Все сами могут. И еще пустят не по одной станции. Впрочем, Весенин спроектирует одну-две не больше – жизнь коротка, сроки ввода длинны. А ему, Груздеву, едва ли суметь построить хотя бы еще одну-единственную – не за горами пенсионный возраст.
Постепенно уйдут все: один сегодня, другой четверть века спустя. Но памятники их труда будут стоять. Смелость фантазия и точность расчетов Весенина и Петухова, сегодняшние усилия тысяч других безымянных строителей создадут добрые памятники, которые послужат людям еще многие годы…
Груздев спал и не опал. Ему все время недоставало воздуха. Он обводил глазами надоевшие стены, потолок, окно. На стекле не осталось и той светлой полоски, что совсем недавно была вверху. Снег залепил стекло, в палате стало мрачно. Груздев осторожно отвел руку в сторону, нажал кнопку ночника.
Свет чуть обрадовал. Снова можно было листать подшивку, снова в памяти возникали живые картины стройки. Слишком сухие или слишком восторженные газетные строки оставались такими для непосвященных, а он за буквами видел все, вплоть до мускульной работы арматурщиков, опалубщиков, бетонщиков, экскаваторщиков и шоферов; видел знакомые лица многих героев стройки. И первый кубометр бетона, и первый монолит уложили в основание плотины и сбросили в проран реальные люди, которых он знал гораздо больше, чем просто в лицо. А вот портрет Лены Крисановой. Чуть ли не на четверть страницы. Она – не в блузке в горошек, как теперь, а в грубой брезентовой куртке, с платком на голове. И смеется, как только можно смеяться в двадцать лет. Ниже портрета – сообщение о новом рекорде крисановской бригады.
Много фотографий, много лиц. Там они в спецовках, тут – в костюмах с иголочки, поют со сцены или сидят за книгой в читальном зале. Груздев перекладывает подшивку на стул, закрывает глаза. «Да… есть руки, множество хороших, надежных рук, в которые можно передать это еще не достроенное за всю жизнь огромное здание. Можно, потому что люди вобрали твердость и убежденность. Они сумеют преодолеть самые крутые, самые ножиданные перевалы, а что может быть радостнее этой мысли?! Коростелев вот такой радости не испытывает. Заблудился на полдороге, потерял главное в жизни – сокровенный ее смысл. И та половина дороги, которую Коростелев уже прошел, и та, которую еще предстоит пройти, ему безрадостны.
Не уверовал он в наше дело. Не знает – а скорее, не хочет согласиться с тем, что мало обрести личное благополучие, надо, чтобы его обрели все. Он просто жалок, бывший заместитель главного инженера Коростелев, особенно в этой истории с комиссией. Ладно, хоть не аноним. Его личной жалобой вызван приезд комиссии. Могла она с успехом направиться и на любую другую стройку, поскольку запланирована в оргработе главка тема о творческой инициативе ИТР. Но почему бы не откликнуться на сигнал снизу? Вот и прикатили. Вот и повидался Кронин с дружком-однокашником. И все же Коростелев был понятнее, нежели Кронин, узнал хоть, почем фунт лиха, на периферии поработал. Кронин же не расставался со службой в министерском аппарате с первых дней».
В коридоре послышались четкие шаги. Так стучать каблуками могла только дежурившая в этот вечер врач Нина: все сестры и санитарки носили мягкую обувь. Груздев не ошибся, вскоре вошла Нина в сопровождении сестры.
– Наш больной спит? – тихо спросила она и, подойдя ближе, прикоснулась к запястью Груздева.
Он открыл глаза, внимательно посмотрел на Нину и ответил вопросом, дружелюбно, чтобы не обидеть ее:
– Как вы думаете, разве человек может спать круглые сутки?
– Это только на пользу, Илья Петрович. Как наше самочувствие?
– Скверное. Скверное наше самочувствие. Не привык отлеживаться.