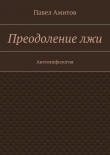Текст книги "Преодоление"
Автор книги: Николай Вагнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
– Тут уж ничего не поделаешь. Так нужно, – ответила Нина, вооружаясь фонендоскопом. – Главное теперь для вас – покой. На что жалуетесь?
Помедлив, Груздев произнес раздельно:
– Воздуху бы поболе!
– Ну вот, – всполошилась Нина. – Я же с самого начала предлагала вам соседнюю палату. Она в два раза больше и, вообще… лучше, светлее. А теперь она занята больными.
– И хорошо, – сдавленным голосом отозвался Груздев. Волнение Нины и то, как споткнулась она на слове «вообще», напомнили ему разговор в санпропускнике с санитаркой.
– Ни в жисть не ложитесь в бокс, – шептала она. – На той койке начальник из автоколонны лежал и помер, слышно, в области.
Груздев знал о печальном исходе болезни начальника транспортного управления Карачана, отправленного из Речного на самолете в областной центр. Словам санитарки он не придал значения и категорически отказался от большей палаты.
– И хорошо, что занята. Уж коли определили меня в отдельную, пусть она будет поменьше. Иначе куда бы вы положили людей?
– Неужели, Илья Петрович, вы должны беспокоиться еще об этом? Нашлось бы место. И не так они тяжело больны.
– Как я? – попытался улыбнуться Груздев.
– У вас все нормально, – исправляя оплошность, оживленно ответила Нина. – Пульс приличный. Шумы в сердце – совсем не те, что вчера. А для того чтобы лучше дышалось, мы дадим вам кислородную подушку. Это и Пал Палыч рекомендовал, – ссылаясь на авторитет заведующего отделением, закончила она.
Груздев вопросительно вскинул брови, запротестовал:
– Увольте, мой юный доктор, увольте. Насколько я понимаю, этой неприглядной штуковиной награждают совсем никудышных. Я солдат еще живой! Скажите-ка лучше, почему ко мне не пустили Соколкова? Я же знаю, что он приходил. И вообще, кто тут у вас лежит: начальник стройки или – так себе, посторонний наблюдатель?
– Сейчас вы – больной, – мягко возразила Нина. – Вам противопоказаны малейшие волнения.
– С чего это я должен волноваться при встрече с парторгом? Неведение меня волнует. Вот что! Я должен знать обо всем, что там творится. Это для меня, если хотите, – лучший кислород, милая барышня.
– Ну, какая я барышня, Илья Петрович? Врач, притом дежурный. Не надо толкать меня на нарушения.
– Ладно, не будем ссориться. Что рассказывает Соколков?
– Ничего особенного.
– А все-таки?
– Ну… он говорил, – поколебавшись, ответила Нина, – что комиссия благополучно заканчивает работу. Так и сказал – благополучно. Стало быть, нет никаких причин для беспокойства. Отдыхайте, Илья Петрович. Спокойной ночи. Много разговаривать вам запрещено.
Нина встала, намереваясь уйти, но Груздев задержал ее.
– Что вы мне о комиссии? Таких комиссий на своем веку я видел не меньше сотни! Мне теперь черт не страшен, а вы – комиссия! Как стройка, скажите? Когда будет Петухов? Вот что меня интересует, а никакая там не комиссия! И чтобы Соколкова завтра пустить! Слышите?
Он выкрикивал это, приподнявшись на локте и порывисто дыша ртом. Нина побледнела. Не зная, как успокоить Груздева, она укладывала его обратно на подушку. С ее губ слетали ласковые, ничего не значащие слова. Пришедшая вместе с ней сестра торопливо накапала в ложку лекарство из склянки.
– Вот, выпейте, Илья Петрович, выпейте и успокойтесь, – умоляюще просила Нина, поднося ложку и одновременно подправляя сбившийся на голове колпак. – На стройке все хорошо. Петухов приехал сегодня. Не надо волноваться. Слышите?
Выпив лекарство и переведя дыхание, Груздев попытался улыбнуться и тепло посмотрел на Нину.
– С этого и надо было начинать. Значит, приехал… Вот и хорошо. Радостно слышать. А от радости еще никто не умирал. Теперь и поболеть не грех. Спасибо…
Его широкая обветренная ладонь легла на узкую кисть Нининой руки, которая заканчивалась острыми перламутровыми ноготками.
– Спасибо и, ради бога, не тратьте на меня больше времени. Считайте, что кислород вы мне уже дали.
Груздев сомкнул веки. Нина посмотрела на его спокойное лицо, кивнула сестре, и обе они тихо вышли из палаты.
Петухов приехал. Надежный и неутомимый соратник. Милый Петухов, милый Серго Мамаладзе, правая рука. Теперь стройка не без хозяина. Он все учтет, все взвесит и всех заставит крутиться. Хорошо! Кáрги – как говорит Петухов. Поскорее бы выбраться отсюда. Вместе с Петуховым, вместе со всеми торопить дело. И весной, обязательно весной – на полгода раньше срока – поставить под нагрузку все агрегаты. Это возможно! Так было на всех реках. Приходили на тихую воду, оставляли водопады гидростанций. Необычное всегда начинается с обычного и кончается тоже обычным. Стеклянная струя падает в дымящийся от брызг круговорот, а там, двумя километрами ниже, река не сморщена ни одной рябинкой, снова зеркальна, снова отражает луговой и горный берега, каждое облачко, как бы высоко ни забралось оно в небо.
Но река уже поработала на людей, отдала свою силу, и еще много ее там, за насыпной плотиной… Насыпной. Зря упорствовали некоторые негибкие умы. Насыпные все-таки самые дешевые и самые прочные в настоящее время.
В настоящее время… Летит же оно, время, удивляет. И не представишь себе, что станет на земле через десяток лет. А уж о близком дне двухтысячного года, в который не заглянуть, – и говорить нечего. Но интереснее – сегодняшний: он соединил совсем недавнее время лучины и свечи с блеском электросвета и бог знает с какими чудесами техники; интереснее потому, что труднее, обычнее, потому, что в этот, сегодняшний, день укладываются камни фундамента необычной, неведомой жизни и накапливается энергия для нее. Поскорее бы выбраться отсюда и строить, строить этот фундамент.
…Надо во что бы то ни стало вобрать как можно больше воздуха, вдохнуть во всю полноту легких и вытеснить боль, которая сжала сердце. Надо сделать этот вдох, иначе мелкое дыхание угасит жизнь.
Воздух! Какой воздух был там, в верховьях реки! Многих рек. Узких и широких, вода которых как будто бы стоит на месте и – мечется, огибая валуны, кружит в воронках, сыплет холодными брызгами в лицо. И шумит, рокочет, словно реактивный двигатель. Гул нарастает до предела и переходит в свист, потом становится глухим, как гудение непогоды за окном.
Груздев провел рукой по лбу, вытер капли пота. Он забыл о том, что лежит в больнице, и даже о том, что находится в Речном. Как будто бы и не приезжал сюда, и небо лад ним не было уральским, как не было оно украинским и кавказским. Просто – небо, чистое и высокое, полное воздуха, просвеченное солнцем, – от прозрачных краев редких облаков до золотистых бликов на воде.
Глава восемнадцатая
ТРУДНЫЙ ДЕНЬ
В городе второй день не утихала вьюга. К вечеру ветер стал еще сильнее. Он свистел так яростно, что казалось, напрягал последние силы, стремясь снести все на своем пути.
Ветер гулко ударял в стену. Оконная рама скрипела, дребезжали стекла, каждый раз настораживая Катю. Она поднимала глаза от вязанья, смотрела на запорошенное, промерзшее доверху окно, потом – на Лену.
– Что делается! Вот-вот дом опрокинет!
Лена не отвечала, сидела на узкой железной кровати, обхватив руками колено, и словно не слышала, что творилось на улице, что говорила подруга.
– Погляди, Лен, чем не ползунок? Получается? – Катя засунула руки в короткие вязаные брючки и прокомандовала пискливо: – Ать-два… Представляешь, это я-то, Катька, рожать буду! Смехота! Как думаешь – страшно?
Вновь ничего не ответив, Лена взяла из рук Кати ползунок, разложила его у себя на коленях.
– Я вот все о том же, – продолжала Катя, – может, зря ты ушла от этого типа. Если бы он гулял или о доме не думал, а то ведь вроде бы заботился. Шут его знает. Петя, конечно, себе на уме. Но разве сразу разберешься?
– Не надо об этом. Я все правильно сделала. И думаю сейчас совсем о другом.
– О работе небось?
– И о работе, и об общежитии. Получилась какая-то сплошная ерунда. Будто глухие все или ничего понять не хотят. И ведь прошу-то самую малость – перевести в бетонщицы. Дать место в общежитии. Подумаешь – проблема. Эх, если бы не заболел Илья Петрович!..
– А ты сходи в больницу, поговори.
– Ходила. Не пустили. Ему даже свежие газеты не передали, вернули назад. Жена, говорят, дежурит по ночам.
– До чего человека довели, – вздохнула Катя. – По мне все разно, какое начальство, но скажу… но скажу прямо: такого, как Груздев, не скоро встретишь. Сколько раз к нам на блоки приезжал. С каждым здоровался. А помнишь, когда мне стукнуло двадцать пять?! Личное поздравление прислал. И как узнал только? Удивляюсь!.. Ой, что это? – боязливо спросила Катя, вновь покосившись на окно. – Кажется, все сметет – и клубишко наш, и пристрой. Как-то там Борис? На открытом воздухе работает.
Ветер выл над крышей, бил в стекла, нес тучи снежной крупы, швырял ее в окно.
– Хорошо, что Боря специальность имеет. В армии высоковольтные тянул.
– Хорошо, – отозвалась Лена. – Очень хорошо, когда руки пользу приносят. Илья Петрович часто повторял эти слова. Это самое главное, самое основное.
Наверху оборвало железо. Зашабаршило, загромыхало по стене. Тенькнуло по чему-то упругому. В комнате погас свет.
– Что-то случилось! – с тревогой прошептала Лена и вцепилась в локоть Кати.
– Не чуди! Провод оборвало.
– Нет! Дело не в проводе, дело не в проводе…
Она бросилась к двери, сорвала с гвоздя пальто и, не надевая его, толкнула бедром дверь.
– Куда? Ленка? – крикнула Катя и услышала рванувшийся в дверь вместе со снежной пылью звенящий свист ветра.
Катя выбежала во двор и увидела, как, удаляясь по переметенной целине, черная фигурка пригибалась, падала и вновь уходила вперед. Катя постояла посередине двора, пока колкий ветер не просквозил ее, и, захватив руками живот, пошла к дому; захлопнула за собой тяжелую дверь, притянула ее и опустила кованый крючок.
Она нашарила в ящике стола свечу и спички. Радужный, мерклый свет упал на стены, кровать, пол, подрожал робко и успокоился.
Катя села на кровать, подобрала ноги, укрыла их стеганым одеялом. Ее полные страха глаза блестели. Она долго сидела так, боясь шевельнуться, прислушиваясь к шумевшей уже где-то вдалеке вьюге.
Часа через полтора пришел Борис. Она знала его стук и сразу спрыгнула с кровати, откинула крючок.
Борис развязал шапку, потер рукой багровые щеки, поглядел на Катю и отвернулся. Но она цепко ухватилась за его плечи, заставила посмотреть на себя.
«Что?» – спросили ее напряженно округлившиеся глаза.
– Умер Груздев.
Эта весть наутро облетела всю стройку. Еще не много смертей знал молодой город. Чаще отмечали появление на свет новорожденных. Даже кладбище близ города, пришедшее на смену старому, касаткинскому, навсегда скрытому теперь под водой, было пока заброшенной, отгороженной забором пустошью. И вот теперь это снежное поле, уже связанное в сознании людей со скорбью и печатью забвения, должно было принять первого человека – начальника стройки Илью Петровича Груздева.
Похоронную комиссию возглавлял Петр Норин. Целый день он кружил по Речному на управленческом «газике». Из деревообделочного цеха, где сколачивали гроб, он мчался на кладбище – смотрел, как рыли в глубоком снегу траншею к месту будущей могилы; затем ехал в клуб, указывая, где разместить постамент для гроба и куда поставить свежесрубленные елки.
Лена, не вышедшая в этот день на работу, бродила по пустому зрительному залу, из которого вынесли все кресла, дивясь тому, как много здесь ходит знакомых и незнакомых людей, озабоченных, делающих, как казалось ей в эти минуты, что-то непонятное и неизвестно для чего.
Смерть Груздева и все, что теперь происходило вокруг, никак не укладывалось в ее понимании, не согласовывалось с ее чувствами. Состояние безразличия и усталости, овладевшее ею с минувшей ночи, когда она, сама не зная почему, добежала до больницы и услышала в санпропускнике странно прозвучавшие, словно тяжело повисшие в воздухе слова о кончине Груздева, как будто выключило из жизни ее саму.
Она отлично помнила, что побывала утром в отделе кадров, оставила там заявление о переводе в бригаду, а в приемную, на свое рабочее место, зайти не смогла. Никого не замечая, ни с кем не здороваясь, Лена вышла из управления, исколесила все дальние, тихие улочки Речного и вот оказалась здесь, в клубе, среди беспрестанно снующих молчаливых людей.
Заметив крупную, выделявшуюся среди всех фигуру Норина, Лена пошла вдоль стены, к боковой двери, которая вела на сцену, чтобы выйти незаметно для Норина. Дверь оказалась запертой, и Лена вернулась назад, намереваясь быстро пройти в вестибюль, но дорогу ей неожиданно преградил Норин. Лицо его было бледным, только нездоровый румянец у самых подглазниц едва проступал красными паутинками прожилок, а сами глаза, неподвижные, почти черные, смотрели откуда-то издалека, пристально. Но вот губы его дрогнули, обнажив подобие улыбки.
– Разрешите! – опередив его, почти приказала Лена.
– Подожди, надо объясниться.
– Незачем. Все ясно.
– Почему не вышла на работу? Там с ног сбились, тебя ищут. Меня о тебе спрашивают. Кто-то сказал, что ты собираешься вернуться в бригаду.
– Ну и что?
– Только этого недоставало. Жена Норина – бетонщица! И вообще, довольно валять дурочку – возвращайся домой.
– У вас нет жены. Запомните! – тихо, но твердо сказала Лена.
Она протиснулась между Нориным и стеной, вышла в вестибюль.
Народу здесь прибавилось. Лену обступили работницы из ее бывшей бригады. Они были в спецовках, зимних платках, шапках-ушанках. Сюда бетонщицы зашли перед сменой проститься с Груздевым, но гроб с телом еще не привезли, и они стояли словно потерянные, с настороженными лицами. Увидев Лену, девчата осмелели и сдержанно, еле слышным шепотом, стали расспрашивать и рассуждать о смерти Ильи Петровича.
– Сказывают, сердце у него болело. От инфаркта помер или какая другая причина?
– Что ты, дуреха? Сердце нынче вылечивают. Комиссия его довела. Снимать ведь его хотели.
– Не мели. За что снимать-то? Он рабочего человека больше, чем кто, понимал. А кто рабочего человека понимает, того ни в жизнь не снимут. Верно, Лена?
Вместо ответа Лена предложила выйти на свежий воздух.
На улице было тихо. Рассеянный свет пробивался через пухлые, затянувшие небо облака. Они были неподвижны. Сугробы снега ослепительно белели вокруг. Площадь около клуба расчистили, она искрилась и была гладкой. Только в центре колеса машин разрисовали ее спиралями. Машины стояли тут же: поблескивающий эмалью «газик» и крытый брезентом грузовик.
– Снимать его, конечно, было не за что, – сказала Лена. – Не каждый мог работать, как он. Ведь и жил-то он ради работы… Ну, а у вас как там? Последний бетон кладете?
– Последний не последний, а к концу дело идет. Крутимся пуще прежнего. Наверху-то неспособно кубики класть.
– Извертелись вконец. А вон и заводила наша главная плывет.
В наглухо завязанном платке, в телогрейке, перетянутой солдатским ремнем, в ватных брюках медленно шла Катя.
– Ой, горе-то какое, девоньки, – сказала она, обведя подруг напряженным взглядом с затаенной в нем мучительной болью. – Что только не случается на свете… А вы чего _ обо мне соскучились? – спросила она, подойдя поближе.
– Беда как соскучились, слезами изошли.
– А я-то думала, как они меня в декрет отпустят? Теперь спокойнехонько уйду, не скоро встретимся.
– Не чуди! Не растрясет вибратор-от.
– Самая работа сейчас.
– Заместо меня вон Лена придет, а я стану бумажки перекладывать. Как начну вам приказы слать, еще не так завертитесь.
– Если бы Лена? Разве она пойдет?
– Ее начальство домашнее не пустит. Вон он вышел. И на нас не глядит, прямо к машине шастает.
Норин действительно прошел ни на кого не глядя, а может быть, поднятый воротник пальто не давал ему возможности смотреть по сторонам. Он поместился рядом с шофером, глухо хлопнул дверцей. Машина фыркнула облачком отработанного бензина и мягко покатила по снегу.
– Пора и нам, – сказала Катя. – Может, на этой нас довезут?
– Нет, эта пойдет за Груздевым. Неужели не понимаешь?
– Понимаю, все понимаю, – вздохнула Катя, положив руку на плечо Лены. – Держись! Ну, что тут сделаешь? Не воротишь. А нам жить надо. Может, ты и в самом деле бригаду примешь? На живой-то работе легче.
Почти весь следующий день Лена хлопотала о месте в общежитии и о том, чтобы ее перевели в бригаду. Именно теперь, после смерти Груздева, она почувствовала потребность работать своими руками, изо всех сил. Потребность, которую нельзя унять. Хотелось всю себя посвятить стройке, до конца которой не дожил он. А потом, когда пустят станцию, уехать куда-нибудь на Зею, на восток, и тоже работать, строить, как мечтал и надеялся Груздев.
Но ей не везло. Простой, совсем, казалось, чепуховый вопрос она ни с кем не могла решить, всюду получала отказ. «Неудачное, видимо, время выбрала для устройства своих дел», – подумала она. Во всех управлениях и отделах только и говорили о предстоящих похоронах; никто толком в этот день не работал. Поняв наконец, что она ничего не добьется, Лена села в автобус и поехала в клуб. Автобус был переполнен. Где-то впереди мелькнули алые и черные ленты, а потом – ядовито-зеленого цвета металлические листья венков. Лена увидела преподавателей института и рядом с ними Коростелева. Чуть в стороне, у самой двери, нагнув голову под низким потолком, стоял Василий Иванович Костров.
На промежуточных остановках никто не выходил, и лишь у клуба пассажиры повалили в обе двери, оставив автобус пустым, смешались с огромной толпой, которая стояла прямо на дороге. Люди заполнили всю площадь, входили в клуб и выходили из него. Лена долго не решалась пойти и посмотреть на Груздева. Ей хотелось запомнить его таким, каким привыкла видеть много дней и лет. И все же, поддавшись велению какой-то непонятной силы, которая вдруг словно подтолкнула и повлекла ее сквозь толпу к клубу, она вошла в зал, увидела красный гроб, множество венков возле него и корзины с цветами. Проходя возле гроба, Лена не поверила своим глазам: лицо Ильи Петровича показалось ей живым; он как будто прикрыл глаза и спал; только по-странному расплывшаяся и явно окаменевшая нижняя губа с подернутыми синей пленкой ранками свидетельствовала и о предсмертной муке, и о том, что человек мертв. Лена содрогнулась, отвела взгляд и увидела Василия Ивановича Кострова. Он стоял в почетном карауле против директора института Коростелева и, как показалось Лене, заметил ее – тяжело сомкнул ресницы.
Лена постояла немного в зале, но когда началась гражданская панихида и слово предоставили главному инженеру Петухову, почувствовала, как ей не хватает воздуха, заторопилась к выходу. Перед клубом образовался коридор из людей, стоявших на площади, забравшихся на притоптанные сугробы. Недалеко от двери ютились музыканты. В их руках поблескивали трубы. Здесь же с медными тарелками под мышкой топтался Гришка-Тарзан, который держал большим и указательным пальцами папироску и длинно сплевывал в снег.
И вот все затихли. Из черной распахнутой двери клуба, замирая на месте и вновь подвигаясь вперед, поплыли венки.
Воздух потяжелел от дребезжащих, нарастающих в медном рыдании аккордов. Лена, не глядя на людей, загородивших дорогу, устремила взгляд к сумеречному небу и пошла прочь от этих звуков, бьющих в самое сердце.
Глава девятнадцатая
ПЕСНЯ
Шли дни, а Лена все еще не работала. Она жила у Кати и совсем потеряла надежду устроиться в общежитии. Все словно сговорились: «Общежитие переполнено, работы на стройке свертываются». И тогда Катя посоветовала:
– Комсомолка же ты, сходи в комитет! Что толку? Обязаны помочь тебе! Так и скажи: обязаны! Небось, когда бригадирила, лозунги про тебя писали, в каждый доклад пихали нашу комсомольско-молодежную.
Лене очень не хотелось видеться с Тимкиным, тем более что-либо у него просить, но это была последняя надежда, и пришлось идти к нему на поклон.
Тимкин встретил ее торжествующим взглядом, смотрел из-под полузакрытых век долго и пристально, потом разжал маленький аккуратный рот, произнес многозначительно:
– Ну, ну, садись. С твоим делом я знаком. Во всех подробностях. Осталось только решить, когда поставить вопрос на обсуждение.
– На какое обсуждение? – удивилась Лена. – Что, собственно, обсуждать? Я пришла насчет общежития и работы.
– Вот-вот. С этого все и началось. Ушла от мужа. Самовольно бросила работу. Наконец, потеряла бдительность.
– Это что-то новое…
– Ей доверили печатать строго секретные документы, – пояснил Тимкин, – а она, видите ли, бросила их в корзину, то есть на всеобщее обозрение, можно сказать. И это называется комсомолка. Если все суммировать, потянет больше, чем на строгача.
– Знаете, что я вам скажу?
– Догадываюсь. Но – слушаю: обязан.
– Я сюда пришла не суммировать, не арифметикой заниматься, а с обыкновенной просьбой. Мне не нужно ничего особенного. Просто хочу вернуться к прежней работе и вообще, к прежнему положению. Вот и все.
– Просто! Очень жаль, что ты так просто смотришь на семью. И на трудовую дисциплину. И на комсомольскую. Разве после всего этого мы можем рекомендовать тебя на должность бригадира? Бригадир прежде всего – воспитатель. А разве кто-нибудь доверит тебе сейчас воспитание людей? Прежнее положение не так легко вернуть.
– Я и не прошусь в бригадиры.
– Это не имеет значения. Вопросы перевода на другую работу решаются организованно. Они обговариваются с непосредственным начальником. Затем подается заявление. И только после того, как оно подписано…
– Слушайте, не тратьте время на болтовню. Снимите лучше трубку и позвоните в отдел кадров и в ЖКО.
– Болтовню? Хо-ро-шо… Мы тебя не можем рекомендовать ни в какой производственный коллектив и на рядовую работу – тоже.
– Как? – Лена удивленно раскрыла глаза. Она ждала ответа, который объяснил бы ей наконец причину такого нелепого положения, но не успела собраться с мыслями, как Тимкин продолжил:
– Обыкновенно. Стройка наша – ударная, период – предпусковой. Право трудиться в таком коллективе – большая честь. К весне людям премии, грамоты, ордена давать будут. Понятно?
Лена смотрела на Тимкина, все еще недоумевая: шутит ли он зло или говорит серьезно?.. «Разве было когда-нибудь проблемой – поступить на стройку рядовой работницей? Скорее всего – это влияние Норина, он же говорил когда-то, что с Тимкиным они на короткой ноге…»
– К тому же, будет тебе известно, на стройке наводится сейчас порядок, – говорил Тимкин, прохаживаясь по кабинету. – Всякое нарушение дисциплины несовместимо с пребыванием в нашем коллективе.
– Значит… – уже понимая, что говорить с ним бесполезно, спросила Лена, – я не могу работать на стройке? Вообще на стройке?
– И вообще, и в частности.
– Но я же комсомолка, – вспомнив совет Кати, возразила Лена, – и вы должны, должны мне помочь…
– Как я уже сказал, мы разберемся в твоем деле. Заодно решим вопрос и о твоей причастности к комсомолу.
– Мне все понятно… Все понятно, – сказала Лена сама себе. Она поднялась со стула, сделала несколько нетвердых шагов к двери и тихо спросила: – И как только вас выбрали секретарем?
– К твоему сведению, единогласно!
Выйдя на улицу, Лена постояла у крыльца, глотая свежий воздух. Было тепло и пасмурно, как в непогожий весенний день. Она забылась; понимала, что куда-то идет, но куда и зачем, не знала. Давно остались позади управление, ресторан «Волна», общежитие. Нужно было пройти еще один, последний квартал, который выходил пятиэтажными домами к обрывистому берегу реки. Там кончался Речной. Там, на крутояре, стояла старая касаткинская береза. Да, она шла к ней! Она действительно шла к ней, к теплой, ласковой, как руки матери, и такой же, как они, шероховатой, к березе, с которой, казалось Лене, началось все – вся новая, большая жизнь.
На открывшемся перед ее глазами просторе в лицо ударил порывистый ветер. Лена посмотрела вперед и остановилась, недоумевая: березы не было! Но, может быть, она стояла не здесь, не на этом откосе? Не тут накренилась над рекой? Нет, именно вот здесь, на этом месте! Оно стало голым, завьюженным и пустым. Лена пошла по снегу, глубоко проваливаясь, пока не добралась до обрыва, заглянула вниз и увидела поверженный ствол. Он наполовину зарылся в сыпучий снег, а ветки окунулись в полынью, как будто пили из нее студеную воду. Корни березы, могучие, с вмерзшими в них комьями черной земли, почти достигали кромки крутого берега, вместе с которым они еще совсем недавно были одним целым и прожили долгие годы. Лена дотянулась рукой до сплющенного, потрескавшегося корневища, отколупнула пальцами комочек земли, прошитый тонкими кудельками, растерла его и безудержно разрыдалась.
Вечером, возвратившись с работы, Борис и Катя застали Лену за столом перед аккуратно разложенными на нем документами. Подойдя ближе, Катя увидела паспорт, профсоюзный и комсомольский билеты, трудовую книжку, удостоверения о членстве в ВОИР, ДОСААФ, обществе Красного Креста, спортивном обществе «Труд», институтскую зачетную книжку. Лена не подняла глаз, словно не заметила вошедших; сидела, подперев рукой щеку, и пристально смотрела перед собой.
– Ты что, никак пасьянсы раскладываешь? Лен, что с тобой? А ну-ка, очнись!
Холодная, пахнущая ветром рука Кати приятно коснулась щеки. Лена сжала эту верную, хорошую руку, посмотрела, закусив губу, на Катю и Бориса, быстро сложила документы в сумку.
– Со мной ничего, – ответила она дрогнувшим голосом, затаив тяжелый вздох. – Просто подумала…
– О чем подумала?
– О том, что вроде бы вот еще вчера была человеком. Полноправным, что ли. А теперь вот – документы есть всякие, а я – никто.
– Да ты чего, Ленка! Как же ты – никто? Ты самый что ни на есть передовой человек на стройке. Вот ты кто, понятно?
– Только этому человеку не доверяют строить.
– Да брось ты выдумывать! Пошли ты их всех к едреной фене! Не дают общежитие – наплевать. Скоро Боря квартиру получит, с нами жить станешь. А работы – навалом. Чтоб тебе и работы не нашлось? Смех!
– Я говорю: не доверяют. Понимаешь? Не доверяют. Не заслужила я этой чести – работать в коллективе Гидростроя.
– Кто не доверяет? – запальчиво спросила Катя, уперев руки в бока. – Кто, интересно знать?
– Тимкин, например.
– Да я твоему Тимкину башку сверну! Что он, с ума спятил?
– Спятил не спятил, а ставит вопрос о моей причастности к комсомолу.
– А про Норина ты ему рассказала? И про эту комиссию? Рассказала или нет?
– Конечно, нет.
– Все скромничаешь, принципиальничаешь! Они тебя грязью обливают, а ты язык проглотила. Нет уж, хватит! Поглядела я на тебя, теперь сама возьмусь! Всех на чистую воду выведу! Вот помяни мое слово, завтра же пойду в партком! К самому Соколкову! Он им даст разгон! От твоего Петьки только пух полетит. Бабник он толстопузый! До чего людей доводит, морда бесстыжая!
Катя металась по комнате, размахивая руками, не обращая внимания на Бориса, который просил ее успокоиться, поберечь себя. Наконец он не выдержал и крикнул:
– Екатерина! Кому говорю: уймись! Ребенка ведь ждем!
Катя ойкнула беспомощно и, присев на краешек стула, схватилась рукой за живот.
– Никак шевельнулось…
В ее посветлевших глазах появились тихая радость и удивление.
– Разве можно так? – почти испуганно спросил Борис, наливая в стакан воду.
– Да не надо, не надо, – успокоила его Катя. – Ты чего испугался-то? Думаешь, сейчас вот рожать начну? Мы еще попляшем вволюшку и попоем. Давай-ка лучше ужинать, не то на хор опоздаем.
Почерпнув ковшом воду из стоявшего на сундуке ведра, Катя налила ее в умывальник, старательно вымыла руки и стала резать хлеб.
– А ты не думай, что я психанула и успокоилась, – сказала она, посмотрев на Лену. – Завтра обязательно пойду к Соколкову. Это чтоб в наше-то время так измывались над людьми!
– Не выдумывай! – возразила Лена. – В своих делах я как-нибудь разберусь сама.
– Вижу я, как ты разобралась. Подставила шею, а они и лупят по ней.
– Ничего, у меня шея крепкая. Я вот решила на комбинат пойти. Тут все кончается, а там – только разворачивается. Начну хотя бы с разнорабочей.
– Еще чего выдумала! У тебя же специальность.
– На комбинате в основном сборный железобетон. Мы с тобой к нему не приучены.
– Все равно можешь прорабом пойти, учетчиком. Да мало ли кем. Скоро институт закончишь – и разнорабочей! Нече людей смешить!
– Об этом я меньше всего думаю. Сама заварила кашу, самой и расхлебывать.
Лена подошла к шкафу, достала тарелки, поставила на середину стола приготовленный ею борщ. Все трое сели за стол. Ели быстро и молча. Отодвинув пустую тарелку, Катя сказала, растягивая слова:
– Чайку бы похлебать? Борь, ты поставил?
– А как же! Сейчас вскипит.
Вытерев руки полотенцем, он взял баян и прошелся по клавишам.
– Не слушаются, будто задеревенели. – Он размял пальцы и снова прикоснулся к клавишам. Зазвучала прозрачная, грустная мелодия, которая, казалось, доносилась откуда-то издалека.
– Среди долины ровныя… на гладкой высоте, – запела Катя, припав к Лене плечом. – Цветет, растет высокий дуб… в могучей красоте.
«Давай!» – мигнула она, и они запели вместе, тоскливо и самозабвенно.
Чайник фыркал из своего синего побитого носа кипятком и паром, а песня зазвучала еще тише, еще жалобнее:
– Ударит ли погодушка, кто будет… защищать?..
Не допев, Катя тронула рукой мужа:
– Сыграй веселую. Слышишь? И чайник выключи.
Борис поднял лицо, посмотрел недоуменно на Катю, продолжая выводить мелодию, потом увидел глаза Лены, полные слез.
Стало тихо.
– Ну чего, чаю, что ли, попьем? – спросил он, не зная, как поступить.
– Нет нашей березы, – прошептала Лена.
– Какой березы?
– Ну – нашей, на крутояре. Не помнишь?
– Это где я тонула? Да ты что! Как так нету? Кому она помешала?
– Не знаю. Нет ее, сама видела. С корнем вывернуло. Наверное, в ту бурю… ночью.
– Жалко… – сокрушенно сказала Катя. – Как только ласточки место найдут, когда тепло станет? Издалека летят… Они не вороны, которые прямо летают да за морем не бывают. Наши касатки крюками виляют да за морем бывают. Эх, Ленка… – Катя надолго задумалась; сидела, сложа руки между колен, покусывая губу. Она думала о березе, которая издавна стояла на крутояре, потом о Лене. Что это с ней? Словно подменили ее, словно надломилась она. А разве можно допустить, чтобы такое с человеком делалось? И она сказала:
– Ничего, Елена, ничего! Все перемелется – мукой будет. Давай ложиться, утро вечера мудренее.