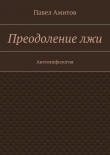Текст книги "Преодоление"
Автор книги: Николай Вагнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Глава двадцатая
ПЕРЕМЕНЫ
В дни экзаменационной сессии Василий домой возвращался поздно. На этот раз из института он вышел в двенадцатом часу ночи. Спешить ему было некуда: жена уехала в Москву. Она часто жаловалась в последнее время на боли то в желудке, то в пояснице. Попасть на прием к известным профессорам стало ее навязчивым желанием. Василий не возражал: здоровье в конце концов – прежде всего. Но в то же время ему думалось иногда, что ее боязнь – скорее всего лишь повод, чтобы уехать из Речного. Он всякий раз уверялся в этой мысли, когда Люба, раздраженная каким-либо пустяком, старалась не смотреть ему в глаза. Когда же взгляды их встречались, в ее глазах, по-прежнему красивых и блестящих, появлялись надменность и холодность. Василий не переносил этого взгляда. Она смотрела так, словно никогда не видела его раньше, не знала близко. Он, муж, для нее ничего не значил в такие минуты. Иногда Василий растерянно думал: если она могла хотя бы на время отдаляться от него, превращаться в совершенно постороннего человека, то не стал ли он ей безразличен вообще? Но зла Василий никогда не таил. Долго сердиться и подозревать он не умел тоже. После ссор с женой он отходил быстро, прощал ее неправоту и забывал все связанные с ней огорчения и обиды.
Только, пожалуй, одна-единственная обида осталась, память о которой он не мог вытравить. Как это она сказала ему?.. «Ты ничего не сумел достичь! Ты даже не можешь взять пример с более достойных. С кого? С Евгения Евгеньевича, например. Вы же – два полюса!..»
И тогда он схватил ее за руку, повернул к себе. Она даже испугалась, раскрыла в улыбке напомаженные губы и посмотрела взглядом обволакивающим, нежным, теплым.
– Не надо принимать шутки всерьез. Я же пошутила. Ну?..
Нет, он ей не поверил. Отбросил руку. Отвернулся.
– Тебя никто не задерживает. Можешь идти к другому полюсу. Хоть сейчас. Приняли бы.
Люба переменила тон, сказала сухо:
– Не беспокойся, меня примут там, куда я захочу. Слава богу, я никогда не страдала от недостатка внимания к себе.
Да, это была последняя ссора и – последний разговор. На другой день она уехала. Прошло больше двух недель, и за это время Василий не получил ни телеграммы, ни письма. Да и стоило ли их ждать? Рано или поздно разрыв должен был произойти. Обидно?.. На этот вопрос Василий не мог ответить определенно. Конечно, они разные, совсем разные. И никогда у них не было такой семьи, когда муж и жена становятся родными людьми. И все-таки… Он не мог временами до конца поверить, что она ушла навсегда…
Об отношениях Любы и Коростелева он догадывался, не зная, правда, насколько далеко они зашли. И все же Василий допускал мысль о том, что Люба в Москве ждет Коростелева. О переводе его в столицу или в областной центр поговаривали в институте все чаще. «Живет она у своей сестры, – думал Василий, – а возможно, в московской квартире самого Коростелева и – ждет. Все может быть…»
…Автобусы шли переполненными. Ночная улица ожила, зазвучала гулкими шагами, отчетливо звонким на морозе смешком, голосами девчат и парней. «Закончилась вечерняя смена», – догадался Василий и, не замечая того, пошел бодрее. Где-то впереди легко отшагивала девушка в стеганке и брюках, заправленных в сапоги. Не Лена ли Крисанова? Василию захотелось догнать ее, продолжить разговор, так внезапно оборвавшийся накануне. Он обогнал всех, кто шел перед ним, приблизился к девушке и – сбавил шаг. Это была не Лена. Проходившие мимо люди с любопытством оглядывались: что случилось с человеком – спешил как на пожар и вдруг пошел медленно, еле переставляя ноги?
Василий не замечал этих взглядов. Ему было все равно, что о нем думают. Он знал одно: это не Лена, не удастся поговорить с ней хотя бы немного, повторить оставшийся без ответа вопрос. Да и не могла она идти по улице в этот час. Скорее всего Лена теперь спала. Ведь сказала же она, что работает в первую смену. Всегда в первую. И не бетонщицей, и не в Гидрострое, а разнорабочей на комбинате. А почему? Вот на этот вопрос она не ответила. Заторопилась, побежала к автобусу; даже не попрощалась. Но и за это время, пока они вместе шли из института, Василий узнал много неожиданного. Как только Крисанова смогла подготовиться к экзамену? Не многие отвечали так же уверенно, как она. И все-таки надо, обязательно надо узнать, почему у Лены все так неудачно сложилось. Уход со стройки, разрыв с Нориным, предстоящее обсуждение ее на комсомольском собрании – все это, рассказанное Леной скупо, с недомолвками, была связано одной цепью причин. Но каких? Ему и раньше Лена казалась какой-то необыкновенной, не похожей на других. Он не знал, какая она именно, но всегда чувствовал ее необыкновенность. «Бывает же так, – неожиданно подумал Василий, – живет где-то необыкновенная и в то же время самая обыкновенная женщина, о которой мечтаешь, не зная ее, а она – рядом с кем-то другим, он и не догадывается о ее достоинствах, и нужна ему совсем иная… Может быть, такой же представляется кому-то другому Люба…» Другому, но не ему. Это он знал теперь твердо и уже не сожалел, что расстался с ней. Пусть ее ничто не связывает с Коростелевым, пусть даже она вернется, все равно это будет лишь временным совместным существованием, а окончательный разрыв неизбежно произойдет.
Но ведь живут же иногда и разные люди? Живут, но, по крайней мере, одинаково понимают жизнь и одинаково к ней относятся в главном – работают на общее благо и не терзают себя вопросами, чего каждый из них сумел достичь лично… «„Ничего не сумел достичь!“ Ну и черт с ним! Не сумел я, сумели мы. Реку остановили, да мало ли чего сумели и сумеем еще! А что сумеете вы? Шикарнее пожить! Живите на здоровье, но что после себя оставите?..»
– Никак Василий Иванович? – окликнула его женщина в пуховом платке и телогрейке. Она тоже шла не торопясь, тяжело ступая в больших мужских валенках, но все-таки обогнала Василия и теперь остановилась, ожидая его.
– Катя?! – обрадовался Василий, крепко сжал ее руку, спросил первое пришедшее в голову: – Отработались?
– Не говорите. Можно сказать, надолго.
– Это как же?
– В декрет ухожу. Кадры-то строителей пополнять надо. Оглянуться не успеем, как состаримся.
– В ваши ли годы так говорить? Я и то собираюсь махнуть на новую стройку.
– Вот и Лена тоже махнула… на комбинат.
– Слыхал. А почему, Катя? Что ей помешало работать здесь?
– Сама себе помешала. Принципиальная. Зла на нее не хватает, Василий Иванович. Из института тоже хотела уйти, когда ее ваш Коростелев по сопромату срезал.
– Разве она не сдала?
– Сдала, со второго раза. Спрашивал то, чего и в учебнике нет.
Василий помолчал и спросил:
– Почему все-таки так получилось у Лены? Студентка она хорошая. Даже очень. А производственницей какой была! Не могло же одним разом все перемениться. Не могло…
– А оно и не переменилось, – ответила Катя. – Ленка была Ленкой, Ленкой и останется. Ее, между прочим, на стройку-то звали. После того, как я в партком ходила. К Соколкову не попала, но все равно шуму наделала. И в газету мы написали, всей бригадой. Только об этом никто не должен знать. – Катя подняла на Василия глаза. – Ленка узнает – убьет. Да… А она все равно разнорабочей… Неудобно, говорит, с места на место бегать.
Они прошли еще несколько шагов и остановились у клуба.
– Но комсомольское собрание? Обсуждать ее все же будут?
– Обязательно. Для Тимкина – это удовольствие. Самовольно работу бросила – факт. Документы секретные не убрала – тоже факт. И от мужа сама ушла. Куда денешься?
– Куда денешься? А по-моему, никуда не надо деваться. Все это так и не так. Я, лично, думаю, эти обвинения слишком преувеличены. Вряд ли Лена в чем-нибудь виновата.
– Вина на вину не приходится. Была не была вина, да не прощена.
– Нет, Катя! Не согласен! – И он прихватил руками отвороты пальто. – Она лучше многих и, во всяком случае, тех, кто пытается ее обвинить. Тут какая-то несправедливость. Понимаете?
– Я-то понимаю. И потому не дам Ленку в обиду. Права Ленка. Ну – вот кругом права!
– Я думаю так же, надо ей помочь. Я попробую. Завтра же.
– Эх, Василий Иванович! Смотря куда толкнетесь. К ному, главное. Хороший вы человек, да и попасть к хорошему надо. Ну-с, до свиданьице, ждут меня. Спасибо и за беседу, и за внимание!
Катя пошла узенькой тропкой, соскальзывая с нее то и дело высокими неразношенными валенками, и скрылась за пристроем клуба.
Быстро проходили последние зимние дни. Казалось, где-то совсем близко была весна. Может быть, она уже началась – незаметно, исподволь: выше стало небо, словно растаяла его морозная дымка, разошлась буранная наволочь облаков. И воздух стал прозрачным, легким. В такой солнечный день, предвещавший непонятные и, вероятно, необоснованные радости, идти на собрание, на котором, по сути дела, посторонние люди станут касаться самого сокровенного, – не хотелось.
Лена постояла у здания треста, в одной из комнат которого должно было состояться собрание, посмотрела на ясный небосвод, глубоко вдохнула свежий, холодный воздух и переступила порог.
«Комната номер пятнадцать», – вспомнила она и пошла коридором по-деловому быстро, ни на кого не глядя, как будто бы она, а не кто-то другой, была заинтересована в этом собрании и в этом обсуждении, торопясь прийти вовремя.
Люди сидели за учебными столами в пальто. По всей вероятности, это была аудитория для каких-то занятий, возможно, по техминимуму, – на стенах висели плакаты с изображением строительных конструкций самых различных форм. Высоко подвешенные лампы светили тускло, и от этого лица парней и девушек выглядели серыми и немолодыми. Лена не знала никого из сидевших тут. Коллектив строящегося комбината был для нее новым, незнакомым. Только одно лицо приметила она сразу, узнала и отвернулась. За столом, рядом с комсоргом, сидел секретарь объединенного комитета Тимкин.
«Ну и пусть, – подумала Лена, – пусть присутствует, заостряет вопрос, как ему вздумается. Для меня он не существует. Пусть хоть умрет от злости – я не скажу ни слова. Нисколько не трогает меня это разбирательство, ну ни вот столечко! Надо отключиться и не думать ни о Тимкине, ни о собрании. А, например, о Кате…»
Катя, неугомонная Катя, она ушла наконец в декретный отпуск, но ей все равно не сиделось дома. И надо же – ранним утром, до смены, прибежала в такую даль, шла до самого комбината, взахлеб рассказывая о Василии Ивановиче, проводившем ее накануне к самым дверям клуба. «Что за Василий Иванович, что за расчудесный человек!..» И, скорее всего, она права. Василий Иванович действительно хороший человек. Ну какое ему дело до ее невезений? Мало ли других студентов и студенток, у которых тоже не всегда гладко в жизни? Конечно, это хорошо, когда кто-то думает о тебе и берется защитить. Сам, не по твоей просьбе, а чувствуя необходимость сделать это.
Ага! Тимкин уже «вносит ясность» в поставленный вопрос. Да, да, конечно, – «аморальный поступок», «притупление комсомольской бдительности», «потеря чувства долга»… «И все-таки интересно, почему Василий Иванович проникся ко мне таким вниманием? Чем я его заслужила? Своими ответами на экзаменах? Вряд ли. Ну, посидела, подготовилась и ответила. Невелика доблесть. И уж, конечно, не как женщина. Да и женат он! Господи, о чем я думаю?.. Женат, но, возможно, несчастлив? По-всякому может быть. Разве я сама была хоть на минуту счастлива с Петром?..»
«Ушла от мужа, разрушила семью», – убеждал Тимкин. «А почему ушла? Взял бы и сказал, почему. Не скажешь ведь, конечно, не скажешь. Объяснить это попросят ее, комсомолку Крисанову. Потом, когда она будет молчать, ее упрекнут в неуважении к собранию. А ведь это действительно получится так. Может быть, ей встать и раскрыть душу, рассказать все как было? Может быть, поймут. Нет, не поймут. Ее никто здесь не знает, а Тимкин убедителен, как прокурор».
Собрание закончилось быстро. Большинство проголосовало за предложение Тимкина – объявить Крисановой строгий выговор. «Вот и освободилась», – подумала Лена. Она вышла в коридор, натянула на голову спортивную шапочку и пошла той же быстрой походкой, прямо глядя перед собой. «Вот и еще выдержала одно испытание. Теперь можно ни о чем не думать и работать. Просто работать, убирать строительный хлам. Так, как это делал когда-то Илья Петрович Груздев на Волховстрое или еще где-нибудь. Когда был молод и понимал, что всякая работа, пусть самая черная, – благородна, нужна. Без нее просто не обойтись. Кто-то должен был делать эту работу, и вот теперь делает ее она».
Лена посмотрела рассеянным взглядом вокруг, на сиреневые венчики возле фонарей, ступила на твердый, лоснящийся ледяными глыбами тротуар и увидела Кострова.
– Здравствуйте, Лена, – сказал он, шагнув ей навстречу.
– Добрый вечер, Василий Иванович. Каким образом вы здесь оказались?
– Если честно, пришел узнать, как прошло собрание.
– Собрание? Тоже скажу честно – не знаю.
– То есть как не знаете? Вы же были на собрании?
– Была и не была. Словом, это собрание меня нисколько не интересовало.
– Но ведь обсуждался ваш вопрос. Чем кончилось?
– Строгим выговором. Так и должно было быть.
– Я с вами не согласен. Тут кроется какое-то недоразумение. Вы выступили, объяснили им?
– Нет, – беззаботно ответила Лена. – А зачем?
– Затем, чтобы восстановить справедливость. Вы не заслуживаете никаких порицаний.
– А вообще-то верно, Василий Иванович.
Она улыбнулась простосердечно, почувствовав себя необыкновенно легко, и начала подробно рассказывать ему все, о чем так упорно молчала в разговоре с другими людьми. Василию стали наконец известны подробности работы министерской комиссии, роль, которую сыграл в ее выводах Норин, и причины ухода Лены от него. Только о своем столь быстром и неожиданном сближении с Петром и визите Марии Михайловны она не сказала ни слова. Василий чувствовал, что Лена чего-то не договаривает, но не стремился расспрашивать. Он знал основное – причины, заставившие Лену поступить так, как и должен был поступить честный человек. Ему захотелось сказать Лене много хороших слов, но он лишь бережно сжал ее опущенную руку.
– Лена, позвольте мне рассказать обо всем этом Соколкову?
– Нет! Нет! Все это теперь ни к чему.
– То есть как ни к чему? Вас устраивает ваше теперешнее положение?
– А почему бы и нет?
– Потому что из-за каких-то проходимцев вы не должны оставлять любимое дело, вашу стройку! Для меня, например, вы… Короче говоря, понятие «лучшие люди стройки» для меня не существует без вас.
– Ну уж, Василий Иванович! Слишком громко.
– Громко? А вы знаете, что в свое время именно вы утвердили меня в решении бросить школу и приехать сюда? Я и сейчас помню ваш счастливый взгляд… «Майна! Давай!» Вы что – забыли?
Глаза Лены заблестели. Она опустила голову.
– Спасибо, Василий Иванович, – тихо проговорила Лена. – А вы знаете, Илья Петрович как-то сказал: «Строительство – дело временное. Рано или поздно наступает конец. И тогда начинается самое главное. Энергия начинает питать фабрики, заводы – все вокруг…» Вот, видите, теперь я оказалась на главном направлении. Все нормально.
– Вы просто храбритесь. У вас не хватает мужества признаться в том, что вам жаль станцию. Жаль, что стройка завершается без вашего участия… Чего там говорить! Так ведь это?
– Так. Если сказать честно, мне бы хотелось построить еще много станций. Столько, насколько хватит жизни. Не одна ведь Касатка на белом свете. И хочется их всех быстрее разбудить. Дать им такую же большую жизнь и увидеть это.
– Ну вот, значит, надо все поставить на свои места.
– Не надо. Спасибо вам за все. – Лена посмотрела ему в глаза, которые показались ей смелыми и решительными. – Не надо, – повторила Лена. – Еще раз спасибо. Я пойду.
– Куда вы?
– Куда? Скорее всего, к Кате.
– Идемте, я вас провожу.
– Что вы! Это слишком далеко.
– Ну хотя бы немного.
Они пошли по ярко освещенной улице, мимо центрального гастронома, мимо кинотеатра «Энергия». Василий взглянул на рекламу. Мелькнула мысль: не пригласить ли Лену в кино? И вдруг он почувствовал растерянность. От толпы, стоявшей около кинотеатра, отделились две женские фигуры. Василий узнал Любу и Нину. Неподалеку стоял Норин, он отвернулся и старательно прикуривал сигарету.
– Интересно получается, – с деланной улыбкой сказала Нина, – жена не может попасть в дом, а Василий Иванович прогуливается с девушками. – И тут Нина смутилась. Теперь уже она ощутила неловкость и растерянность, узнав Лену. Но ей все же пришлось поздороваться с Леной и обменяться несколькими фразами. Обе они отошли в сторону. Нина спросила:
– Что-то тебя совсем не видно? Я думала, ты куда-нибудь уехала.
– А я слышала, собираешься уезжать ты. Разве это не так?
– Да, это действительно так. На днях мы уезжаем. – Нина ненадолго умолкла и, решившись, заговорила доверительным голосом: – Ты не должна обижаться. В том, что тебе не повезло с Петром, я абсолютно не виновата. К тому же ты сама ушла от него. Так что никаких претензий быть не может. И вообще, ты знаешь, что я человек серьезный. Петр сделал предложение, и мы зарегистрировались, как положено. Кстати, ты уж извини, но я ему буду полезней… И он не любит замыкаться в узком кругу, и я. Здесь нам тесно. Понимаешь? Петру предложили работу в областном центре. А это – уже не Речной. Из областного города можно уехать куда угодно!..
Нина не договорила: Лена повернулась к ней спиной и, не сказав ни слова, пошла вдоль улицы.
Люба и Василий медленно шли к дому. Не обмолвившись ни словом, повернули за угол, пересекли дорогу, обогнули по узкой знакомой тропке строящееся здание универмага.
– Мне кажется, нам не нужны лишние объяснения, – заговорила наконец Люба спокойно и не глядя на Василия. – И тебе и мне ясно, что семьи у нас не получилось. Считаю, что мы должны поступить, как культурные люди.
– Вполне с тобой согласен, – ответил Василий. – Когда ты едешь?
– Сегодня.
– Но ведь надо как-то развестись.
– Подадим заявление, лучше всего совместное. Если потребуется, я приеду.
Больше они не говорили до самого дома. Василий открыл дверь, прошел в комнату и сел, не раздеваясь, на табуретке. Пока Люба укладывала чемоданы, он курил папиросу за папиросой и смотрел через стекло балконной двери на заснеженный лес. Наконец она закончила сборы, подошла к Василию.
– Ну, кажется, все. А до поезда еще целых два часа.
Василий сидел не поворачиваясь и молчал.
Люба нервно кашлянула и заговорила сдавленным голосом:
– Неужели ты не понимаешь, как мне трудно? Я сама не знаю, что происходит со мной, но пойми – так жить, как жили мы, больше не могу. Ты должен меня понять. И должен проститься по-хорошему. Ведь мы не чужие люди! – Она прикоснулась рукой к плечу, пытаясь повернуть Василия к себе, но он твердо сказал:
– Счастливого пути!
В комнате стало тихо, и эта секундная тишина показалась Василию нестерпимо долгой. Затем он услышал за своей спиной быстрые шаги Любы. Глухо хлопнула дверь.
Не первое утро Василий просыпался один, но так одиноко и так тревожно он не чувствовал себя никогда. Словно один остался в целом мире. Ушла Люба. Совсем. Но ведь, по существу, она ушла не вчера, а гораздо раньше. Нет, он утратил что-то еще! Утратил что-то большое, необходимое ему…
Стараясь унять непонятное беспокойство, Василий убеждал себя, что ничего не случилось! И жизнь не началась заново. Она продолжалась. Продолжалась очередными делами, которые приготовил наступивший день. Прежде всего – комитет комсомола, партком, затем – институт. В комитете и парткоме надо обязательно поговорить о Лене, доказать ее правоту. Она просто-напросто заблуждается. Ей надо помочь, независимо от того, хочет она этого или нет. И чем скорее, тем лучше.
Василий поднялся, прошел в ванную, подставил спину под струистый холодный душ, растер грудь, руки, насухо вытерся жестким полотенцем, не садясь за стол, выпил стакан холодного чаю, закурил и вышел из дому.
Как-то он поговорит с Тимкиным, с тем самым, которого знал как плохого студента и который теперь возглавлял объединенный комитет? А! Как бы там ни было – поговорит прямо. Ведь вопрос-то ясен и прост.
Тимкин разговаривал по телефону и сделал вид, что не сразу заметил Василия. Только положив трубку, он воскликнул:
– Ах, Василий Иванович! Вот кого не ожидал. Проходите! Надеюсь, не по поводу экзаменационной сессии? Данные, которые к нам поступили…
– Сессия прошла нормально, – усаживаясь перед столом, ответил Василий. – Я пришел не за тем.
– Слушаю вас.
– Вопрос несколько необычный, правда. Насчет вчерашнего собрания на комбинате. Вы на нем были?
– Был. И что?
– Что же вы так поступили с человеком? Хлоп – и выговор. Нельзя так – с кондачка.
– С кондачка, Василий Иванович, мы вопросов не решаем. Вы, собственно, о ком?
– О Лене Крисановой.
– Да, да, разговор шел именно о ней… Ну и что? Голосование было единодушным.
– Скажите лучше – бездушным. Такого человека, такую работницу, студентку, наконец, и так очернить.
– Прошу меня извинить, Василий Иванович, – разведя руками, возразил Тимкин, – чернить людей не в наших правилах. Другое дело, когда они чернят себя сами. Тут мы должны сказать свое принципиальное слово. Мы…
– Бросьте! Надо вначале разобраться, – перебил Василий. – А вы взяли и проголосовали. Откуда у вас так повелось?
– Василий Иванович, – с расстановкой произнес Тимкин. – При всем уважении к вам…
– При чем тут уважение ко мне? Уважать надо всех, каждого!
– Даже аморальных и аполитичных людей? Что-то непонятно. При таком подходе мы никогда не решим задачу воспитания молодежи.
– Вы даже не попытались вникнуть в то, что произошло с Крисановой, и, по существу, поддержали аморальные действия Норина. А в результате получилось так, что вы перевернули вниз головой само понятие о комсомольской чести.
– Мне кажется, Василий Иванович, вы слишком неосторожны в выражениях. Норин, между прочим, до последнего времени находился на посту заместителя начальника управления, а теперь рекомендован на работу…
– А каким путем он туда пролез, вам известно?
– Думаю, что на руководящую работу недостойных не выдвигают. Ваша позиция, Василий Иванович, мягко выражаясь, не убедительна. Я уже не говорю о том, что выглядит она несколько странной…
Он сел в пол-оборота к Василию и начал вращать карандаш, постукивая им по столу.
Василий поднялся, обошел стол и взял из руки Тимкина карандаш.
– Вам кажется странным, когда коммунист отстаивает справедливость?
– Я тоже коммунист, к вашему сведению, да еще занимаю выборную должность.
– Вот поэтому я и пойду в партком. Вас, видно, здорово занесло. О ленинских нормах жизни небось только в докладах упоминаете. А пример вам брать, между прочим, было и есть с кого. О Груздеве, конечно, вы начисто позабыли?
– При чем тут он? – вновь взяв карандаш, спросил Тимкин.
– При том, что для Груздева человек всегда был превыше всего. Подумайте об этом на досуге…
Постояв возле двери, Василий натянул кепку, посмотрел на Тимкина пристально и вышел из кабинета. «Ничего он не поймет. С такими говорить бесполезно. Вся надежда теперь на Соколкова». Его он знал еще по работе на арматурном. Оба входили в бюро парторганизации подсобных предприятий. Соколков был деловым и принципиальным секретарем.
В парткоме он узнал, что Соколков еще с утра уехал к монтажникам и обещал вернуться лишь к концу дня. Откладывать разговор Василий не хотел и поэтому, не теряя времени, поехал на основные сооружения.
Строительный ритм был заметен уже на подступах к плотине. Грузовики спешили сюда с последними замесами бетона. Навстречу им шли машины с мусором, скопившимся за многие годы. Вдоль всего фасада станции сноровисто работали девушки-штукатуры в перемазанных комбинезонах. Но главными героями стройки теперь стали спецмонтажники. От них зависел своевременный пуск агрегатов. Вот почему Соколков, как в свое время Груздев, каждый день начинал и заканчивал здесь.
Василию не понадобилось подниматься на монтажную площадку. Соколков сам шел ему навстречу, возбужденно разговаривая с Петуховым, исполнявшим теперь обязанности начальника стройки. Неуклюжий, в надетой поверх пальто брезентовой куртке, Соколков говорил о чем-то горячо, широко размахивая руками. Увидев Василия, он кивнул ему и еще раз обратился к Петухову, все так же жестикулируя, потом рассмеялся и, тяжело ступая, спустился вниз.
– Чего здесь?
– Ищу вас, – ответил Василий. – Надо поговорить.
– Идем. Проводи до шлюза, дорогой и поговорим.
Они пошли вдоль станции, к валу земляной плотины, однако поговорить на этом пути не пришлось. Соколков часто останавливался возле рабочих, заводил с ними разговор так просто, как будто бы минуту назад прервал его и теперь вот возобновил с полуслова; о чем-то расспрашивал, что-то советовал, сам отвечал на вопросы.
– Дружный у нас народ! – сказал он Василию, когда они поднялись на плотину. – Гидростроители – это, брат ты мой, золотой фонд.
– И относиться к ним надо с вниманием, какого они заслуживают.
Соколков повернулся к Василию, посмотрел удивленно.
– Ты о чем? По-твоему, у нас нет внимания к строителям? К кому же тогда есть? О ком еще нам заботиться, кроме них? Ты погляди на город. Их город! С клубом, театром, детскими садами, магазинами. Все квартиры имеют. Даже спецмонтажники в отдельных живут, с семьями. А люди вроде бы временные.
– Бывают вещи более тонкие.
– Слушай, Костров, довольно крутить. Говори, с чем пришел?
– Пришел высказать свое удивление: почему одна из лучших в недалеком прошлом работниц Елена Крисанова уволена со стройки? Начинала чуть ли не с первого бетона, а теперь ее лишили права участвовать в предпусковых работах. Взяли и плюнули в душу.
– Хорошим была бригадиром, припоминаю, – согласился Соколков. – Как-то неожиданно она исчезла. При Груздеве была в управлении. Это после болезни. А потом?.. Потом с ней что-то стряслось. Слышал мельком и забыл. Напомни.
– Потом она уволилась из управления и ушла от своего мужа. От Норина.
– Верно. Слыхал. А почему?
– Вот-вот. Говорим о внимании, а что случилось с человеком, не знаем.
– За всем не уследишь. Ты вот что, – твердо сказал Соколков, – хватит играть в жмурки. Я вижу, у тебя накипело. Крой без обиняков, напрямую.
Василий рассказал о Лене, все до мельчайших подробностей, которые ему стали известны, и закончил:
– А Норин чуть ли не в герои выполз…
Соколков надсадно кашлянул, потер побагровевшее от ветра веснушчатое лицо.
– Верю тебе, Василий Иванович. Вопрос ясен, и мы поправим это дело. Крисанову восстановим во всех правах. Будет она завершать стройку. Завтра приглашу к себе, растолкую ей, что к чему. Норин, конечно, сукин сын, но взятки с него гладки: уехал и снялся с учета. Такие пролезать умеют… И живут долго… А вот Груздев, – он помолчал немного, – сгорел на работе…
Эти слова Соколков сказал тихо. Они едва были различимы на свистящем ветру, который клубил снежную крупу на плотине и рассеивал ее над застывшей рекой.
– Сгорел, – согласился Василий, – но должна торжествовать справедливость или нет?
– Она торжествует! – Соколков выбросил руку с разжатыми пальцами – назад, к станции, затем вниз, показав на поблескивающую настом плотину, и еще раз – вперед, в сторону шлюза. – Там, здесь, всюду! Груздев сделал свое дело, позаботился о живущих и о тех, кто будет жить. И веру свою передал всем нам! – Соколков остановился на развилке дорог. – Я думаю, мы договорились. Или пойдем дальше, на шлюз?
– Нет, мне в институт.
– Тогда бывай!
– Спасибо! – сказал Василий.
– Тебе спасибо! Все уладим с Крисановой, завтра же. А ты забегай, не теряй контакта.
Засунув руки в карманы куртки, Соколков зашагал к шлюзу, но, словно почувствовав взгляд Василия, обернулся:
– Совсем забыл об одной мыслишке.
Он подошел вплотную к Кострову, взялся осторожно двумя пальцами за пуговицу на его пальто и, глядя в глаза, спросил:
– Как ты смотришь насчет директорства в институте?
– Положительно смотрю.
– Нет, ты серьезно?
– Смотрю положительно на перевод Коростелева.
– Не дури. Я спрашиваю, согласен ли принять институт?
– Я?! Институт! Ну нет. Шутишь ты или серьезно?.. Благодарю за доверие, но эта работа мне не по душе. Хочу проситься на стройку.
– Вон как! – удивился Соколков. – А ты все-таки подумай. Кроме тебя, кандидатуры не вижу.
Василий спешил. В аудиторию он вошел вовремя. Студенты собрались и ждали его. Это была последняя консультация перед экзаменом, и поэтому она началась бурно. Вопросы, как нарочно, сыпались без конца. «Вот уж воистину вознамерились нагреть шилом море. Ничего не поделаешь – надо растолковывать, доказывать, объяснять». Прошло более трех часов, когда студенты наконец-то устали, сникли и заметно потеряли интерес к решению задач. Василий пожелал им лучше подготовиться и отпустил домой. Теперь он мог идти к Лене. Только бы застать ее дома! Рассказать ей о встрече с Соколковым. Обрадовать…
Дверь открыл Борис. Лицо его было озабоченным.
– Проходите, – сказал он. – Катя в больнице, один вот хозяйничаю. У вас что-нибудь случилось?
– Да нет. Хотелось бы увидеть Елену Андреевну.
– Сам не знаю, где она. Утром Катю вместе проводили и больше не видел. Раздевайтесь, возможно, скоро придет. Перекусим, как говорят, чем бог послал. Вы ведь с работы? Они тут много о вас говорили. Я сразу узнал вас.
Василий снял пальто, прошел к столу. Он молча наблюдал, как Борис резал пузатые соленые огурцы с крупными семечками, доставал кастрюльку с мясом и картошкой, издававшей дух лаврового листа, ставил на стол початую бутылку водки.
– Извините, заскучал я тут без Кати. Да и боюсь я за нее – на месяц раньше рожать собралась.
– Да, – сочувственно проговорил Василий. – Я вас понимаю. – Он жадно ел картошку. Потом отодвинулся вместе со стулом, поблагодарил и достал папиросы. – Закуривайте!
– С удовольствием бы. Бросил. Давайте я лучше изображу вам чего-нибудь.
Борис взял баян, приник к нему щекою. Он долго играл протяжную заунывную песню. Тоскливо стало на сердце Василия, и он почувствовал себя до жути одиноким.
– Хороша песня? – спросил Борис, бережно ставя баян на сундук. – Они обе любят ее. По нескольку раз в вечер запевали одну и ту же.
– Хороша…
Василий обвел глазами стены, печку, уткнувшуюся в угол комнаты, сжал рукою лоб. Все не ладилось последние полгода – дома, на работе. Плохо и беспокойно было на душе. «Кто я? – подумал Василий. – И в самом деле, чего достиг, к какому берегу пристал? Все потерял, даже то, что имел до этого».
Василий встал, прошелся по комнате. Мысли были четкими, как будто позади не было хлопотного дня без завтрака и обеда. Вспомнилось предложение Соколкова – принять институт. «Стало быть, Коростелев все-таки уезжает. Бежит от жизни в Речном. А Люба? На что надеется Люба? Ведь это так непросто – начать все сначала, все по-новому и все – вдруг!..»