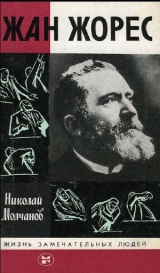
Текст книги "Жан Жорес"
Автор книги: Николай Молчанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
В апреле 1886 года он выступает с предложением создать пенсионные фонды из обязательных взносов предпринимателей и рабочих. Предложение не имело успеха. Лишь после долгих проволочек прошел куцый законопроект о кассах взаимопомощи для шахтеров. Дважды он выступал за закон о компенсации жертвам несчастных случаев на производстве. Его предложение опять не прошло, но позже он голосовал за несравненно более умеренное предложение, которое было принято палатой в 1888 году, а законом стало лишь через десять лет.
Особенно настойчиво Жорес выступает за социальные законы в пользу шахтеров. Он хорошо знал жизнь своих избирателей – горняков Кармо. К обычным для всех рабочим тяготам, бесправию и нищете здесь добавлялась постоянная угроза подземных катастроф. Сколько энергии, терпения, настойчивости приложил Жорес, чтобы добиться принятия закона о делегатах шахтеров! Защитники хозяев шахт яростно сопротивлялись принятию этого закона. Ведь он предусматривал, чтобы контроль рудников проводился не только администрацией угольных компаний, но и представителями рабочих. Тем настойчивее боролся Жорес за принятие закона. Он посвятил ему несколько больших выступлений, открывших блестящую галерею его ораторских шедевров. В них можно разглядеть контуры, правда довольно расплывчатые, его зреющих социалистических воззрений. В июле 1887 года в одной из этих речей он заявляет с трибуны парламента:
– До тех пор пока пролетариат не допущен законом к экономическому влиянию, пока его оставляют в положении внешнего и механического фактора, пока он не сможет в справедливой доле участвовать в распределении труда и продуктов труда, пока экономические отношения будут регулироваться случаем и силою гораздо больше, чем разумом и справедливостью, проявляющимися в могущественных федерациях свободных и солидарных трудящихся, до тех пор пока грубая впасть капитала, распоясавшаяся подобно стихийной силе, не будет дисциплинирована трудом, наукой, справедливостью, – мы сможем сколько угодно нагромождать законы о благотворительности и социальном обеспечении, но мы не дойдем до самого сердца социальной проблемы…
С левых скамей, где сидели социалисты, после этих слов раздались дружные аплодисменты; ведь депутат центра явно имел в виду социалистическое преобразование общества. Но каким способом? Жорес еще простодушно надеется на великодушие и добрую волю буржуазии. Он взывает к совести, к моральным принципам политиканов, основой деятельности которых всегда были аморальность и беспринципность. Он не видит классовой природы их поведения и объясняет нежелание буржуазных депутатов поддерживать законопроекты, облегчавшие участь рабочих, летаргией, безразличием, непониманием, усталостью, инертностью, упадком республиканских чувств. Словом, чем угодно, кроме действительных причин антирабочей позиции республиканского большинства.
Однако Жорес продолжает борьбу, хотя порой перипетии этой борьбы совершенно обескураживали его. Как он был доволен, когда закон о делегатах горняков был наконец одобрен палатой! Пламенные речи Жореса серьезно помогли этому, и он считал принятие закона и своим личным успехом. Теперь закон нуждался в одобрении сената – второй палаты парламента, придуманной специально для того, чтобы держать в узде палату депутатов. Двухпалатный механизм – удобная вещь для провала неугодного законопроекта. Сенаторы и депутаты буржуазии используют любую оплошность или слабость левых и с помощью ловких комбинаций всегда могут добиться своего. Так случилось и с законом о шахтерских делегатах. Сенат, правда, одобрил его. Но внес при этом такие поправки, которые совершенно извратили его идею и сделали закон безопасным для шахтовладельцев.
24 мая 1889 года палате предстояло второй раз либо утвердить закон с поправками, либо подтвердить свое решение в пользу первоначального варианта. После колебаний и раздумий Жорес решил, что все же лучше иметь кое-что, чем ничего. От имени комиссии, докладчиком которой он был, Жорес призвал палату принять хотя бы этот закон: ведь потом его можно будет усовершенствовать.
Но социалисты считали, что изуродованный закон уже не принесет никакой пользы. Непримиримый шахтер-депутат Бали выступил против закона с поправками сената, считая его в таком виде просто вредным. Он настаивал на вторичном голосовании за первый вариант. Жорес с удивлением увидел, что, когда Бали закончил свою речь, ему аплодировали не только социалисты, но и правые, а среди них барон Рей, его старый знакомый, владелец шахт в Кармо! Несколько озадаченный, Жорес решил, что, быть может, стоит рискнуть. Ведь если вся палата, правьте и левые, единодушно проголосует за первоначальный текст, то перед такой демонстрацией единой воли сенат вынужден будет отступить!
Настал момент голосования. Депутаты поднимались со своих мест и, толпясь в проходах, подходили к корзине, куда следовало опускать бюллетень. Вот идет барон Рей, который только что аплодировал Бали. Но что же это? Жорес с изумлением и возмущением видит, что он голосует против предложения социалиста. Так же поступали и другие правые, все эти промышленные и земельные феодалы, а с ними и большинство оппортунистов. «Какое лицемерие, какой цинизм!» – с негодованием думал Жан. Аплодируя Бали, правые хотели показать себя большими демократами, чем те, кто, подобно Жоресу, хотел помочь шахтерам. Награждая аплодисментами их представителя, реакционеры, оказывается, собирались немедленно проголосовать против него. Закон был похоронен. Грязная парламентская игра вокруг справедливых жизненных интересов самой страдающей части трудящихся глубоко возмущала Жана, хотя наивно было ожидать от буржуазных депутатов иного поведения. Но простодушие и политическая наивность служили тогда главной отличительной чертой молодого депутата Тарна. Моральные критерии всецело определяли его мировосприятие, и он лишь начинал понимать неумолимую логику классовых противоречий.
И вот еще одно разочарование, еще одна неудача. Как всегда в подобных случаях, уныние наполняло его душу. Странное, казалось бы, дело: став депутатом, овладев вожделенной трибуной парламента, Жорес не чувствовал себя счастливым. Он не только не видел плодов своей деятельности, он даже не мог еще ясно определить ее направление, не приобрел единомышленников, не присоединился к образу мыслей других. В тот майский вечер, когда у него на глазах разыгралась тягостная сцена провала законопроекта, за который он так горячо боролся, мрачно задумавшись, Жорес возвращался из палаты домой. Никогда в жизни он не был и не будет столь одиноким, как тогда, в первый срок его депутатских полномочий.
Одиноким не только в парламенте. После свадьбы Жан поселился с молодой женой в доме девятнадцать на авеню Мот-Пике. Равнодушный, как всегда, к материальной, бытовой стороне жизни, он предоставил устройство своего очага всецело на усмотрение Луизы. Она выполнила это с самым дурным вкусом. Денег было достаточно, но, верная дочь коммерсанта из провинции, Луиза обожала яркую дешевку. Драпри из плюша, уродливо раскрашенные цветочные горшки, дешевые скульптурки на немыслимых подставках превращали квартиру Жана в образец мещанского, безвкусного великолепия. А он либо не замечал кричащего безобразия, либо не придавал всему этому значения. Для него достаточно было иметь комнату, куда он сложил свои книги. Впрочем, друзья Жана с удивлением говорили о его странной непоследовательности: в картинной галерее он мог восхищаться лучшими полотнами и как знаток тонко анализировать их. Но, выйдя из музея, он подчас покупал дешевую раскрашенную тарелку, на которую не польстилась бы даже консьержка.
Дома Жан рассеянно слушает, как его жена своим протяжным голосом рассказывает светские новости, а главное – свое мнение о последних модах. Луиза обожает пышные, безвкусные платья. Она приобретает множество этих ярких нарядов, которые быстро пачкает, мнет и забрасывает. Жан не замечал у нее никаких других интересов. К домашнему хозяйству она не имела отношения, все делала горничная. Если и раньше одежда Жана не отличалась элегантностью и аккуратностью, то теперь этот женатый человек носит всегда мятые, нечищеные костюмы, у него вечно не хватает пуговиц. Луиза никогда не могла даже представить себе, что это ее в какой-то мере касается.
Жена Жореса оказалась неглупой, но крайне ограниченной, скучной и примитивно эгоистичной, невероятно ленивой и равнодушной ко всему на свете, кроме своих непосредственных интересов. После нескольких попыток поделиться с ней своими мыслями, тревогами, надеждами Жан почувствовал, что его монологи не встречают никакого отклика, что здесь он не получит ни поддержки, ни внимания, ни заботы. Но он примирился с этим, как мирился со многим другим по причине своей необычайной терпимости и благодушия к тому, что он не считал главным в жизни. Более того, он любил ее и переносил свою семейную жизнь спокойно, обходясь без счастья. Он совершенно не был эгоистичен и всегда готов был скромно довольствоваться малым. Но он все же смутно понимал, каким утешением могла бы быть для него, так нуждавшегося в поддержке, семья, любящая, умная, внимательная жена…
Первое время после свадьбы дома Жана встречала ласковая, любимая Меротта. Старушка уже почти ослепла, но она сохранила ясный ум и самый живой интерес к делам сына. В то время как апатичная, равнодушная Луиза пропускала мимо ушей все, что говорил Жан, мать ловила каждое его слово. Он рассказывал ей обо всем, что он делал, видел, чувствовал.
А затем произошла весьма банальная, но очень неприятная для Жана история. Луиза, которую не интересовали дела мужа, довольно откровенно обнаруживала ревность к матери Жана. Свекровь сделалась для нее совершенно невыносимой. Хотя кроткая старушка старалась пореже выходить из своей комнаты, молодая хозяйка без особого такта дала понять, что старая дама нетерпима у нее в доме. Она принимала глубоко оскорбленный вид, когда Жан уходил к матери и подолгу сидел у нее. Аделаида стала объектом столь же грубой, сколь и глупой неприязни со стороны невестки, которая наконец объявила мужу, что она не может жить вместе с его матерью. С болью в сердце Жан вынужден был принять тягостное решение и поселить любимую мать в пансионе для престарелых дам в Версале. И теперь, если он чувствовал потребность излить боль, накопившуюся на душе, и хоть как-то выйти из состояния мучившего его одиночества, он садился на поезд и ехал в Версаль к матери. Дома ему было очень тоскливо.
Жаловался ли он на свою судьбу? Нет, он молча терпел, и только иногда, случайно вырываются у него косвенные признания…
Летом 1888 года Жан получил письмо от директора лицея в Альби, того самого, учителем в котором был некогда Жорес. Директор просил бывшего скромного преподавателя, а ныне депутата выступить на церемонии очередного выпуска и раздачи наград. 31 июля двор лицея был разукрашен и наполнен гостями. Казалось, ничего не изменилось с тех пор, когда Жорес начинал здесь преподавать. Правда, рядом с ним уже не Аделаида, гордая сыном, а Луиза, все внимание которой поглощено исключительно ее новой шляпой с цветами и вуалью.
На этот раз Жорес пришел сюда с особенным волнением. Годы, прошедшие с того дня, когда он покинул альбигойский лицей и уехал в Тулузу, жизненный опыт в его новом положении депутата сделали особенно дорогой встречу с еще столь недавней юностью. Поэтому и речь Жана, вызвавшая восторг слушателей, если не считать, как всегда, равнодушной Луизы, была пронизана искренний волнением. Яркими красками Жорес нарисовал картину Альби, показав в окружающем смысл и красоту, только сейчас раскрывшуюся перед лицеистами. Он говорил о радости познания, о счастье духовного роста и совершенствования, о родине и отношении к ней, о долге молодых людей перед Францией. Жан взволнованно излагает перед молодыми буржуа Альби свой еще туманный идеал социальной справедливости и призывает их к самоотверженности, к отказу от эгоистических интересов ради торжества этого абстрактного идеала.
Речь Жореса носила явно личный характер. Его собственный жизненный опыт, все его переживания сделали эту речь такой впечатляющей, такой захватывающей для слушателей. В одном месте, когда Жан заговорил о горестях жизни, его лицо, голос, глаза, жесты выражали такую грусть, что друзья Жана невольно переглянулись с улыбками сочувствия,
– Когда мы устаем от пошлостей и гадостей, встречающихся на нашем пути, только в самой жизни можно найти средство против отвращения ко всему окружающему. Есть в мире высокие умы и благородные сердца, и около них мы можем отдохнуть и воспрянуть духом. Но невозможно постоянно видеть их рядом, особенно в тот самый час, когда наше сердце в тоске. А кроме того, из-за какой-то стыдливости, проявляющейся даже в отношениях с друзьями, трудно всегда быть откровенным в своих слабостях, упадке, в своих страданиях… И вот тогда бывает, что прекрасная, любимая и возвышенная книга утешает нас. И здесь не надо многого: всего одна страница, которую читают на ходу, несколько стихов, произносимых для себя вполголоса, взгляд на прекрасную гравюру, и вот наша душа вновь обретает уверенность в себе!
…Душа Жореса зрела, мужала и вопреки всему устремлялась вперед и выше.
Буланжизм
Жорес испытывал огорчения не только из-за бесплодности своих реформаторских усилий, из-за трудности партийного самоопределения и не слишком счастливой семейной жизни. Суровому испытанию подвергались его столь пылкие республиканские убеждения. Если монархисты презрительно называли республику «босячкой», то для Жopecа она была воплощением надежд на будущее Франции, лучшим средством совершенствования социального устройства страны. Теперь он воочию увидел унижение и профанацию республики еще недавно столь рьяными республиканцами. Они все более открыто использовали республиканское знамя для карьеры и обогащения, не гнушаясь самыми постыдными сделками и махинациями. Буланжистская эпопея заставила Жореса многое понять по-новому.
Время было тяжелое. Только кучка самых богатых безболезненно переживала застой в делах, экономический кризис, разорявший крестьян, мелких рантье, лавочников. Особенно трудно приходилось рабочим. Стачки в Анзене, Кармо, уже известные нам события в Деказвилле показали, насколько отчаянным оказалось положение рабочего класса.
Как раз во время дебатов по поводу стачки в Деказвилле Жорес начал присматриваться к человеку, который пять лет будоражил Францию, вызывал надежды одних, ненависть других, играя на всеобщем недовольстве. Генерал Буланже, военный министр в правительстве Фрейсине, отвечал на вопрос депутатов об отправке войск в Деказвилль. Он заявил, что не допустит столкновения между солдатами и рабочими, что армия – это тот же народ. Слова генерала вызвали аплодисменты социалистов. Еще раньше одобрение республиканцев заслужили действия Буланже против офицеров-монархистов. Он вычеркнул из списков армии членов царствовавших семей, вроде герцога Омальского. Клемансо был в восторге от Буланже, считая единственным надежным республиканцем среди генералов человека, участвовавшего в кровавом подавлении Коммуны. Собственно, пост военного министра он получил по протекции влиятельного лидера радикалов.
Укрепив свою репутацию безупречного республиканца, Буланже сумел снискать расположение армии. Он предоставил солдатам право ношения бород, кое-какие поблажки в получении увольнительных, увеличил солдатские пайки. Он добился введения на вооружение французской армии более современного ружья системы Лебеля. Наконец, он заявил об отказе от оборонительной тактики в будущей войне и о том, что наступление – единственный вид боевых действий, отвечающий французскому духу. Жаждавшие реванша французы увидели в нем свою надежду.
Популярность генерала быстро росла. День национального праздника – 14 июля 1886 года стал его настоящим триумфом. Буланже на параде в Лоншане впервые появился перед толпой парижан. Верхом на прекрасной вороной лошади, с уверенной осанкой и образцовой выправкой, с русой бородкой, в заломленной на затылок треуголкой, украшенной белыми перьями, генерал выглядел эффектным молодцом. Толпа с первого взгляда влюбилась в этого наездника. Вскоре Париж распевал веселую песенку «Возвращаясь с парада», в которой говорилось о том, как, откупорив двенадцать бутылок, некое семейство наблюдало парад: теща любовалась африканскими солдатами, сестра – пожарными, жена – учениками военного училища Сен-Сир. Песенка завершалась словами: «Я же восхищался только нашим бравым генералом Буланже!»
Началась безудержная реклама генерала. Его поклонники ходили с красной гвоздикой в петлице – любимым цветком Буланже. Повсюду замелькали генеральские портреты. Появились новые игральные карты: на тузах красовались изображения Верцингеторига, Жанны д`Арк, Наполеона и Буланже. Повальное, хотя и не очень осмысленное увлечение, как эпидемия, охватило всю страну. Словом, началась одна из тех бонапартистских лихорадок, которые время от времени вспыхивают во Франции вопреки ее несомненным демократическим традициям. Тогда-то и родилось крылатое выражение: Франция, подобно женщине, охотно отдается мужчине, особенно если он военный.
На руку Буланже играл подъем реваншистских чувств. Весной 1887 года резко обострились отношения с бисмарковской Германией. В апреле немцы схватили на границе и насильно увели на германскую территорию французского пограничного чиновника Шнебеле. В воздухе запахло войной, и ее французские поборники испытывали острую потребность в вожде. Буланже с его откровенными реваншистскими намерениями оказался как нельзя более кстати. Проворные куплетисты тут же выразили настроение многих в новой песне: «Можно не бояться никакой опасности, когда наш вождь – Буланже».
Но более трезвые французские политики понимали, что Франция не готова к войне, что война выгодна сейчас только Бисмарку. Неприкрытый реваншизм Буланже оказался преждевременным. Пребывание генерала на посту военного министра служило явным вызовом для воинственных немцев. И вообще непомерно растущая популярность Буланже стала тревожить оппортунистов и радикалов. Поэтому когда в конце мая формируется новый кабинет Рувье, то в нем военным министром стал другой генерал. Буланже решили сплавить из Парижа, где вокруг него подымалось слишком много шума. Правительство назначает его командиром корпуса в Клермон-Ферране.
Но это только подлило масла в огонь. Отъезд генерала из Парижа 8 июля превратился в грандиозную манифестацию. Три часа поезд не мог тронуться с места, тысячи людей заполняли вокзал и железнодорожные пути.
Ну а как же относился ко всей этой истории Жорес? Долгое время он не высказывал никаких суждений о Буланже, внимательно следя за всеми его пируэтами. Но 28 мая 1887 года он впервые выступил по поводу буланжизма в «Депеш де Тулуз», где часто печатались его статьи. Жорес отметил, что в первое время Буланже, будучи военным министром, проявил «либеральное и патриотическое стремление к реформе». Затем генерал превратился в угрозу для демократии. Жорес считал, что Буланже надо противопоставить не хитрую политическую тактику, а прочную своим демократизмом республику. «Опасные моменты в поведении Буланже и в его мировоззрении легко сдержать премьер-министру при помощи своего реального престижа и при поддержке стабильного большинства». Жорес пока еще несколько недооценивал влияние генерала и переоценивал возможности правительства Рувье, республиканская доблесть которого была весьма сомнительной. Во всяком случае, Жорес раньше многих понял опасность буланжизма.
А эта опасность возрастала. Словно по заказу события давали генералу новые шансы приобретать симпатии все большего числа недовольных. Вскоре ему представляется возможность выступать не только патриотом, но и поборником оздоровления и очищения республики. На ее и без того небезупречной репутации в 1887 году появилось новое большое пятно грязи – скандал Вильсона.
«Ax, какое несчастье иметь зятя!» – зазвучал на парижских бульварах припев новой злободневной песенки. Речь шла о весьма известном зяте. О депутате Даниеле Вильсоне, женатом на дочери самого президента Жюля Греви. Рыжебородый, молчаливый, малоподвижный родственник президента мгновенно стал знаменитостью. Еще бы, ведь он сумел превратить в притон мошенников и проходимцев цитадель и символ республики – Елисейский дворец. Здесь Вильсон организовал, по его собственному выражению, бойкую «торговлю жестянками». Так зять президента называл высшие отличия и награды республики. Орден Почетного легиона шел за 40, 50, иногда 100 тысяч золотых франков. Для тех, кто победнее, были Академические пальмы по 15 тысяч франков. Вильсон обделывал и другие выгодные делишки.
Скандал вызвал грандиозный эффект. Парламент дал санкцию на судебное преследование высокопоставленных мошенников. Но президент Греви продолжал твердить, что его зять честнейший человек, и отказывался удалить его из Елисейского дворца.
Возмущение президентом достигло предела. «Фигаро» дошла до того, что на своих страницах называла его «старым мерзавцем». Но старик, привыкший к благам и удобствам Елисейского дворца, упорно не хотел уходить. Возник острейший политический кризис, который никак не удавалось разрешить. Греви все же пришлось подать в отставку. Выборы нового президента оказались очень сложными. Ни Ферри, ни Фрейсине, ни Бриссон не набрали нужного числа голосов. После двух безрезультатных туров голосования Клемансо заявил: «Ну, тогда выберем самого тупого».
Избрали Сади Карно, не имевшего ни известности, ни способностей, но не нажившего себе и врагов. Ему помогли предки: его дед Лазарь Карно был легендарным организатором армий Конвента.
Вся эта жалкая картина коррупции, беспомощности парламентского механизма перед буланжистской авантюрой производила на Жореса удручающее впечатление. Он видел, как ловко используют это буланжисты. Объединившаяся вокруг Буланже удивительно пестрая компания, в которой смешались честно заблуждавшиеся люди с аферистами и проходимцами, с монархистами всех мастей, для которых генерал стал орудием борьбы за монархию, развернула бешеное наступление против республики, используя её столь явно обнаружившиеся пороки.
Буланже начинает штурм парламента. Он выдвигает свою кандидатуру последовательно во многих округах и везде побеждает. Таким образом генерал пытался организовать своеобразный плебисцит. Став депутатом, Буланже потребовал в палате пересмотра конституции. Речь шла в конечном счете о ликвидации парламента и республиканского строя.
Весной 1888 года Жорес занимает совершенно четкую позицию по отношению к буланжизму. Он определяет его в это время как движение, использующее ультрапатриотизм и выдвигающее расплывчатую программу, обещающую что-то каждому из недовольных; движение, являющееся непосредственной угрозой республике и свободе. Жорес раскрывает суть буланжизма, показывает его связь с крайне правыми, которые, как он писал, «сделали из человека на коне не реформатора, а фасад для консерватизма».
В борьбе с буланжизмом более четко кристаллизуются социалистические воззрения Жореса. Некоторые социалисты, осуждая коррупцию, отождествляли ее с республиканским строем. Тем самым они помогали, по существу, Буланже, который давно уже разглагольствовал в том же духе, Жорес в своих статьях более глубоко подходит к делу. Зло не в республике, утверждал Жорес, а в экономической безнравственности безответственного капитализма. Пока общество базируется на частной собственности и эгоизме, политическая жизнь будет неизбежно отражать капиталистическую мораль. Ответ на коррупцию заключается не в отказе от республики или в разоблачении нескольких продажных политиков, а в изменении социальной системы.
Жорес занимал во время буланжистской эпопеи несравненно более правильную позицию, чем многие социалисты. Гэдисты в это время показали себя сектантами и не хотели бороться против Буланже вместе с другими республиканцами, хотя в случае его успеха и ликвидации республиканского строя французское социалистическое движение оказалось бы в крайне неблагоприятных условиях. Более того, некоторые из них, в частности известный марксист Поль Лафарг, предлагали даже совместные действия с буланжистами) считая, что массовое движение за Буланже можно направить к социализму. Энгельс сурово критиковал за это Лафарга.
Однако, выступая против Буланже, Жорес отнюдь не солидаризировался полностью с большинством буржуазных республиканцев, которые пытались ликвидировать буланжизм путем нарушения или ослабления демократии. Для оппортунистов, среди которых Жорес продолжал сидеть в палате депутатов, буланжизм был угрозой их власти. Он разоблачал их пороки. Для Жореса буланжизм неприемлем из-за его лживости и демагогичности, из-за опасности, которую он нес республиканским свободам. Если Жорес и выступал против Буланже формально вместе с оппортунистами, то это уже не означало никакого духовного, политического единства с ними. Он бесповоротно ушел от тех, кто унижал и профанировал республику, компрометируя ее корыстным карьеризмом.
Напуганное очередным успехом Буланже на выборах в Париже в январе 1889 года, правительство Флоке вносит законопроект о замене избирательной системы по спискам реакционным порядком выборов одного кандидата в каждом округе. 11 февраля 1889 года Жорес резко осудил в палате это продиктованное страхом намерение. Любопытно, что среди аргументов в его речи важное место занимала мысль о том, что выборы по округам лишат представительства рабочих-социалистов. Жорес считал, что в момент, когда речь вдет о защите республики, преступно дискредитировать ее антидемократическими мерами. Упомянув об исполнявшемся тогда столетии Великой французской революции, Жорес говорил:
– Неужели гении французской революции исчерпал себя? Неужели среди идей революции вы не найдете таких, которые помогут справиться с нынешними трудными вопросами, с проблемами, стоящими перед вами? Неужели утрачено бессмертное наследие революции, которое может быть опорой для решения всех имеющихся трудности, среди которых мы живем?
По-прежнему депутат Тарна пытается со свойственным ему наивным идеализмом пробудить демократический дух у тех, кому нет до него никакого дела. Неудивительно, что палата осталась глуха и закон о выборах по округам прошел. Ведь с этим законом многие из правых связывали и свои личные выгоды на предстоявших вскоре выборах.
Между тем буланжистское движение, кульминационным пунктом которого был успех на парижских выборах 27 января 1889 года, начинает с этого упущенного генералом момента, когда он действительно имел шанс взять власть, клониться к упадку. Буланже все чаще становится объектом шуток, для которых этот весьма неумный, напыщенный и нагловатый деятель давал достаточно поводов. Чего стоила хотя бы его страсть к лошадям, к опиуму и, конечно, к Маргарите де Бонемен. В одной из газет, к примеру, появляется такое объявление: «Революционер, хорошо разбирающийся в лошадях, ищет место кучера в хорошем доме». В конце концов этот кондотьер с показными замашками якобинца и с нутром монархиста был выбит из седла методом простой полицейской провокации. Ловкий и беспринципный министр внутренних дел Констан распустил слух о предполагаемом аресте Буланже. Генерал струсил и убежал вместе со своей любовницей Маргаритой де Бонемен в Бельгию. Она там вскоре умерла, а через два месяца безутешный влюбленный генерал застрелился на ее могиле. Так закончилось это, по выражению Жореса, «буланжистское недоразумение».
Но для Жореса, как и для Франции, оно прошло далеко не бесследно: итог этой первой крупной политической битвы, в которой он участвовал, заключается в дальнейшем его освобождении от иллюзий буржуазного республиканизма и в укреплении социалистических взглядов. В поступках и словах Жореса времен буланжистской эпопеи виден уже сложившийся характер, чертами которого ясно выступают самостоятельность, принципиальность, интеллектуальная честность. Проще всего было бы присоединиться к одной из группировок, действовавших в этой борьбе. Жорес пошел другим путем. Он терпеливо вырабатывал свое мнение и, основываясь на нем, действовал, и действовал правильно. Еще совсем же будучи марксистом, он тогда под влиянием какого-то чутья поступал правильнее, чем марксисты Гэд и Лафарг.
«Буланжизм скончался, – писал Жорес в ноябре 1889 года, – теперь мы смело сможем продолжать вместе с демократией дело справедливости». Он оптимистически смотрит в будущее. Крах буланжизма, распад монархического движения, поразительная устойчивость республики, растущий авторитет социализма, столь явный на фоне упадка и разложения буржуазного республиканизма, показывали, что в усложняющемся, все более противоречивом жизненном потоке все же существует мощное течение социального прогресса, что, если проложить для него широкий фарватер, убрать плотины и расчистить болотистые заводи, оно способно будет вынести Францию к новым гостеприимным берегам социализма.
Жорес, которого его дядя-адмирал еще недавно называл «утенком», более уверенно ориентируется в политическом болоте буржуазного парламентаризма. Чувство тоскливого одиночества, которое так терзало Жана в парламенте несколько лет назад, кажется, проходит. К концу легислатуры он там не только освоился, но и завоевал определенное положение. Он все чаще встречается с выражением симпатии со стороны коллег, с поощрительными взглядами старых, верных республиканцев. Даже сам Клемансо обращается к нему однажды с просьбой поддержать его кандидатуру на пост председателя палаты. Хотя речи Жореса пока почти не оказывают влияния на исход голосований, они, по признанию многих, поднимают уровень дебатов. Наконец (вот верный признак успеха) ему начинают завидовать, обвиняя его в несуществующих пороках. Из-за назначения его тестя г-на Буа супрефектом в Сен-Пон ему приписывают грех непотизма, семейственности. Как-то Жан со смехом рассказывает одному знакомому:
– Обо мне говорят, что в бесплатном буфете палаты я курю дорогие сигары! Увы! Я вообще не курю. Но я уже опасаюсь делать добродетель из этой слабости.
Часто, возвращаясь из палаты, Жан делает крюк и, смешавшись с толпой, бродит по новой Всемирной выставке, посвященной столетию революции. Недавно построенная Эйфелева башня отнюдь не шокирует его своим индустриализмом, несовместимым, по мнению многих, с обаянием древних соборов Парижа. На выставке Жан радуется и восхищается свидетельствами новых достижений человеческого труда и разума. Он писал в столь милом его сердцу стиле Виктора Гюго:








