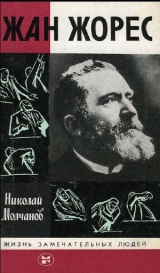
Текст книги "Жан Жорес"
Автор книги: Николай Молчанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
«В скором времени немцы поставят всех их (французов) на настоящее место. Хороша же эта милая французская армия! Это позор, и если бы не материальные соображения, я завтра же покинул бы ее… Наши главные вожди трусы и невежды… Я глубоко убежден, что этот народ (французский) не стоит пули, чтобы убить его, и все эти пакости пресыщенных женщин, которым предаются мужчины, подтверждают мое мнение… Если бы мне сказали, что я умру завтра уланским капитаном, зарубив изрядное число французов, я был бы вполне счастлив… я с наслаждением отправил бы на тот свет тысячу французов… Париж, взятый штурмом и отданный на разграбление сотне тысяч пьяных солдат, – вот моя мечта!»
Пикар сравнил почерк Эстергази со знаменитым бордеро, на основании которого был осужден Дрейфус. Сомнений быть не могло – автор бордеро Эстергази! Значит, Дрейфус осужден несправедливо. Полковник Пикар был такой же реакционер и, кстати, антисемит, как и большинство офицеров генштаба, но честный человек.
Пикар доложил о результатах расследования своему начальнику генералу Гонза. Тот недовольно поморщился.
– Разве вам не все равно, останется этот жид на Чертовом острове или нет?
– Но он невиновен.
– Если вы ничего не скажете, никто ничего не будет знать.
– Генерал, я не унесу эту тайну в могилу.
Пикара сняли с его поста и отправили в Тунис в надежде, что арабская пуля уберет этого строптивого человека. Пикар рассказал правду о деле Дрейфуса одному своему другу. Матье Дрейфус также узнал обо всем и убедился, что автор бордеро Эстергази. Он потребовал предать его суду и начал кампанию против него в печати. Сначала Эстергази испугался, подумал даже о самоубийстве. Но из высоких военных сфер ему дали понять, что опасаться нечего. Ради сохранения своего престижа армия не допустит пересмотра дела Дрейфуса. 11 января 1898 года военный суд полностью оправдал его. Толпа антисемитов восторженно приветствовала Эстергази и несла его на руках.
Но дело еще только начиналось. Бомба взорвалась 13 января 1898 года. Газета Клемансо «Орор» опубликовала письмо Эмиля Золя президенту республики Феликсу Фору, которое вошло в историю под названием: «Я обвиняю». Всемирно известный писатель, издавший уже двадцать романов своих Ругон-Маккаров, достигший вершины славы и благополучия, давно уже мучился сомнениями из-за дела Дрейфуса. Он чувствовал, что дело превращается в знамя реакции и создается угроза всем моральным ценностям французской нации. Он видел, как одурманенные массы в шовинистическом угаре расстаются со столь дорогой его сердцу идеей справедливости. В письме он подробно разобрал ход дела и закончил его такими патетическими заявлениями:
«Я обвиняю полковника Пати дю Клама в том, что он был дьявольским творцом судебной ошибки – хочу думать, что бессознательно – и впоследствии, в течение трех лет защищал свое подлое дело самыми нелепыми и преступными махинациями.
Я обвиняю генерала Мерсье в том, что он был соучастником, может быть, в крайнем случае вследствие малодушия, в одной из самых ужасных несправедливостей, совершенных в наш век.
Я обвиняю генерала Бильо в том, что, имея в руках все доказательства невиновности Дрейфуса, он их скрыл, совершив это преступление против справедливости с политическими целями и с тем, чтобы спасти генеральный штаб.
Я обвиняю генерала Буадефра и генерала Гонза в том, что они участвовали в этом преступлении, – один, по всей вероятности, из-за своего фанатического клерикализма, другой, может быть, из-за сословных предрассудков, которые делают из военного министерства неприкосновенный священный ковчег…
Я обвиняю, наконец, первый военный суд в том, что он незаконно осудил подсудимого на основании документа, оставшегося в тайне; я обвиняю второй военный суд в том, что он по приказу санкционировал эту незаконность и, в свою очередь, совершил преступление, сознательно оправдав виновного.
Я знаю, что, высказывая эти обвинения, я подпадаю под статьи 30 и 31 закона о печати 29 июля 1881 года, карающего за диффамацию. Я сознательно иду на это.
Что касается лиц, которых я обвиняю, то я их не знаю, никогда не видел их, не питаю против них ни злобы, ни ненависти. Они для меня только воплощение и носители социальной несправедливости. Мой поступок является революционным средством, чтобы ускорить взрыв истины и правосудия.
Я питаю только одну страсть – к свету во имя человечества, которое столько страдало и имеет право на счастье. Мой пламенный протест является криком моей души. Пусть же посмеют предать меня суду присяжных, и пусть следствие ведется при полной гласности.
Я жду».
Ждать пришлось недолго. Письмо Золя взбудоражило всю Францию. Повсюду его обсуждали, спорили, из-за него дрались. Дело Дрейфуса стало делом всей Франции. Письмо Золя ускорило раскол страны на два лагеря: сторонников пересмотра дела Дрейфуса – дрейфусаров и противников, шовинистов, оправдывающих махинации генерального штаба, – антидрейфусаров.
Золя оказался пророком, когда он писал в своем письме президенту: «Дело начинается только с сегодняшнего дня, только с сегодняшнего дня отношения определились: с одной стороны, виновные, не желающие, чтобы правда восторжествовала; с другой – люди, которые пожертвуют Жизнью, лишь бы она восторжествовала».
В палате депутатов монархисты и клерикалы рвали и метали, требуя немедленного решения о суде над Золя. Когда кто-то крикнул, что Золя может подождать, граф Альбер де Мен заявил: «Но армия не будет ждать». Решение правительства привлечь Золя к суду поддержало подавляющее большинство депутатов.
Жорес еще до выступления Золя начал тщательно изучать дело Дрейфуса. Он чувствовал, что за ним скрываются какие-то махинации военной клики. В декабре 1897 года его посетил друг Дрейфуса, публицист анархистского толка Бернар Лазар, и принес ему свою брошюру «Правда о деле Дрейфуса». Жорес принял его любезно, но холодно. Его несколько настораживала нервозная, даже истерическая деятельность друзей невинпо осужденного офицера. Для них все дело сводилось к несправедливости по отношению именно к еврею. Не будь Дрейфус евреем, они и пальцем не шевельнули бы в защиту попранной справедливости. Другой участник всех этих событий, Рамен Роллан, писал, что еврейские круги (с которыми Роллан был тогда связан своей женитьбой), «еще не успев получить никаких доказательств, с уверенностью и раздражением подняла крик о невиновности своего соплеменника, о низости главного штаба и властей, осудивших Дрейфуса. Будь они даже сто раз правы (а довольно было одного раза, лишь бы это имело разумное обоснование!), они могли вызвать отвращение к правому делу самим неистовством, которое в него привносилось».
Кстати, евреи – буржуа, банкиры, коммерсанты, которые в разгар дела Дрейфуса давали деньги на кампанию в пользу пересмотра дела, прекратили поддержку дрейфусаров – демократов и социалистов, когда Дрейфуса оправдали. Их меньше всего интересовала защита демократии и республики, идеалов справедливости и права. Они вдохновлялись лишь еврейским национализмом. Поэтому осторожность Жореса легко понять.
Жорес тщательно изучает все, что касалось дела Дрейфуса. Письмо Золя подтвердило многие из тех выводов, к который он уже пришел. Жорес решил, что дальше медлить нельзя, надо действовать.
13 января депутаты-социалисты собрались в одном из малых залов Бурбонского дворца, чтобы определить свою линию по отношению к делу Дрейфуса. Сразу выявились два лагеря. Умеренные, как их теперь называли, во главе с Мильераном, Вивиани, Журдом, Лави. С другой стороны, левая, революционная социалистическая фракция во главе с Гэдом, Жоресом, Вайяном.
– Это опасный вопрос, – твердил Мильеран, – нам не следует вмешиваться. Если бы у нас был год ила два до всеобщих выборов, мы могли бы рассмотреть его по существу и решить, исходя из интересов партии, вмешиваться или нет. Но ведь мы накануне избирательной кампании, и вмешательство в это темное и опасное дело может подорвать наши шансы на выборах.
Жорес напомнил о письме Золя.
– Но Золя не является социалистом, – отвечали умеренные, – Золя прежде всего буржуа. Разве может социалистическая партия слепо следовать за буржуазным писателем?
Гэд, буквально задыхаясь от ярости, бросился к окну и, распахнув его, гневно воскликнул:
– Письмо Золя – это самый крупный революционный акт нашей эпохи. Для вас главное – сохранить ваши места в парламенте! Но если использование пролетариатом всеобщего избирательного права превратится лишь в вопрос переизбрания, в вопрос сохранения мандатов, то лучше вообще отказаться от парламентской тактики и перейти исключительно к революционным действиям!
Жорес с одобрением слушал Гэда; то, что он говорил, совпадало с его собственными мыслями. Он взял слово и долго, настойчиво говорил о том, что, каковы бы ни были опасности борьбы в связи с выборами, еще большей опасностью для социалистов может оказаться отказ от основных принципов социализма. Социалистическая партия должна вмешаться, ибо ее призвание состоит в том, чтобы быть совестью нации. Ее моральный авторитет жестоко пострадает, если она уйдет в сторону от решения вопроса, оказавшегося в центре всей жизни Франции. Жорес, как всегда, выдвигал на первый план моральные аспекты вопроса, даже несколько преувеличивал их значение по сравнению с конкретными политическими задачами.
– Бывают моменты, – говорил он, – когда в интересах самого пролетариата помешать окончательной интеллектуальной и моральной деградации буржуазии. Когда какая-то часть буржуазии выступает против всех сил реакции, когда она пытается восстановить справедливость и раскрыть правду, то долг пролетариата не оставаться нейтральным, а идти на стороне страдающей истины, ответить на призыв человечества.
В конце концов группа договорилась о разработке общего манифеста. Гэд был настроен мрачно и испытывал серьезные сомнения. Казалось, что предвыборные соображения Мильерана и его друзей заставили его задуматься. С глубоким пессимизмом он говорил Жоресу о разгуле националистических страстей:
– Когда придет день нашего торжества, что можем мы сделать, что смогут сделать социалисты при столь низко павшем человечестве! Мы придем слишком поздно, людской материал сгниет к тому времени, когда настанет наш черед строить свой дом.
Манифест социалистов в основном был составлен Гэдом и Вайяном. Но и Жорес хотя бы частично внес в него свои мысли.
Манифест рассматривал дело Дрейфуса лишь как борьбу двух соперничающих фракций одного класса буржуазии, оппортунистов и клерикалов. Они спорят из-за прибылей, из-за власти. Манифест предупреждал, что клерикалы и монархисты хотят сделать антисемитизм орудием установления военной власти над республикой. В этом главная опасность политического положения, становящаяся с каждым днем все серьезнее.
«С другой стороны, – говорилось в манифесте, – еврейские капиталисты после всех скандалов, которые их дискредитировали, нуждаются, чтобы сохранить свою часть добычи, в некоторой реабилитации. В связи с одним из их представителей они хотят доказать, что была совершена юридическая ошибка и грубое нарушение общественного права. Они стремятся таким образом путем реабилитации одного из представителей своего класса и в согласии со своими оппортунистическими союзниками добиться косвенной реабилитации всей еврейской и панамистской группы. Они хотели бы в этом фонтане смыть всю грязь Израиля. Точно так же, как клерикалы пытаются прикрыть патриотическим и национальным рвением свои подлые вожделения, оппортунисты и еврейство стремятся использовать политическое и моральное обновление, обращаясь к священному праву защиты, к законным гарантиям для каждого человека».
Таким образом, манифест социалистов в какой-то мере отождествлял лагерь дрейфусаров с евреями-панамистами. В нем не учитывалось, что в лагерь дрейфусаров входило много интеллигентов-демократов, людей, которых вдохновляли те же идеалы, которые побудили выступить Золя. Он зачеркивал и выступления многих рабочих-социалистов. Главное же, в нем не говорилось, что дело в конце концов не в Дрейфусе, а в защите республики…
Правда, в манифест попало близкое взглядам Жореса положение о том, что «пролетариат, обязанный одновременно защищать свои высшие классовые интересы и наследство человеческой цивилизации, которую он завтра возглавит, не должен быть равнодушным к несправедливости, даже если от нее страдает представитель враждебного класса».
В манифесте содержались правильные оценки отдельных сторон политического положения. Но в целом он не был до конца последовательным и точным. Из слишком схематической и упрощенной констатации того, что «в конвульсивной борьбе двух соперничающих фракций буржуазии все лицемерно и все лживо», вытекал и обрекающий на бездействие лозунг: «Пролетарии, не присоединяйтесь ни к одному из лагерей в этой буржуазной гражданской войне!»
Удивительно, что Гэд, выступавший вначале даже более решительно, чем Жорес, быстро отказался от своей позиции, а Жорес согласился с примитивной трактовкой дела в манифесте. И все же это можно объяснить. На Гэда подействовали, с одной стороны, доводы Мильерана, с другой – нажим некоторых его влиятельных соратников вроде Фортена, мыслившего еще более догматически, чем Гэд. Что касается Жореса, то он крайне дорожил тем единством, которое установилось среди социалистов в предшествующие годы. Ему очень не хотелось порывать с Гэдом и Вайяном, и он скрепя сердце поддержал манифест, надеясь, что потом ему удастся поправить линию социалистов.
Гэдисты повторяли ошибки времен буланжизма. Но в новой обстановке они оказались более серьезными и опасными. Собственно, отсюда и началась та линия, которую Французская рабочая партия вела все три года политического кризиса, вызванного делом Дрейфуса, когда она упустила такие возможности!
Жорес был непричастен к этому странному курсу. В отличие от кичившегося своим ортодоксальным марксизмом Гэда Жорес, не будучи столь правоверным, говорил и действовал несравненно разумнее и эффективнее, хотя, конечно, можно и у него найти непоследовательность, колебания, срывы. Да и стоит ли подгонять его личность к какому-то идеальному стандарту? Ведь задача не в том, чтобы фантазировать на тему о том, что он мог бы сделать, а в восстановлении его облика и деятельности такими, какими они были в действительности.
22 января 1898 года Жорес в первый раз выступает в парламенте непосредственно по делу Дрейфуса. Поводом явилось одно заявление тогдашнего премьер-министра Медина. Этот маленький, седой, невзрачный человечек, известный своим коварством и консерватизмом, изобрел и постоянно применял чудесный способ решения трудных проблем: он объявлял их несуществующими. И на этот раз он сказал 4 декабря: «Дела Дрейфуса не существует».
Заседание обещало быть интересным. Места для журналистов, дипломатов, гостей заполнены до отказа. Депутаты тоже все в сборе. У многих в руках последний номер газеты «Лантерн», издававшейся Аристидом Брианом. В ней напечатана статья Жореса, написанная в виде обращения к солдатам. Статья бичующая, резкая. Таким тоном еще никто не осмеливался говорить об армии, об этой национальной святыне. Он пишет о том, что настал момент оздоровить верхушку армии, используя республиканские законы. Необходимо отстранить генералов, мечтающих использовать солдат для ликвидации республики, уничтожить социалистическое движение с помощью диктатуры и потопить в крови великую мечту о справедливости. Статья вызвала яростное негодование шовинистов, милитаристов и клерикалов.
Но сначала выступает с интерпелляцией потомок известного палача парижских рабочих, антидрейфусар Кавеньяк. Он недоволен заявлением премьера о том, что дела Дрейфуса не существует, и требует объяснять, почему правительство не пресекает скрытую кампанию по пересмотру дела Дрейфуса, Он опасается, что процесс Золя может фактически оказаться таким пересмотром. Председатель совета министров спешит рассеять опасения уважаемого депутата. Он осуждает деятельность защитников Дрейфуса. Правительство не допустит превращения процесса Золя в пересмотр дела Дрейфуса.
– Если мы не можем воспрепятствовать возникновению скандалов, то мы не допустим беспорядка!
– Это ваши друзья создают беспорядок, – бросает с места Жорес.
– Вы осмеливаетесь так говорить! – взрывается маленький старичок. – Это вы, социалисты, призываете к революции! В статье, появившейся сегодня утром, г-н Жорес подбивает солдат на бунт против их командиров! Подобные выходки доставляют огромное удовлетворение врагам Франции!
Внезапно успокоившись, премьер-министр заверяет Кавеньяка, что правительство сделает все, чтобы преодолеть этот кризис.
На трибуне снова поясняется высокая тощая фигура Кавеньяка, который выражает удовлетворение разъяснениями председателя совета министров и забирает обратно свою интерпелляцию. Стандартная сцена парламентского спектакля разыграна. Но сейчас начинается нечто совсем иное. На трибуну поднимается Жорес.
Он чувствует лютую враждебность аудитории, которая находится под непосредственным впечатлением его дерзкой статьи. Жорес весь напряжен, как стальная пружина. Он знает, что сейчас наступит жестокий бой, что на него низвергнется лавина ненависти всех этих монархистов, клерикалов в реакционеров. Но ничто не помешает ему сказать то, что оп давно хотел сказам, ничто и никто, ни враги, ни тем более друзья.
– Меня удивляет, что мне приходится напоминать господину председателю совета министров о том, что беспорядок готовят не те, которые вовремя указывают на совершенные ошибки!
Сразу несколько депутатов на правых скамьях вскакивают с мест и, размахивая номером «Лантерн», кричат:
– Вон он! Вот где беспорядок!
Брань делает Жореса еще спокойнее. Но это жестокое спокойствие, после которого он внезапно как бы обжигает это буйное стадо ударом кнута.
– Беспорядок? Он раньше воплощался в придворных генералах, которым покровительствовала империя; сейчас он воплощается в иезуитствующих генералах, оказавшихся под покровительством республики!
– Господин Жорес, – вмешивается Мелин, – я прошу вас следить за вашими выражениями. Ваш талант не нуждается в резких выражениях, и я обязан буду вас прервать, если вы будете продолжать в таком же духе.
Жорес продолжает более спокойно, но и более язвительно. Он с ироническим сочувствием говорит о трудном положении премьер-министра, ибо когда он осуждает кампанию, подрывающую решение военного суда, то он осуждает часть своего собственного парламентского большинства, ибо от него исходили все беззакония, лежащие в, основе этих решений. Когда же он осуждает сектантскую ненависть и религиозный фанатизм, разжигаемые на уличных митингах, он осуждает другую часть своего большинства. Ведь это именно те, кто поддерживает правительство, оглашают улицы криками «Смерть евреям!». Правительство, выступая против беспорядков, оказалось в странном положении. Ему невозможно произнести в палате ни одного слова, чтобы не нанести удар в спину и не заклеймить тех, голосам которых оно обязано своим существованием.
Депутаты, сидящие на правых скамьях, продолжают шуметь. Но голос оратора заглушить не удается. Он отчетливо слышен в самых дальних уголках зала, не нуждаясь в помощи современных микрофонов и усилителей, которых тогда еще не знали. В те времена оратору требовался настоящий голос. И он был у Жореса.
– Знаете ли вы, из-за чего мы сейчас так страдаем?
– Из-за вас! – кричат справа.
– Мы смертельно страдаем с тех пор, как началось это дело, от полумер, от умолчаний, от экивоков, от лжи, от подлости.
И, покрывая своим голосом вновь раздавшийся справа сильный шум, он, отчеканивая каждое слово, повторяет:
– Да, от экивоков, от лжи, от подлости!
Опять раздаются яростные вопли, но Жорес уверенно продолжает:
– Ложь и подлость проявляются прежде всего в том, как вы преследуете Золя!
И он показывает низость правительства, которое решило преследовать Золя по суду лишь за одну часть его письма, ибо разбор в целом оказался бы крайне опасным для правительства и антидрейфусаров, так как привел бы к пересмотру дела Дрейфуса. Но вот речь Жореса прерывает крик одного из самых отъявленных реакционеров палаты, графа де Берни:
– Вы выступаете от синдиката!
– Что вы сказали, господин де Берни? – переспрашивает Жорес.
– Я сказал, что вы должны быть представителем синдиката еврейских банкиров, что вы, вероятно, служите адвокатом этого синдиката!
– Господин де Берни, – отвечает с трибуны Жорес, – вы негодяй и подлец!
Эти слова оказались сигналом для всеобщей драки. Граф де Берни сорвался с места и устремился к Жоресу. Но на пути его перехватил социалист Жеро-Ришар и отвесил ему солидный удар. Но граф, оторвавшись от него, взлетел на трибуну и дважды ударил Жореса по спине. В разных концах зала одновременно завязались рукопашные схватки, удары так и сыпались. Друзья щуплого Медина с трудом защищали председателя совета министров от кулаков дюжего радикал-социалиста. Попытки парламентской охраны разнять дерущихся депутатов не достигали успеха. Председатель палаты Бриссон приказал охране очистить зал от депутатов, но бой продолжался в кулуарах, откуда один социалист запустил чернильницей в голову графа де Берни… Драка несколько дней не затихала уже в другой форме на страницах газет, обменивавшихся самыми непарламентскими эпитетами. Во всех кабаках Франции избиратели с жаром обсуждали боевые качества депутатов, в свою очередь, прибегая к кулачным аргументам.
К счастью, на этот раз Жорес был избавлен от необходимости дуэли. Кодекс «чести» не позволял ему послать вызов человеку, подло напавшему на него сзади.
Зачем Жорес, испытывавший органическое отвращение к любым проявлением насилия, говорил столь резко и вызвал драку? Может быть, он сам не ожидал такого эффекта? Вряд ли, поскольку он уже давно ощущал небывалый накал страстей. Смысл его поведения в другом: он в этот момент делал все, чтобы втянуть социалистов в политическую борьбу вокруг дела Дрейфуса, чтобы вывести их из пассивной роли, подрывавшей авторитет социализма во Франции. Логика борьбы могла увлечь, захватить его друзей и толкнуть их на правильный путь. Казалось, что полуинстинктивные, полусознательные действия Жореса достигают цели. Как раз вскоре после этой схватки в Бурбонском дворце Жюль Гэд сделал ему знаменательное признание:
– Знаете, Жорес, за что я вас люблю? За то, что за словами у вас всегда следуют действия!
Совсем иное впечатление произвела речь Жореса и ее последствия на умеренных социалистов, не считавшихся ни с чем, кроме карьеристских соображений, связанных с предстоявшими вскоре выборами. На другой день Жорес встретился с Мильераном. Этот человек, с его подстриженными бобриком волосами и маленькими черными усиками, всегда производящий впечатление холодности, сказал ему раздраженно:
– Долго ли вы будете продолжать, Жорес? Вы нас погубите. Ведь из-за вас избиратели отвернутся от нас и проголосуют за других!
Жорес понимал, что опасность поражения на выборах грозит прежде всего ему самому. Но личные интересы никогда не имели для него значения по сравнению с интересами социалистического движения, с теми идеями, которые определяли всю его жизнь. Он продолжает борьбу. 12 февраля Жорес выступает свидетелем на процессе Золя. Он произнес большую речь. Жорес разоблачил преступления генерального штаба, показал благородство выступления великого писателя в защиту справедливости. Разумеется, суд, находившийся под давлением могущественных сил, все равно осудил Золя, приговорив его к году тюрьмы и к огромному денежному штрафу, Жорес говорил для более широкой аудитории, он обращался к стране, призывая ее выступить против опасного заговора милитаристов и шовинистов. Именно здесь, во Дворце правосудия, он ощутил опасность и размеры этого заговора. Вокруг здания суда бесновалась толпа в несколько десятков тысяч человек, охваченных антисемитской истерией. «Да здравствует армия! Долой Золя! Смерть евреям!» – раздавались непрерывные крики.
Вернувшись из суда в палату, Жорес говорил окружавшим его депутатам в кулуарах:
– Никогда республика не знала подобной угрозы: если генералам будет предоставлена свобода действий, не останется больше ни республиканцев, ни социалистов!
Теперь Жорес окончательно убедился в невиновности Дрейфуса. Борьбу за пересмотр его дела он считал совершенно необходимой задачей социалистов. Он настойчиво доказывал своим социалистическим друзьям, что история не простит социалистам их пассивности, что она может дорого обойтись им. Это были тяжелые, длительные и безуспешные для Жореса споры.
Ведя борьбу за пересмотр дела Дрейфуса, Жорес рассчитывал, что сама логика этой борьбы сблизит с социализмом многих интеллигентов. Но их оказалось очень мало. Позднее он выскажет свое разочарование таким исходам.
Как-то весной 1898 года он шел из дома в палату по бульвару Сен-Жермен. Его провожали двое недавних студентов Эколь Нормаль, расспрашивавших о ходе борьбы вокруг «дела», о позиции социалистов, о причинах их отказа активно поддержать дрейфусаров. Совершенно неожиданно он рассказал им о том, что его так мучило:
– Не думайте, что попытки вовлечь социалистическую группу в борьбу приятны и легки для меня. Вы не можете себе вообразить, как настойчиво я этого добиваюсь. Моя деятельность на заседаниях палаты, о которой вы знаете по газетам, ничто но сравнению с моей работой на собраниях группы. С врагами и противниками ив так уж трудно. Другое дело – друзья. Вы не можете представить, до какой степени я измучен. Они готовы сожрать меня, ведь все они боятся, что их не переизберут. Они отрывают полы моего пиджака, чтобы помешать мне подняться на трибуну, я так измучен этими распрями, так опустошен. А на другой день, когда я выступаю против этой подлой и враждебной палаты, я чувствую себя так, как будто тысячи иголок впиваются мне в мозг. Мне кажется, что я упаду от боли. Я не знаю, хватит ли у меня сил выдержать до конца легислатуры…
Приближались выборы. Социалисты вновь выдвинули его кандидатуру. В конце апреля Жорес приехал в Кармо. Уже но дороге с вокзала в гостиницу его внимание привлекла афиша, на которой он увидел свое имя. Остановившись, он внимательно прочитал ее. «Жорес за работой!» – гласил заголовок. Затем следовал такой текст:
«Крестьяне! Он хочет отобрать вашу землю, ваши дома, ваши хозяйства в пользу таких же тунеядцев, как он сам!
Коммерсанты! Он разжигает забастовки, которые вас разоряют. Шахтеры! Возбуждая недоверие к вашим хозяевам, он стремится помешать тому, чтобы ваши дети получили работу! Деньги ваших профсоюзов идут на оплату его избирательной кампании.
Стекольщики! Он обрекал вас на голод в Рив-де-Жьере, он обрек вас на голод в Кармо, создав конкурирующий завод в Альби.
Патриоты! Чтобы лучше подготовить иностранное вторжение, он проповедует солдатам недисциплинированность и ненависть к командирам. Преданный синдикату безродных евреев, он защищал Золя, который выступал за предателя Дрейфуса.
Пробил час расплаты… Долой Жореса!»
Казалось, что Жоресу пора бы привыкнуть к злобной клевете, которую направляли против него политические противники. Здравый смысл подсказывал необходимость проявлять спокойное презрение к лживым нападкам. Но его собственная беспредельная правдивость, искренность не давали ему возможности понять, как люди могут пасть столь низко, И всегда он, с трудом сохраняя внешнюю невозмутимость, тяжело переживал оскорбления. Он и сейчас с содроганием, отчаянием стоял перед этой гнусной афишей, хотя она не должна была быть для него неожиданностью.
Год назад он приехал в Кармо для встречи с избирателями. Его сопровождала группа депутатов-социалистов. На вокзале их встретили друзья, местные социалисты во главе с неутомимым Кальвиньяком, много шахтеров и стекольщиков. Отсюда они направились к помещению профсоюзного центра, где Жорес должен был выступить с речью. На всем пути в каждом окне их ждали люди, нанятые маркизом Солажем и Рессегье. И тот и другой горели жаждой реванша. Один не мог забыть, что Жорес занял его место в палате, другой – историю создания стекольного завода в Альби. Они не пожалели денег. На головы участников процессии, сопровождавшей Жореса, полетели гнилые овощи, картофельные очистки, тухлые яйца, все потемнело от тучи золы, сбрасываемой на социалистов. Это сопровождалось дикими криками: «Жорес-нищета», «Жорес-позор!», «Жорес-разоритель!» Жорес оставался спокойным, продолжая этот крестный путь. Его спутники запомнили произнесенную им в тот момент фразу:
– Оставьте их; они забрасывают нас грязью, но позже они покроют нас цветами!
Жоресу в тот раз так и не удалось произнести речь перед избирателями. Люди маркиза спровоцировали в зале драку, и полиция удалила оттуда всех. В то время местная реакция направляла против Жореса недовольство многих кармозинцев строительством стекольного завода в Альби. Позиция Жореса в деле Дрейфуса использовалась для разжигания новой волны ненависти против него.
В отличие от предыдущих избирательных кампаний местные реакционеры пользовались небывало активной поддержкой Парижа. Там уже давно поняли, какую опасность представлял собой Жорес в парламенте. Министр внутренних дел, уже известный нам Луи Барту, лично занимался избирательным округом Жореса, как, впрочем, и Гэда, который баллотировался снова в Рубэ. Один из виднейших политических деятелей оппортунистов, Вальдек-Руссо, явился в Кармо, чтобы помочь коалиции, враждебной Жоресу. Для «республиканцев» из Парижа монархист маркиз Солаж был гораздо предпочтительнее Жореса.
Маркиз Солаж и Рессегье на этот раз не считали нужным хотя бы формально соблюдать законы. Давление на избирателей приобрело небывало скандальные формы. Причем хозяева Кармо уже несколько лет вели подготовку к выборам.
Местные социалисты самоотверженно шли к избирателям, агитируя за Жореса. Но повсюду они слышали в ответ одно и то же:
– Мы вынуждены голосовать за маркиза, чтобы иметь работу. Конечно, хорошо быть социалистом, но ведь надо же есть!..
– Мы получим работу на шахте, если маркиз будет депутатом. А если нет, наше дело плохо…
– Я получаю три с половиной франка в день, но если я проголосую за маркиза, то мне будут платить четыре семьдесят…
– Что делать? Надо голосовать за хлеб…
Главный тактический прием противников Жореса сводился к тому, чтобы любой ценой не дать ему говорить; они хорошо знали силу слова социалистического оратора. Поэтому на каждом избирательном собрании неизменно находилась группа людей, подымавших невероятный шум и крики. В некоторых деревнях кюре приказывали во время собрания непрерывно бить в колокола, чтобы заглушить голос Жореса.








