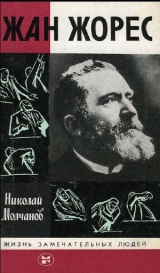
Текст книги "Жан Жорес"
Автор книги: Николай Молчанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
Нерешительность вызывалась неосведомленностью. Конечно, Жорес уже был человеком большой культуры и разносторонних знаний. Но они сочетались с полнейшим невежеством в важнейших вопросах политической действительности. Его мировоззрение, приобретенное в Эколь Нормаль, было слишком книжным и отвлеченным. Собственно, в тот момент, когда Жорес вступил в политику, он знал только две вещи: республику, с одной стороны, и клерикально-монархическую реакцию – с другой. Ему были неизвестны даже названия различных социалистических организаций, которые уже объявили войну буржуазной республике.
А между тем молодому депутату Тарна надо принимать политические решения. Прежде всего: где ему сидеть в палате? И это был вопрос не простого удобства, а политики, поскольку в амфитеатре французского парламента депутаты рассаживаются по политической принадлежности. Линия от реакции к прогрессу проходит от правой стороны зала к левой. Сам Жорес называл себя в то время свободным республиканцем, не примыкающим ни к одной группе. И однако он сел чуть левее центра, среди оппортунистов, рядом с Жюлем Ферри. Это решение определялось тем выводом, который сделал Жорес из итогов выборов. Возросшая опасность со стороны клерикалов и монархистов требовала усиления тех, кто боролся против них. Для Жореса это были наследники Гамбетты, то есть Ферри и его сторонники. Поэтому он и оказался среди оппортунистов. Но характерно, что Жорес с его ораторским талантом, с его темпераментом, толкавшим его во всякую драку, более года так ни разу и не поднялся к вожделенной трибуне.
Он молчал, но не было депутата, который бы так напряженно, не пропуская ни одного заседания и ни одного слова, слушал бы и смотрел все, что происходило в амфитеатре и в кулуарах. Возбужденный новым спектаклем, он пытался проникнуть в его сокровенный смысл. Не имея представления о парламентских нравах, он постигал эту новую и пока непонятную для него среду. Он видел депутатов, которые зевали, скучали, занимались личными делами на заседаниях палаты, проявляя скептически-пренебрежительное внимание к трибуне. Неужели, думал он, это и есть представители французского народа, призванные решать судьбу Франции?
Конечно, особенно интересовала его позиция республиканцев-оппортунистов, С первого дня парламентской сессии он ожидал от них какого-либо решительного действия для сплочения республиканцев перед лицом усилившихся монархистов. Однако он видел, что лидеры оппортунистов с каким-то презрением и горечью смотрели на расколотое большинство, которым они уже не управляли. Жюль Ферри молчал, выжидая распада сил, мешавших его возвращению к власти, замкнувшись в обиде государственного деятеля, потерпевшего поражение. Но разве неудача в личной карьере дает ему право забыть об интересах республики? Жоресу это казалось пока непонятным.
Он с удивлением обнаружил, что безвестный молодой депутат из Лангедока представляет интерес для самого великого Ферри. который при всем своем наглом высокомерии снисходит до любезных бесед с ним. Не зная еще законов парламентской арифметики, он не представлял себе, что значит один лишний голос даже для крупного политического деятеля. Между прочим, ему не пришла в голову мысль о тех огромных возможностях продвижения к власти, почету, деньгам, которые открылись теперь перед ним. И если бы это был не наш Жорес, а один из молодых выскочек, немедленно хватающих судьбу за хвост, то была бы сделана еще одна «удачная» карьера. Но лишенный тщеславия и корыстных побуждений, Жорес считал просто немыслимым такой исход его вторжения в политику. Полный идеалистических стремлений и надежд, волнуемый тревожными вопросами, которые совершенно не касались его лично, он шел иным, возвышенным путем. Если же он шел медленно, робко, спотыкаясь, то лишь оттого, что жизнь пока не помогала ему понять истины, которые откроются для него позже. Но он настойчиво стремится постичь их. Однажды он прямо заговорил с Ферри о том, что волновало его больше всего.
– Какова цель вашей политики? В чем ваш идеал, г-н Ферри, ваша концепция общественного устройства?
– Моя цель состоит в организации общества без бога и короля, – отвечал бывший премьер.
– Но если вы добавите «без хозяина», то это будет полная формула социализма.
– Социализм? – резко прервал Ферри. – Химера, нелепая мечта! Эта чудовищная концепция противоречит всем глубочайшим инстинктам человеческой натуры. Это беспочвенная и опасная демагогия, против которой надо бороться без всякого снисхождения…
Жорес молчал, стараясь понять своего многоопытного собеседника, в которого он так верил. В последнее время его иллюзии, правда, начали рассеиваться. Он с тревогой наблюдал, как оппортунисты ничего не делают для объединения республиканских сил, чтобы и дальше совершенствовать республику. Но Жорес еще не понимал классовой природы Ферри и его единомышленников. Он пытался объяснить их поведение усталостью, упадком, нерешительностью, личными обидами, не видя коренных причин все более откровенного консерватизма прежних столь энергичных республиканцев.
Естественным было бы обращение Жореса к левому радикализму и его блестящему лидеру Жоржу Клемансо. Жорес внимательно присматривался к этому не только политическому, но и светскому льву, о котором частенько упоминалось в светской хронике бульварных газет. Молодого депутата из Тарна обескураживала нагловатая элегантность Клемансо, его бретерская манера ходить в цилиндре набекрень, раскачиваясь и быстро вращая тросточкой. Он сурово осуждал нападки Клемансо на Ферри, ибо видел в них причину углубления раскола республиканцев, их ослабления.
В первые дни пребывания в палате Жорес оказался свидетелем любопытного диалога. Депутат-монархист Ламарзель с притворно издевательской любезностью говорил лидеру радикалов:
– Ах, г-н Клемансо, как мы вам признательны! Ведь в предвыборной кампании, чтобы добиться победы, нам достаточно было читать избирателям ваши речи о Тонкине!
– Возможно. – отвечал с досадой Клемансо, – но вы не читали их выводов…
Жорес подумал, что монархист попал в точку; радикалы, нападая на Ферри, в конечном счете помогали правым. А вскоре ему пришлось невольно услышать разговор, показавший еще и неискренность этих нападок.
– Если мы возьмем власть, – спрашивал Клемансо своего коллегу радикала Перрена, – уведете ли вы наши войска из Тонкина?
– Да, конечно. Надо только при этом обеспечить их безопасность…
– Ну а я так не поступил бы. Теперь это уже невозможно.
Оказывается, в глубине души радикалы разделяли политику Ферри. Впрочем, понадобилось не так много времени, чтобы они совершенно открыто выступили не менее яростными колонизаторами. Жорес чувствовал, что радикально-социалистическая фразеология Клемансо никогда не выходит за рамки сугубо буржуазной политики. Решительная защита буржуазного строя была главной целью для столь революционного на словах легендарного сокрушителя кабинетов. И поэтому, хотя иллюзии Жореса в отношении оппортунистов остались в прошлом, он не пошел к радикалам.
Но где же был тот политический маяк, на который ориентировался молодой Жорес? Он пока не находил его, хотя настойчиво вглядывался в смутную линию политического горизонта.
Он не спускал глаз с депутатов-социалистов: бывшего коммунара Камелина, пылкого поэта Кловиса Юга, старого шахтера Бали, интеллигента-гэдиста Дюк-Керси и других. Их было мало тогда в палате, но голоса их звучали громко и резко. И Жорес все чаше замечал, что их взгляды, требования, лозунги справедливы. Туманные социалистические симпатии влекли его к ним, он чувствовал желание присоединиться к социалистам. Но многое его смущало, он еще совсем не представлял себе практических путей достижения социалистического идеала. Однажды он спросил Дюк-Керси:
– Что вы будете делать на другой день после победы над буржуазией?
– Это зависит от степени экономической эволюции, которой достигнет общество, когда мы возьмем власть, – с некоторым пренебрежением сухо ответил Дюк-Керси, считая, видимо, вопрос Жореса проявлением праздного любопытства буржуа. Безупречно ортодоксальная формула показалась Жоресу слишком неопределенной и абстрактной.
Но социализм напоминал о себе непрерывно и в самой конкретной форме. 26 января 1886 года забастовали три тысячи шахтеров Деказвилля. Администрация шахт, не довольствуясь жирными плодами чудовищной эксплуатации, начала грабить рабочих новым способом, заставляя их приобретать в счет зарплаты самые дрянные продукты и товары по непомерным ценам в заводских лавках. На руки шахтеры получали жалкие гроши. К помощнику директора Ватрену явилась их делегация. Он грубо отказался разговаривать с ними. Отчаявшиеся шахтеры набросились на него с кулаками, а потом выбросили в окно. Толпа добила Ватрена.
11 февраля депутаты-социалисты выступили с интерпелляцией, требуя ограничить произвол владельцев шахт. Жорес с его идеалами абстрактного гуманизма ожидал прежде всего осуждения убийства. И вот на трибуне Бали, сам бывший рудокоп. Правые встретили его грубыми насмешками: социалист читал свою речь по заранее написанному тексту. Он спокойно переждал шум и, отрываясь от бумаги, твердо и резко заявил:
– Да, я читаю. Но вы, если бы вы, как я, проработали восемнадцать лет в шахте, вы не смогли бы даже читать!
– Да, убит один человек, – продолжал Бали. – Убит тот, кто сам вызвал ненависть рабочих… Его законно ненавидели, он морил голодом шахтеров, он играл гнусную роль…
– Не смейте оскорблять жертву, не топчите мертвых! – истерически взрывается монархист Поль де Кассаньяк.
– Вы протестуете против моих слов. Но почему вы молчали, когда угольная компания безжалостно убивала рабочих за то, что они выступали против закона, обрекавшего их на голодную смерть? Почему никто из вас не осудил это преступление?
Теперь Бали, не обращая внимания на рев правых, громко продолжает читать свою речь.
– Вы утверждаете, что рабочие не имели права сами вершить суд. Это верно при условии, что существует подлинное правосудие. Но разве г-н министр юстиции собирается преследовать лихоимство Ватрена? Ах, нет? Ну тогда надо было предоставить все народному правосудию.
Оратора прерывает взрыв яростных криков правой, где собрались владельцы заводов, финансисты, адвокаты и прочие буржуа, к которым на этот раз дружно примкнули монархисты всех мастей. Цепко охватив трибуну широко расставленными руками, не мигая, шахтер-депутат смотрит на это беснующееся скопище. Резким порывом над амфитеатром Бурбонского дворца как бы пронесся дух классовой борьбы буржуазии и пролетариата.
– …Да, пусть народ вершит правосудие. Разве 14 июля 1789 года не является примером справедливого возмездия тиранам и тем, кто богатеет на голоде народа? Тогда их головы носили на остриях пик, и это не помешало палате депутатов совсем недавно объявить 14 июля национальным праздником!
Бали спускается с трибуны. Аплодируют только социалисты.
– Их всего трое, – раздается саркастический возглас справа.
– Ничего, мы скоро расплодимся! – звонким голосом бросает в ответ поэт-социалист Кловис Юг. Это обещание осуществляется удивительно быстро. Как раз в момент обсуждения стачки в Деказвилле в палате образовалась, отделившись от радикалов, самостоятельная группа социалистов из восемнадцати депутатов.
Но Жорес остается сидеть на скамьях левого центра. Его слабые социалистические симпатии отступили перед убеждениями мелкобуржуазного интеллигента-республиканца. Когда он слушал речь Бали, то испытывал тягостное раздвоение чувств: страдания шахтеров Деказвилля заставляли его сердце сжиматься от боли, отказ осудить убийство Ватрена шокировал и возмущал Жореса. Он осудил «бесполезную и злобную», по его мнению, речь Бали и говорил, что социалистическое преобразование общества не должно сопровождаться раздуванием варварской ненависти и оправданием убийств.
Буржуазное большинство палаты отвергло резолюцию социалистов по поводу Деказвилля. Жорес тоже голосовал против них. Он не понял смысла стачки в Деказвилле, обозначавшей важный рубеж в истории французского социализма, не почувствовал тот толчок, который дала рабочему движению эта драма.
Правда, весной 1886 года Жан поглощен иными заботами. Он женится. Как мы помним, богатые родители Луизы Буа решили подождать упрочения положения жениха. И вот после победы Жана на выборах уже знакомая нам сваха мадам Депла однажды пригласила мадам и мадемуазель Буа в свое имение в Лоране. Дамы, поговорив о модах и светских новостях, дошли до парламента.
– Поскольку наш молодой профессор стая теперь депутатом, вернемся к нашим прежним планам, – заговорила наконец мадам Депла о существе дела.
Вскоре после получения письма с сообщением, что родители невесты теперь благосклонно рассматривают идею брака, Жан с матерью приезжают в Альби.
И вот с букетом в руках Жан отправляется в дом Буа. Жениха и невесту усаживают в уголке салона. Жан ведет нескончаемые беседы с Луизой. Собственно, невеста молчит, и волнение испытывает лишь жених. Он то пылко, то робко говорит о любви, ибо влюблен он без памяти и совершенно не замечает, что невеста не столько вдумывается в смысл его речей, сколько лениво прикидывает, что недурно было бы, если эти речи говорил бы мужчина повыше ростом, покрасивее и поэлегантнее…
Отец невесты господин Буа, коммерсант, удалившийся от дел, подходит к вопросу вполне профессионально. Для него свадьба прежде всего операция по наиболее разумному вложению капитала. Имущественное положение будущих супругов – вот важнейшая проблема с его точки зрения. Невеста получила в приданое три тысячи франков, пожизненную годовую ренту в 1200 франков и поместье Бессуле, приносившее в год тысячу франков дохода. Хотя жених не проявлял интереса к приданому, г-н Буа заставил его вместе с матерью детально осмотреть это владение с 37 гектарами земли. Прекрасный белый дом в окружении деревьев и роз напоминал своей простотой, соразмерностью провансальское поместье. Размеры его были достаточными для одной семьи. Две большие комнаты на первом этаже, пять – на втором, пристройка, оборудованная ферма. Да, здесь можно было, действуя с умом, не без успеха заняться хозяйством. 26 июня был подписан свадебный контракт. Предусмотрительный г-н Буа включил в него пункт о раздельном владении имуществом. Жан получил от матери лишь половину Ла Федиаль, поскольку был и второй брат. Скромную сумму в 500 франков годового дохода Аделаида сохранила за собой для пожизненного пользования.
Имущество жениха, таким образом, не поражало размерами. Зато надежды: зять-депутат, возможно, министр и, как знать, президент республики… Г-н Буа трезво взвесил все и решил, что он и на этот раз заключил разумную и дальновидную сделку. Не мог же этот толковый и понимающий человек допустить нелепую мысль, что его зять проникнется презрением к своему буржуазному благополучию и очертя голову ринется в социалистические авантюры! Ведь будущий великий оратор еще не раскрывал рта в парламенте и смирно сидел на столь надежных и респектабельных скамьях центра.
Свадьба, состоявшаяся 29 июня 1886 года, была великолепна. Церемония венчания происходила в приходе невесты, в соборе Сент-Сельв. Сенсацию производил своей парадной формой адмирал Бенжамен Жopec, свидетель жениха. Невеста, блестящая, статная, холеная, превышавшая жениха на полголовы, сияла в ореоле флердоранжа. Впрочем, жених в своем новом костюме выглядел вполне прилично. Свадебный обед, устроенный в саду дома Буа на улице Сен-Мартен, очаровал всех гостей.
В тот же день вечером молодая пара отправилась в Париж. Правда, Жан допустил промах, взяв с собой полуслепую мать. Луиза была крайне раздосадована и почти открыто выражала свое неудовольствие по поводу этого багажа в ее свадебном путешествии. Но добродушный Жан думал, что она просто утомлена свадебной церемонией. Наутро наш чудак послал родителям невесты радостную телеграмму: «Луиза спала всю ночь спокойно».
Дебют
Прошло еще четыре месяца после свадьбы, прежде чем молодой депутат из Тарна впервые выступил в палате. Правда, это не означало какого-либо пренебрежения депутатскими обязанностями. Он не пропускает ни одного заседания, что было просто физически нелегкой задачей. Скамьи Бурбонского дворца очень неудобны: с трудом можно поместить ноги между сиденьем и барьером. Почтенные депутаты сидят скрючившись, в малоэстетических позах, к которым нелегко привыкнуть. Жорес буквально задыхался в зале заседаний, который плохо проветривался; духота сменялась сквозняками. На узеньких неудобных пюпитрах нельзя положить даже небольшой документ, писать на них очень трудно.
Жорес добросовестно присутствует на заседаниях от начала до конца. Читает внимательно все материалы по обсуждаемым вопросам и тщательно следит не только за важнейшими политическими дебатами, но и за скучнейшими техническими обсуждениями. С ненасытным любопытством он расспрашивает своих коллег о неясных еще для него проблемах парламентской жизни и внимательно выслушивает их ответы.
Но что касается трибуны, то больше года он смотрит на нее издали. Правда, его политическая роль выражается в голосованиях, притом весьма знаменательных. 13 декабря 1885 года он голосует за предоставление 80 миллионов франков для отправки экспедиционного корпуса в Тонкин, а 19 декабря – за кредит в 80 тысяч франков для поддержки религиозных культов. Он голосует против амнистии за политические преступления, предложенной Анри Рошфором, против аннулирования выборов на Корсике, где клерикалы оказывали скандальное давление на избирателей, против расследования выборов в Приморских Альпах в связи с тем же обстоятельством. Его позиция по делу Деказвилля также характерна. Однако все чаще он робко начинает подавать свой голос вместе с левыми…
Но вот 21 октября 1886 года Жорес выходит наконец на трибуну. Появление этой фигуры, уже несколько грузной, напоминающей типичного провинциального буржуа, вызывает любопытство, ведь у него уже репутация хорошего оратора.
Речь посвящена правам местных властей в области начального образования. Жорес говорит просто, без попыток вызвать особый эффект. Когда он напомнил о благотворных последствиях удаления клерикалов из школ, слева послышались возгласы одобрения, а справа, со стороны поборников так называемой «свободной школы», – шумные протесты. Председательствующий вмешивается и, обращаясь к правым, заявляет:
– Вы требуете, господа, свободы для школы. Дайте же ее по крайней мере для трибуны!
Среди оппортунистов первое выступление Жореса не вызвало явного одобрения, поскольку молодой депутат высказывался слишком самостоятельно. Газета Клемансо «Жютис» отзывалась о речи о симпатией, называя ее «красноречивой и содержательной». Но «Фигаро» наряду с комплиментами заметила, что речь «немного отдает учеником Сорбонны, многословным и напыщенным».
Когда после своего первого выступления Жорес проходил по мосту Конкорд, расположенному прямо против колоннады Бурбонского дворца, он с грустью размышлял о превратностях судьбы депутата. Неужели ему всегда придется встречать неодобрение одних, недомолвки других и, что еще хуже, безразличие большинства? Неожиданно к нему приблизился молодой депутат Жак Пиу.
– Я считаю вашу речь действительно очень хорошей и весьма красноречивой, – сказал он с искренним восхищением.
Жан с признательностью пожал ему руку.
– Вы первый, кто сделал мне такой комплимент!
Первый оказался, как ни странно, один из будущих лидеров присоединившихся к республиканцам католиков. Позднее Жак Пиу говорил, что оппортунисты своей холодностью к молодому дебютанту, из-за своей слепоты и непонимания подарили в тот день французскому социализму великого оратора и вождя.
Хотя вряд ли можно принимать всерьез мнение человека, совсем не понимавшего Жореса; уже вскоре социалистам представился случай приветствовать этот подарок.
8 марта 1887 года Жорес произносит вторую речь в палате о таможенных пошлинах на импортный хлеб. Введение таких пошлин вызвало рост цен на хлеб внутри страны, что, конечно, почувствовали бы в первую очередь рабочие, хотя земельные собственники выигрывали. Их представители лицемерно твердили в палате, что рабочий должен пойти на жертвы в пользу своих деревенских «братьев», мелких крестьян. Жорес, сам в какой-то мере бывший крестьянин, блестяще раскрывает подоплеку этого дела. Когда он заявляет, что постоянная тактика крупных собственников состоит в том, чтобы прикрывать свои цели интересами мелкого собственника его речь прерывают громкими аплодисментами и возгласами одобрения слева, и криками протеста справа
– Где вы видите крупных собственников? – возмущенно кричит один из правых депутатов.
– Только треть французской земли принадлежит тем, кто ее обрабатывает, а две трети – тем, кто не работает на земле, – немедленно парирует Жорес, – Две трети французской земли принадлежат рантье, и только треть работающих на ней состоит из земельных собственников. Повышение пошлин будет субсидией для тех, у кого две трети земли, она поднимет стоимость земельной ренты! Крупный капитал напоминает мне тех кормилиц, которые забирают себе лучшие куски, говоря, что это для малютки…
Вся палата смеется, левые выражают бурное одобрение. Жорес убедительно обосновывает свой проект резолюции, призванной предоставить выгоды от новых мер трудящимся крестьянам. Он требует дополнить таможенные изменения мерами социальной справедливости.
– Сделаем так, чтобы малыш действительно получил свою порцию, – восклицает он.
Реакционное большинство палаты отвергло резолюцию Жореса, как и сходную с ней резолюцию социалистов. Но молодой депутат добился большого личного успеха. На этот раз многие коллеги пожимали ему руки и поздравляли. Когда он возвращался на свое место, его взгляд встречал одобрительные улыбки.
Вскоре в «Ревю сосиалист» Густав Руане (впоследствии он станет близким сотрудником Жореса) писал, обращаясь к нему: «Догадываетесь ли вы о том, что вы быстро приближаетесь к социализму и что если вы сделаете еще один шаг на этом пути, то вы, прыгая со связанными ногами над крайней левой, попадете прямо в социалистическую партию?.. На какой бы скамье вы ни сидели, милости просим, вы наш!» Получив это заверение от социалистов, Жорес теперь все чаще задумывается о прямом сближении с ними. В одни прекрасный день он решил посетить редакцию журнала «Ревю сосиалист» и познакомиться с его директором Бенуа Малоном. Незадолго до этого Малон основал Общество социальной экономики. Бывший крестьянин, в детстве он пас коров, потом с помощью брата выучился грамоте, стал рабочим в Париже, участвовал в Коммуне, Этот, по словам Кропоткина, спокойный и чрезвычайно добродушный революционер вскоре после создания Французской социалистической партии вместе с Бруссом выступил против Жюля Гэда и марксистской политики партии. Он был одним из инициаторов раскола и стал теперь проповедником собственного «интегрального» социализма, основанного больше на моральных принципах, чем на серьезном научном анализе развития общества. Он считал нежелательной революцию и отдавал предпочтение реформам и внедрению социализма в рамках старого общества путем развития муниципальной собственности. Жорес долгое время был под сильным влиянием Бенуа Малона и в его сомнениях находил источник своих социалистических убеждений.
Впрочем, послушаем рассказ самого Жореса: «Я принял решение (так мне казалось по меньшей мере: порвать с моим умственным одиночеством, и однажды вечером я отправился на улицу де Мартир с религиозным волнением неофита, вступающего в храм. Под небом, где смешивались бледная лазурь и белые облака, откуда струился слабейший свет, я шел к некой высшей цели. Я чувствовал, как во мне растет высокая надежда, способная преодолеть волну отверженности и беспокойства, которая каталась вдоль улицы, погружавшейся в сумерки, надежда достаточно сильная, чтобы бороться против усталости от жизни и против ударов судьбы.
В самом конце улицы я вошел по маленькой, узкой и темной лестнице в редакцию и с неловкой робостью перед первой встречей с совсем новыми для меня людьми спросил:
– Где господин Бенуа Малон?
Его там не было, во всяком случае, мне так сказали. И я вышел, не ответив ни слова… На половине лестницы я вдруг услышал за своей спиной громкие раскаты хохота…»
Да, можно себе представить, как Жан, у которого этот смех звучал в уши, спускался с высот Монмартра столь же грустный, сколь радостный он туда поднимался.
«Я не осмелился, – продолжал Жорес, – возобновить мое паломничество от левого центра к священной горе интегрального социализма. Но я поздравлял себя с тем, что в результате я не был втянут в частные распри соперничающих сект. Однако поэтому же я остался в парламенте 1885 года в конечном счете изолированным…»
Жореса сильно угнетает обстановка в палате Она резко отличается от того представления о парламенте, которое он получил раньше, наблюдая его со стороны. Тогда буржуазные республиканцы активно и успешно боролась с монархистами и клерикалами, проводила прогрессивные реформы. Настало другое время. Республиканские группировки сильно сократились в числе, а главное, делались все консервативнее. Жорес нередко замечал, что прежние пламенные республиканцы ничем больше не интересуются, кроме личной карьеры. За кем же идти? Он испытывал горькое разочарование, не находя пока никакого целеустремленного применения своим силам. А ведь он так мечтал посвятить себя борьбе за интересы народа, республики, Франции! Вместо этого ему приходилось отвечать на письма своих избирателей, дававших своему депутату, согласно укоренившемуся тогда обычаю, разные мелкие юридические или хозяйственные поручения. Как-то некий бакалейщик из Корда потребовал от Жореса прислать ему порошок для уничтожения крыс…
Однажды весной Жан возвращался по левому берегу Сены из палаты. С ним поравнялся один из его коллег, сидевший левее его, социалист, к которому он уже не раз обращался с вопросами о социализме. Депутаты заговорили о весенней погоде, а затем перешли к парламентским делам.
– Знаете, г-н Жорес, меня давно занимает ваше поведение в палате. Сидите вы в центре, но, мне кажется, вы одинокий солдат без армии…
– Да, пожалуй, вы правы, я одинок. Но с кем идти? Консерваторы? Жалкая группка, потерявшая веру в своего бога, в своего короля, в самих себя. Республиканцу не по пути с правыми.
– Ну а Клемансо и его люди?
– Платформа старого радикализма с каждым днем становится все более узкой, неустойчивой. И сам Клемансо, кажется, примирился с этой судьбой. Я замечаю, что он лишь грустно наблюдает за беспорядочным отступлением своей партии…
Жорес и его собеседник замолчали, неторопливо шагая по берегу, вдоль которого вытянулась цепь высоких, еще не зазеленевших платанов.
– Хороши эти первые весенние дни, – продолжал Жорес, – какие-то неопределенные, туманные, но уже теплые. Ни одна почка еще не распустилась, ни один лист еще не появился, но ведь соки уже подымаются, и природа тайком готовится к великому празднику весны. То же происходит и в нашей политике. Резкие ветры разногласий затихли. Еще нет широких и светлых просветов на горизонте, все кажется неподвижным. Но умы и сердца уже незримо работают, смутно растет в них надежда на обновление. В душах множества людей зреет ожидание яркого восхода солнца. Оно взойдет, это солнце!
– Мы, социалисты, уже видим солнце. Это наш идеал социалистической революция!
– Увы, – отвечал Жорес, – ваш социализм пока отличается теоретической скудостью, ограниченностью. Ваша программа не отражает всей широты идеала социализма. Вы растрачиваете силы в распрях друг с другом. Слишком много ненависти, слишком мало гуманности, мягкости, человеколюбия!
– Поэтому вы не присоединяетесь к нам?
– Да пожалуй. Но я не вижу для себя другого идеала, кроме социализма. Я буду работать для него даже один…
И он действительно работал для социализма так, как он понимал его во время своего первого срока пребывания в парламенте. Всегда, когда обсуждались социальные проблемы, когда вносились законопроекты, хоть в чем-то облегчавшие участь трудового народа, в палате раздавался голос Жореса. Позднее он будет утверждать, что уже в ту пору был убежденным социалистом. В действительности в его выступлениях, в его борьбе за права трудящихся если и были элементы социализма, то социализма сантиментального, основанного не на научном понимании сущности капиталистического общества, а на сострадании благородной души к ужасному положению рабочих, да и не только рабочих. Он осуждает капитализм, разоблачает, бичует его беспощадно, но лишь с моральных позиций глубоко честного человека. Его чувства, которые он так искренне и пылко выражает в своих речах, прекрасны, но обескураживающе наивны.
Жизненный опыт, характер, мировоззрение университетского профессора всегда побуждали его принимать близко к сердцу нужды народного образования. К тому же в распространении культуры и в воспитании людей он видел важнейшее средство улучшения существующего мира. Он часто думал о положении учителей, одним из которых он был сам и которых он так хорошо знал. Их нищета, унижение, их бескорыстное подвижничество вызывали в нем волну горячего сочувствия. На какие деньги они покупают книги? – спрашивал он себя. Как живут эти интеллигентные бедняки на свою ничтожную зарплату?
Понятно волнение, с каким его пламенный голос звучал в палате в защиту ассигнований для нужд работников просвещения. Труднее понять тот энтузиазм, с каким он уговаривал при этом представителей господствующей буржуазии дать детям народа серьезное понятие о политической структуре тогдашней Франции.
– Господа, – с искренней убежденностью обращается он к палате, – надо, чтобы дети трудящихся смогли быстро изучить основные черты политического и административного механизма…
Не улавливая смысла иронических аплодисментов и реплик, раздающихся с правых скамей, он взывает к справедливости, гуманности и разуму своих буржуазных коллег:
– Да, поскольку, видимо, приближается час, когда трудящиеся нашей страны попытаются изменить свое современное положение, поскольку они хотят завоевать в экономической области то, чего они добились в политике, то есть свою долю власти, и участвовать более широко в плодах и в управлении трудом, необходимо, чтобы дети народа приобретали в школе понимание, сознательную дисциплину, рассудительность в определении высших истин и всех необходимых добродетелей в деле основания нового порядка…
О святая простота! Он добивался согласия представителей буржуазии на облегчение подготовки уничтожения власти этой самой буржуазии! Его охотно и внимательно слушали. Теперь он уже признанный оратор. Но редко, крайне редко его предложения принимались. Особенно это касалось многочисленных выступлений Жореса за улучшение положения рабочих. Он знал их ужасную жизнь, тяжкий труд по 12 – 16 часов в день, знал, что в социальном законодательстве Франция далеко отстала от других западноевропейских стран. К началу парламентской деятельности Жореса, собственно, ничего не было сделано, кроме закона 1884 года, разрешавшего деятельность профсоюзов.








