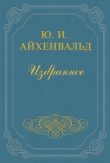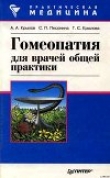Текст книги "Крылов"
Автор книги: Николай Степанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
«Год „Меркурия“ кончился…»
29 января 1793 года, вскоре после приезда Крылова в Петербург, пришло известие о том, что на одной из парижских площадей в присутствии многолюдной толпы народа под крики «Да здравствует республика!» был казнен Людовик XVI. Это событие вызвало новую тревогу в правительственных кругах. «С получением известия о злодейском умерщвлении короля французского, – меланхолически записал в своем дневнике Храповицкий, – Ее Величество слегла в постель, и больна, и печальна». В тот же день русский двор оделся в траур: черные чулки и белые батистовые манжеты.
Нечего было и думать о продолжении прежнего сатирического направления. Но Крылов не мог жить без журнала, без полемики, без общения с читателем. Невзирая на все трудности и опасности, он вновь принимается совместно с Клушиным за издание журнала.
С 1793 года начинает выходить «Санкт-Петербургский Меркурий». Дмитревский и Плавильщиков в издании «Меркурия» уже не принимали участия. Дмитревский постарел, и ему в тягость стали лишние хлопоты и заботы. А Плавильщиков возвратился в Москву и выступал на тамошнем театре вместе с Лизанькой Сандуновой и Силою Николаевичем. «Петербургский Меркурий» почти совсем отошел от сатиры. В нем принимали участие, помимо Крылова и Клушина, довольно известные писатели тех лет: А. Бухарский, Гр. Хованский, И. Мартынов, В. Л. Пушкин, П. Карабанов, Н. Николев, И. Милонов. В «Меркурии» помещались стихотворения, рассказы, идиллии, статьи и рецензии. Новый журнал имел миролюбивый и довольно бесцветный характер. Издатели явно опасались возбудить подозрения и недовольство властей, тем более что они находились под полицейским наблюдением и не могли рисковать.
Этим объясняется и сравнительно незначительное участие в журнале самого Крылова. Он напечатал там стихи о своем недавнем увлечении: «Мое оправдание», «К Анюте», «Мой отъезд», «К другу моему» и два прозаических очерка: «Похвальная речь науке убивать время» и «Похвальная речь Ермалафиду», лишенных, однако, сатирической силы и остроты его прежних произведений. Еще недавно столь вольнодумно настроенный, Клушин поместил в «Санкт-Петербургском Меркурии» чувствительную повесть «Несчастным М – в», представлявшую собой подражание гётевскому «Вертеру». «Меркурий» оказался робким, утерявшим зоркость «Зрителя». Впрочем, редакторы все-таки допустили неосторожные промашки. В августовской книжке журнала помещена была рецензия на «Вадима Новгородского» Княжнина, который вызвал незадолго перед тем гонения со стороны императрицы. Кроме того, в июльском выпуске напечатали отрывок из ненавистного императрице аббата Рейналя «Об открытии Америки». Самое появление сочинения одного из вдохновителей французской революции являлось фактом неблагонамеренным.
Трудно сказать, эти ли промахи, возможно не случайные, или сами имена издателей снова привлекли внимание правительства. Дела типографии также пришли в упадок, и издание «Петербургского Меркурия» перенесено было в типографию Академии наук. Это еще больше ограничивало возможности издателей, да и с переходом в типографию Академии наук наблюдение за последними номерами журнала осуществлялось уже И. Мартыновым.
По-видимому, императрица заподозрила издателей в неблагонадежности и решила их деятельность прекратить. Но после крутой расправы с Радищевым и Новиковым ей захотелось проявить показное «милосердие». Сохранилось свидетельство о том, что она вызвала издателей «Меркурия» для объяснений и материнского увещания.
Когда донельзя взволнованный Крылов отправлялся во дворец, он попрощался с младшим братом, отдал ему последние распоряжения, считая себя уже заключенным в тюрьму или сосланным в Сибирь.
Императрица указала издателям на их молодость, объясняя ею непочтительное отношение к власти, их запальчивую критику благодетельных порядков, установленных в государстве ею, самой просвещенной монархиней в Европе. Екатерина предупредила об опасности вольнодумных идей и пагубных плодах мечтаний о равенстве. Снисходительно отозвалась о драматических опытах молодых сочинителей (ведь она сама была автором комедий и трагедий) и советовала им продолжать далее развивать свои таланты в этом направлении, руководствуясь правилами религии и преданностью престолу. Но тут же она заметила с ласковой улыбкой, что сочинения, оскорбительные и расшатывающие нравы благочестия, могут повлечь за собой самые губительные последствия. На этом аудиенция прекратилась. Перед Крыловым и Клушиным бесшумно распахивались позолоченные и инкрустированные двери больших и малых зал, и лакеи в придворных ливреях молча указывали путь к выходу.
По городу распространились слухи. Никто толком не знал, о чем беседовала императрица со строптивыми сочинителями. Упорно утверждали, что они отправлены для усовершенствования в науках в чужие края. Дотошный собиратель слухов и летописец тех лет, тульский помещик, друг Новикова, Андрей Тимофеевич Болотов записал в своем «Памятнике протекших времен»: «За несколько лет до сего, при случае издания в Петербурге журнала „Российского Меркурия“ прославились в нашем ученом свете два молодые россиянина: Крылов и Клушин. Как при конце сего журнала упомянуто было, что они, по воле императрицы, отпущены путешествовать в чужие края, то все и почитали их теперь находящимися в путешествии в ожидании от них таких же любопытных описаний, как от Карамзина; но в том вся публика обманулась. Они остались и не поехали по причине, что промотали денежки взятые».
В этом рассказе чувствуется явное недоброжелательство. Но в чужие края Крылов и в самом деле не поехал. Клушин же покаялся и получил милостивое прощение, а также и деньги на поездку для учения за границей. Год «Меркурия» кончался, и его издатели принуждены были убраться из столицы, так как их пребывание там императрице было нежелательно.
В вышедшем тогда «Описании города Санкт-Петербурга» Георги указано: «Крылов – сочинитель разных сатирических писаний и некоторых комедий. Трудящийся в „Российском Меркурии“». Но он уже больше не являлся сочинителем, а стал гонимым неудачником, перекати-поле!
Крылов и Клушин по-разному отнеслись к перемене в своей судьбе. Клушин не только покаялся в своих «заблуждениях», но и напечатал угодливую, низкопоклонную оду – «Благодарность Екатерине Великой за всемилостивейшее увольнение меня в чужие краи с жалованьем».
Крылов не писал благодарственных од. Разговор с императрицей показал ему, что продолжать литературную деятельность невозможно. Надо было выбирать: или распрощаться с теми взглядами, за которые он боролся, или расстаться с литературой. Крылов решился на последнее. Необходимо было исчезнуть, раствориться в пространствах России, сделаться незаметным и незамеченным.
В последней книге журнала издатели прощались с читателями: «Год „Меркурия“ кончился и за отлучкою издателей продолжаться не будет».
Уезжая из столицы, Крылов в оде «К счастью» с грустью подвел итог своей жизни, капризной и нелегкой, судьбы человека из низов, попытавшегося выступить на борьбу с бесстыдной ложью господствующих верхов:
Вот как ты, Счастье, куролесишь;
Вот как неправду с правдой весишь!
Ласкаешь тем, в ком чести нет,
Уму и правде досаждая,
Безумство, наглость награждая,
Ты портишь только здешний свет.
Я вижу, ты, мой друг, уж скучишь
И, может быть, меня проучишь
За то, что я немножко смел
И правду высказать умел…
Начались годы скитаний. Годы тревожного одиночества, бесплодной растраты сил, безрадостных ожиданий.
IV. Скитания
Среди лесов, стремнин и гор,
Где зверь один пустынный бродит,
Где гордость нищих не находит
И роскоши неведом взор,
Ужели я вдали от мира?
Иль скрежет злобы, бедных стон
И здесь прервут мой сладкий сон?
Вещай, моя любезна лира!
И. Крылов, Ода «Уединение»
«Вдали от мира»
Он стал снова одинок, один как перст. Братец Левушка при помощи друзей отца определился на военную службу и теперь где-то шагал в солдатском мундире с мушкетом на плече. Александр Иванович Клушин уехал в Ливонию, а затем собирался за границу для продолжения образования. Но в Риге в него влюбилась уже не очень молодая вдова, баронесса, и он несколько лет прожил в этом городе, покорный брачным узам, и не подавал о себе вестей. Рахманинов затаился в своей Казинке под Тамбовом. Плавильщиков переехал в Москву вслед за Сандуновыми. Прощаясь, он стиснул Крылова в могучих объятиях и громогласно вопил, чтобы Иван Андреевич, его друг милый, переехал тоже в Москву, да поскорее!
После долгих раздумий Иван Андреевич последовал этому совету. Там Плавильщиков, Сандуновы. Ведь ехать, собственно говоря, было безразлично куда. В Москве же он будет далеко от соглядатаев императрицы, затеряется в многолюдье большого города. На рассвете Крылов забрался в крытый возок. Его провожал лишь Иван Афанасьевич Дмитревский. Он отирал надушенным платочком набежавшую слезинку, голова его чуть заметно тряслась на тонкой стариковской шее. Он крестил Крылова мелкими движениями руки. Наконец возок тронулся. Ямщик затянул унылую песню. Потянулись леса и болота, черные, бревенчатые срубы изб, низкие, набухшие дождем облака. Стоял ноябрь 1793 года.
Москва встретила его неприветливо. Холодным крупным дождем с липким, тающим снегом. Он сразу же подъехал к Петровскому театру, недавно открытому содержателем московской труппы Медоксом. Театр находился в самом начале Петровки и состоял из бесформенных зданий, сутуло сгрудившихся без всякого плана, представляя скорее груду кирпича, чем здание. Кругом театра беспорядочно теснились маленькие деревянные домишки. В одном из них квартировали Сандуновы. Они сердечно обрадовались приезду Ивана Андреевича. Лизанька засуетилась, принялась накрывать на стол, в честь гостя поставлен был штоф крепкой водки. Сандуновы жаловались на московские порядки. Дела у Медокса шли неважно: он задолжал актерам. Театральное помещение было плохо приспособлено к спектаклям. Зала не отапливалась: зрители сидели зимой в шубах, а артисты леденели от холода.
Пришел и Плавильщиков. Он громко хохотал, с нежностью сибирского медведя прижимал к себе Крылова и, став в драматическую позу, рычал стихи Сумарокова. В маленькой, заставленной вещами комнатке Сандуновых вдруг стало уютно и весело.
Но дни шли за днями. Дела никакого не находилось. Крылов заскучал. Он сидел в комнате с утра до вечера. Иногда выходил и бродил по улицам. По вечерам около театра прохаживались нарядно одетые девицы, «смазливые тени», как тогда называли подобных девиц. Их сопровождали городские кутилы, расфранченные и подвыпившие. Они, весело напевая, проходили мимо, приглашая встречных последовать за ними. Однажды Крылов не выдержал и присоединился к развеселой компании. Компания шумно ввалилась в один из домов на Разгуляе. Там шла азартная карточная игра. Игроки угрюмо сидели при оплывавших сальных свечах за большим круглым столом, напряженно глядя в карты. Время от времени тишина прерывалась равнодушным голосом банкомета, объявлявшего выигравшую карту. Крылов подошел к столу и подсел к игравшим. У него еще сохранилось немного денег. Он вынул золотой и поставил его на карту.
Карта выиграла. Во второй раз он поставил уже три золотых и с волнением ждал результата. Принял от банкомета карту и поставил ее темною. Банкомет метал карты. Крылов снова выиграл. Он поставил две новые карты, загнув каждую мирандолем. Из игорного дома на этот раз он унес десяток червонцев. Но счастье было изменчивым. Через несколько дней он снова появился в этом доме и проиграл все, что прошлый раз выиграл. Так он втянулся в тревожную и неверную жизнь игрока. Понемногу Крылов стал замечать в этих собраниях не только игроков, всецело увлеченных карточной игрой, но и каких-то подозрительных лиц, которые сновали вокруг стола, перекидывались загадочными замечаниями и взглядами.
Один из игравших тихонько предупредил его, чтобы он не связывался с этими личностями, отъявленными мошенниками и шулерами. Однако карты с магической силой влекли Крылова. Каждый раз, твердя себе на протяжении дня, что сегодня играть не будет, он к вечеру не выдерживал и отправлялся в дом, ставший ему привычным. Счастье попеременно то благоприятствовало, то изменяло ему. Он пытался вернуть проигранное верным расчетом, сложными математическими выкладками. Его любовь к математике вновь вспыхнула, приобретя смешные, уродливые формы. Он мог целыми днями высчитывать на основе математических формул секрет успеха, законы игры. Однако и математика, видимо, не помогала, и он, несмотря на найденные формулы, проигрывал. В поисках счастья он стал ездить по России: Ярославль, Нижний Новгород, Тула, Тамбов, Саратов… Всюду он пробовал счастья, надеясь на улыбку неблагосклонной фортуны.
Крылов стал бездомным скитальцем, праздным перекати-полем. У него не было ни семьи, ни профессии. Ему стало все безразлично. Разве он может бороться с императрицей? Ее пухлые, холеные ручки способны завтра же подписать указ о ссылке его в Сибирь, как Радищева, или о заточении в страшную Шлиссельбургскую крепость, где уже томился Новиков.
Он хотел забыть обо всем этом, уйти от тягостных дум, уйти от самого себя. Его влекли к себе дорожные встречи, постоялые дворы и почтовые станции, переполненные самым различным людом. Разговоры, рассказы бывалых людей, меткое, ядреное словцо какого-нибудь проезжего мужичка или мещанина делали поездки увлекательными, обогащали его знанием жизни простого народа. Перед этим меркли дорожные неудобства, грязь и беспокойная сутолока трактиров.
Игра его возбуждала, выводила из того оцепенения, в которое он погрузился, давала выход накопившейся энергии. Ведь ему еще не было и тридцати лет. Крылов был здоров, крепок, полон сил. Он не мечтал о том, чтобы быстро и легко разбогатеть. Его привлекала самая атмосфера игры, переменчивого счастья, напряженной взволнованности. Нравилась беззаботная, безалаберная жизнь. Впоследствии он и сам рассказывал, по словам мемуариста, что в молодости своей он был пристрастным к карточной игре, вовсе не из корыстолюбия, но ради сильных ощущений. В то время азартные игры не были запрещены, и банкометы явно занимались своим ремеслом в трактирах, разъезжали по ярмаркам и, как хищные звери, искали везде добычи. Не зная ни света, ни людей, Крылов попался в одну из этих шаек, и его обобрали, как говорится, «будто липочку».
Благодаря своим скитаниям, трактирным встречам, посещению ярмарок Крылов знакомился с нравами и бытом разных слоев общества. Он попал в самую гущу жизни, насмотрелся на многое из того, что в столичных гостиных было, конечно, скрыто от его взоров. Он прислушивался к говору самых различных представителей тогдашнего общества. Знакомился с богатейшим языком всех сословий России, с речью народа.
Так проходили недели и месяцы. Он стал уставать от смены впечатлений, городов, неверного счастья, бессонных ночей, дорожных неурядиц. Время от времени Крылов возвращался в Москву, в неуютную, пропыленную, пахнущую ладаном комнатку на Петровке, которую он снимал у одной московской мещанки.
Он даже не заметил, как над его горизонтом стали сгущаться новые тучи. Увлечение карточной игрой в Москве и за ее пределами приобрело повальный характер. Проигрывались крупные состояния, родовые имения, тысячи крепостных. Играли все – старцы и юноши, чины военные и гражданские, кавалеры и дамы высшего света, врачи, штык-юнкера, поэты, студенты. По вечерам на темных московских улицах до самого рассвета ярко светились окна домов, в которых шла игра. Люди приобретали известность не подвигами на войне и не гражданскими доблестями, а за карточным столом, крупными выигрышами или неимоверными проигрышами.
Эпидемия азартной игры, разорения, мошеннические проделки многочисленных шулерских шаек внушили беспокойство правительству. В особенности встревожили императрицу многочисленные случаи хищения и проигрыша казенных денег. Она приказала московскому генерал-губернатору Измайлову расследовать это дело и принять самые строгие меры для искоренения азартных карточных игр.
Начались повальные обыски и засады полиции во всех игорных домах. Составлялись реестры игроков, в один из которых попал и Крылов. Ему угрожали арест и насильственная высылка. Приходилось срочно покинуть Москву, снова спрятаться где-то в глуши, переждать поднявшуюся бурю.
Это случилось в каком-то городке неподалеку от Москвы – не то в Калуге, не то в Малоярославце. Крылов играл в трактире с проезжим помещиком и офицером. Карты выходили удачные, выигрыш рос, золотые монеты столбиками выстраивались на игорном столе. Но вскоре счастье изменило. Он проиграл сначала свой выигрыш, а затем и все бывшие при нем деньги. Крылов медленно поднялся, отер лоб платком и вышел во двор. Он услышал, как у ворот остановилась кибитка и из нее вышло несколько человек, закутанных в плащи. Они сердито пререкались между собой, и по их разговорам он понял, что это были полицейские, которые нагрянули, чтобы арестовать игроков. Крылов тихонько вышел через калитку в переулочек и пошел по улицам незнакомого городка. Чуть белел рассвет. Серый холодный дождь накрапывал все сильнее.
Раздумывать долго не приходилось. По возвращении в Москву Крылов воспользовался приглашением одного из своих знакомцев – хлебосольного московского барина Татищева, который уезжал в свое подмосковное имение. Примостившись на возке, сопровождавшем помещика в его поездке, Крылов выбрался из Москвы.
Уединение
В имении Татищева все было на широкую ногу. Обширный дом со службами и многочисленными слугами, прекрасный повар, большая библиотека, кругом парк, переходящий в лес. Крылов впервые почувствовал необычное для него состояние покоя, умиротворения.
Август был жаркий, даже знойный. От сосен струился терпкий смолистый запах. В лесу, в густой тени таились совы и длинноухие филины, издававшие время от времени странные, пугающие крики. На ветвях прыгали, как красные огоньки, белки. В мягком, словно губка, мху проглядывали между опавшими листьями шляпки грибов. Вечерами становилось прохладно и тихо.
Крылов много гулял, размышлял, сочинял стихи. Стихи были о горьком опыте недавнего времени, о несправедливости, царящей в мире, о блаженстве, обретаемом на лоне природы. Он так и назвал их – «Блаженство»:
Но где ж блаженство обитает,
Когда его в природе нет?
Где царство, кое он мечтает?
Где сей манящий чувства свет?
Вещают нам – вне протяженья,
Где чувство есть, а нет движенья.
Очисти смертный разум твой,
Взгляни – твой рай перед тобой,
Тебя одна лишь гордость мучит;
Природа быть счастливым учит.
Да, природа учила его быть счастливым. Ему казалось, что, живи он здесь, в лесу, среди птиц и деревьев, и ему ничего больше не было бы нужно. Годы, проведенные в столице, бессмысленно истрачены, они принесли лишь тревоги и огорчения. По вечерам он читал «Эмиля» Руссо и восторгался мыслями женевского отшельника. Гостеприимный Татищев ему не мешал: он любил пошутить, поесть, поспать и не обременял Крылова ни обязанностями, ни разговорами.
Вскоре Татищев вместе со всем семейством собрался посетить свои владения в других губерниях, предоставив Крылову в полное распоряжение дом, библиотеку и повара. Оставшись с отъездом хозяев в полном одиночестве на лоне природы, Крылов почувствовал себя совершенно свободным. Чтение Руссо укрепило его в мысли о том, что счастливым можно быть, лишь живя по законам природы, отказавшись от завоеваний цивилизации. Вспоминая недавнее прошлое, свое изгнание из столицы, бегство из Москвы, Крылов готов был видеть покой и блаженство в простых, естественных отношениях, которые царили во времена, когда не было вражды и угнетения человека человеком. Он стал снова писать стихи, в которых осуждал город и цивилизованное, несправедливое общество:
Там роскошь, золотом блестя,
Зовет гостей в свои палаты
И ставит им столы богаты,
Изнеженным их вкусам льстя,
Но в хрусталях своих бесценных
Она не вина раздает:
В них пенится кровавый пот
Народов, ею разоренных.
Разврату и злосчастию этого общества он противопоставил тишину и блаженство природы, исцеляющей страдания:
Вдали от ваших гордых стен,
Среди дубрав густых, тенистых.
Среди ключей кристальных, чистых,
В пустыне тихой я блажен.
Не суетами развлекаться
В беседах я шумливых тщусь,
Не ползать в низости учусь —
Учусь природе удивляться.
Стихи он озаглавил «Уединение». В раздолье привольных лугов и лесов, наедине с природой Крылов и сам решил испытать блаженство первобытного человека. Он перестал стричься, отпустил бороду, отрастил длинные волосы и ногти и даже перестал носить платье. Голый расхаживал он с книжкой по лесу и парку.
Однако блаженство это длилось недолго. Татищев неожиданно возвратился раньше того срока, который им был назначен. Ничего не подозревавший Крылов расхаживал по тенистой аллее парка, когда в нее въехала коляска. Оглянувшись на стук кареты и увидев графа с семейством, Крылов во весь дух помчался к дому. Дамы перепугались и стали громко кричать, приняв его за сумасшедшего. Татищев велел кучеру поскорее нагнать беглеца, но первобытный человек успел скрыться.
Татищев до упаду смеялся над всей этой историей и любил ее рассказывать, забавно показывая, какой вид имел Иван Андреевич, когда они застали его в облике троглодита.
Крылова тут же постригли, побрили и одели, и он принужден был подчиниться законам цивилизованного общества. Он очень сожалел об этом и не раз говорил, что недели, проведенные им в условиях естественного существования, остались самыми счастливыми в его жизни. Правда, с длинными волосами и ногтями было не очень ловко, жаловался он Татищеву, но ведь и Адам так ходил!
От Татищева Крылов перебрался в имение Бенкендорфов – Виноградово. Он познакомился с ними сразу по приезде в Москву и теперь решил погостить у любезных хозяев. Виноградово находилось всего в восемнадцати верстах от Москвы по Дмитровской дороге. Отсюда можно было легче наведываться в Москву. Привлекала Крылова и хозяйка – Елизавета Ивановна, доброжелательная и гостеприимная. Падчерица генерал-прокурора Глебова, богатого и влиятельного екатерининского вельможи, впавшего в немилость, она была замужем за человеком пожилым – суворовским воином-бригадиром Иваном Ивановичем Бенкендорфом, к этому времени вышедшим в отставку.
Елизавета Ивановна любила гостей, праздники, веселье. В их московском доме и в Виноградове постоянно появлялись посетители, друзья и знакомые, принадлежавшие к высшему московскому кругу, – князья Голицыны, Татищевы, Загряжские, Львовы, входящие в моду сочинители – Карамзин и Дмитриев. Здесь сразу становились известны политические и литературные новости, обсуждались только что вышедшие книги и журналы. Крылов некоторое время гостил у них в Москве. Там он познакомился с Карамзиным, который задумал издавать новый альманах «Аониды», сиречь музы, пребывавшие на горе Геликон. Карамзин только что приехал из деревни, дабы рассеять слухи о том, что пребывание под Симбирском являлось вынужденной ссылкой из-за недовольства императрицы. Екатерина действительно была им недовольна: ей не нравилась его близость с Новиковым и масонами, возбуждали опасения «Письма русского путешественника», в которых говорилось о французской революции. Карамзин знал об этом и предпочел на время удалиться в провинцию.
В гостиной Бенкендорфов он сидел в томной, меланхолической позе. Чувствительность и меланхолия только еще начинали входить в моду. Крылов, представленный Карамзину любезной Елизаветой Ивановной, молча сел напротив него. Карамзин казался не по возрасту серьезным и наставительным. Он только двумя годами был старше Крылова, но много путешествовал по загранице, получил прекрасное образование и занимал уже видное место в московском литературном кругу. Особенную известность получила его повесть «Бедная Лиза», печальная история крестьянской девушки, доверчиво полюбившей знатного барина. Обманутая им, она покончила жизнь самоубийством, бросившись в пруд возле Симонова монастыря. Этот пруд стал излюбленным местом паломничества московских барышень, проливавших слезы над чувствительной повестью.
Крылову была чужда мечтательная меланхолия и заоблачная философия этого изящного, щегольски одетого человека, со снисходительным вниманием обращавшегося к своим собеседникам. «Всему есть время, и сцены переменяются, – задумчиво говорил Карамзин. – Когда цветы на лугах Пафосских теряют для нас свежесть и красоту свою, мы перестаем летать зефиром и заключаемся в кабинете для философских мечтаний и умствований, скучных румяному и ветреному юноше, но приятных такому человеку, у которого на лбу хладною рукою времени рисуются уже морщины. Лучше читать Юма, Гельвеция, Мабли, нежели в томных элегиях жаловаться на холодность и непостоянство красавиц. Таким образом, скоро бедная муза моя или пойдет совсем в отставку, или… будет перекладывать в стих Кантову метафизику с Платоновою республикою». Карамзина влекло к науке, истории, философии. Вскоре должно было появиться отдельное издание его «Писем русского путешественника», исполненных размышлений и философских раздумий.
Знакомство с Карамзиным опять сблизило Крылова с литературой. Он передал издателю «Аонид» несколько стихотворений, написанных раньше, – «Вечер», «Подражание 37-му псалму». Они вскоре и были помещены в первой части альманаха за подписью «И.К – в». Крылов решил не подвергать себя опасности и гневу императрицы. Сатира была признана вредной. Он больше не будет писать сатир и комедий. Лирика – другое дело. Здесь можно высказать затаенные мысли и чувства туманно и неопределенно.
Снова встретился он и с другом Карамзина – поэтом Дмитриевым. Иван Иванович только что вышел в отставку и издал книжку «И мои безделки», последовав примеру Карамзина, назвавшего свою книжку стихотворений – «Мои безделки». Среди «безделок» Дмитриева было несколько басен, переведенных из Лафонтена и Флориана. Автор чувствительной песни «Стонет сизый голубочек», сделавшей его широко известным, Дмитриев за последнее время все чаще обращался к басенному жанру. Переводя басни Лафонтена, он хотел придать им чувствительность, превратить их в изящные «безделки». Особенно трогательно получилась у него басня «Два голубя», которую он охотно прочитал Крылову.
В Москве Крылов, однако, не засиживался. Его больше привлекало сельское уединение. В Виноградове он чувствовал себя пустынником, живущим вольготной жизнью. Много гулял, читал, занимался итальянским языком, переводил любимого им итальянского поэта Метастазия, рисовал, а по вечерам играл на скрипке. Крылов скопировал гравированный портрет Екатерины II и вместе с сочиненными по этому поводу стихами и письмом послал его Елизавете Ивановне в Москву. Это была не только дань ее вкусу. Он мог рассчитывать, что посетители салона Бенкендорфов, увидав этот портрет, где-нибудь упомянут о нем и благоприятный слух об опальном сочинителе дойдет до ушей императрицы, смягчит ее.
В письме, помеченном 26 ноября 1795 года, Крылов шутливо изъяснялся о своем восхищении Елизаветой Ивановной: «Говорят, что Аристотель был едва не проклят всем афинским собором за то, что он женщине приносил приличные Церере жертвоприношения. Я не язычник, но если б изобразить все почтение, которое я к вам чувствую, то бы попал я под один приговор с Аристотелем, и всему бы этому виною были ваши привлекательные, ваши любезные качества, которые всякого, кто вас узнает, вводят точно в опасность сделаться идолопоклонником.
Я не могу вспомнить тех минут, которые случилось мне у вас проводить, чтобы не оглядываться к Москве, как верный магометанин, возвращаясь с поклонения, набожно оглядывается к Мекке. „Вот лесть!“ – скажете вы, и я знаю, что тот, кому случится увидеть мое письмо, будет бранить меня, как льстеца, но зато я надеюсь, что те, которые увидят вас, будут точно за меня стряпчими в этом деле. Но я позабываю, что воображение о ваших достоинствах завлекает меня в похвалы, которые никогда не кончатся, если я дам себе волю, – а вы их столько-столько слышите!» В этом была и лесть, которую сам автор письма слегка высмеивал, и восхищение женщиной, которая ему нравилась и в то же время была недосягаема по своему общественному положению.
В том же письме он, несмотря на шутливый тон, проговаривается об истинном положении вещей: «До сих пор все предприятия мои опровергались, и, кажется, счастье старалось на всяком моем шагу запнуть меня; это было, есть и, может, вечно так будет; но пусть только надежда, мой верный друг, пусть только одна она не отлучается от меня и проводит меня до моего гроба – пусть оставит она меня, когда, переехав Стикс, увижу я на дверях ада страшную надпись:
Lasciate ogni speranza, o voi ch’entrate! [11]11
Оставьте все надежды, о вы, сюда входящие! (итал.)
[Закрыть]
Надпись ужасная, которою Дант страшнее изобразил ад, нежели множеством других своих стихов. Итак, пусть только тогда она меня оставит, и я по крайней мере скажу, что я в жизни имел утешительного товарища.
Воспоминание моих старых и еще вновь приключившихся мне несчастий и потерей завело меня к скучному, может быть, для вас болтовству; но простите пустыннику, который рад, сыскавши первый случай говорить чувствительному сердцу».
Он спохватился, что утомил свою заочную собеседницу жалобами на злоключения, не выдержал шутливого тона светской болтовни, которая, не задевая за живое, могла развлечь избалованную успехом красавицу. Оборвав свои жалобы, Крылов приписал: «Я встал, дал успокоиться моей памяти и протолкал, так сказать, из головы все мои несчастия и теперь опять весело продолжаю мое письмо: иначе я бы замучил вас Еремииным своим плачем».
Через несколько месяцев его уединение было нарушено событием, которого он не ожидал: «божественная Екатерина» неожиданно скончалась. Это произошло 5 ноября 1796 года.