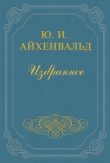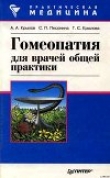Текст книги "Крылов"
Автор книги: Николай Степанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
Катастрофа
Время переменилось. Снова стало тревожно. По рукам ходили дерзкие стихи Пушкина и Рылеева, восхвалявшие свободу. Их тайком переписывали, передавали друг другу. В гостиных привлекали всеобщее внимание не гвардейские мундиры, а черные фраки. В разговорах сквозили пренебрежение, ирония, недовольство. Молодые люди обменивались многозначительными взглядами и уединялись для длительных бесед. Дамы перестали восхищаться чувствительными романами мадам Жанлис и Дюкре-Дюмениля. А мужчины читали Плутарха, «Историю» Карамзина, Гизо, Гельвеция, Руссо, Кандильяка. В воздухе чувствовалось напряжение, как перед грозой. За ужинами нередко провозглашались непонятные для непосвященных тосты, произносились острые эпиграммы на самых почтенных особ в государстве. У Олениных хранились стихи молодого Пушкина, его ода «Вольность» и «Деревня», дерзкое послание Рылеева «К временщику» – Аракчееву. Даже в Английском клубе громко говорили о политике, читали иностранные газеты.
Крылов встречал нередко и поэта Рылеева, и пылкого Александра Бестужева, и Никиту Муравьева, которые были одними из главных фигур тайного «Северного общества» декабристов. Конечно, он не знал их планов, не был знаком с их идеями. Но он не отгораживался от них, его интересовали и привлекали эти «новые люди». Крылов числился почетным членом Общества соревнователей просвещения и благотворения, являвшегося своего рода легальным филиалом «Союза благоденствия». В 1819 году его имя помещено было в «Сыне отечества» в числе членов «ланкастерского» Общества взаимного обучения, организованного декабристами. В извещении значилось, что «изъявили свое желание содействовать трудам комитета общества: князь Трубецкой, Никита Муравьев, Бурцев, Иван Андреевич Крылов…». Далее в числе действительных членов-жертвователей общества были перечислены братья Муравьевы, Кюхельбекер, Крылов… В этих перечнях все, кроме Крылова, участники событий 14 декабря 1825 года.
Басни Крылова печатались в журнале Общества соревнователей просвещения и в декабристской «Полярной звезде». В «Полярной звезде» помещена была такая смелая басня, как «Крестьянин и Овца», а на страницах «Соревнователя» появилась в 1824 году басня «Кошка и Соловей», в которой Крылов ядовито высмеял царскую цензуру. Эта басня написана была в связи с подготовкой нового цензурного устава. В басне Кошка, сжимая в когтях Соловья, наивно удивляется тому, что он плохо поет:
Сказать ли на ушко, яснее, мысль мою?
Худые песни Соловью
В когтях у Кошки.
В первом же выпуске «Полярной звезды» декабрист А. Бестужев восторженно писал о Крылове: «И. Крылов возвел русскую басню в оригинально-классическое достоинство. Невозможно дать большего простодушия рассказу, большей народности языку, большей осязаемости нравоучению. В каждом его стихе виден русский здравый ум. Он похож природою описаний на Лафонтена, но имеет свой особый характер; его каждая басня – сатира, тем сильнейшая, что она коротка и рассказана с видом простодушия».
Крылов не подозревал, что эти люди ведут двойную жизнь, что у них есть тайны от него. Его приятель Гнедич, друживший с Никитою Муравьевым и Кюхельбекером, мог догадываться кое о чем, но, естественно, не посвящал в свои догадки Ивана Андреевича. Ему было невдомек, что близится взрыв.
В сумрачном здании Публичной библиотеки было, как всегда, тихо и спокойно. Стол, за которым обычно работал Иван Андреевич, находился в углу залы против окна, выходившего на перекресток Невского проспекта и Садовой. В окно можно было видеть проходивших по Невскому пешеходов, щегольские кареты с ливрейными лакеями на запятках, нарядных дам в модных шляпках, напоминавших корзинки для цветов. По залу, неслышно ступая, ходили служащие библиотеки. Со стен смотрели портреты великих людей.
Спокойствие было нарушено утром 14 декабря 1825 года. В библиотеку дошли вести о грозных событиях на Сенатской площади. Крылов вместе со своим сослуживцем М. Е. Лобановым, подстрекаемые любопытством, поспешили на площадь. Дойдя до Адмиралтейства, они сразу увидели потрясшее их зрелище.
На площади, перед строившимся Исаакиевским собором, расположились друг против друга два лагеря. Войско мятежников выстроилось в каре около памятника Петру I, а конногвардейские полки Николая I стояли в строю за Сенатом, по Галерной улице. Восставшие, несмотря на мороз, были в одних мундирах. Они держали ружья с примкнутыми штыками. Кавалергарды и кирасиры, закованные в тяжелые черные кирасы, неподвижные, как статуи, сидели на огромных лошадях.
На глазах выстроившихся в каре солдат Александр Бестужев в парадном мундире, в белых панталонах и гусарских сапогах точил свою саблю о гранит монумента Петра. В углу площади на ступенях манежа среди генералов и офицеров стоял Николай I. Изредка раздавались выстрелы, зловещим эхом отдававшиеся на площади. Восставшие стреляли вверх, поэтому жертв не было.
Напряжение нарастало. Обе стороны ждали прибытия подкреплений и начала решительных действий.
Вот как об этом рассказывает М. Е. Лобанов: «В 14-е число, в день страшный и священный для России, поутру, ходя по залам императорской Публичной библиотеки и радуясь вместе с Иваном Андреевичем о благополучном воцарении императора Николая I, вдруг слышим от прибежавших людей о тревоге, нарушившей столь священное торжество. Пораженные и изумленные такою нечаянностию, по естественному любопытству отправились мы с Иваном Андреевичем на Исаакиевскую площадь. Видели государя на коне перед Преображенским полком, потом прошли по булевару, взглянули издали на мятежников, и тут-то Иван Андреевич исчез. Вечером того дня, собравшись в доме А. Н. Оленина, мы передавали друг другу виденное и слышанное, каждый новый человек приносил какие-нибудь слухи и известия. Является Иван Андреевич. Подсевши к нему, я спрашиваю: „Где вы были?“ – „Да вот я дошел до Исаакиевского моста, и мне крепко захотелось взглянуть на их рожи, я и пошел к Сенату и поравнялся с их толпою. Кого же я увидел? Кюхельбекера в военной шинели и с шпагою в руке. К счастию моему, он стоял ко мне профилем и не видел меня“. – „Ну, слава богу! А ведь им легко было бы схватить вас и силою затащить в их шайку“. – „Да, как не легко? А там поди после оправдывайся, а позору-то натерпелся бы“. Между тем принесли уже печатные листки о мятеже с именами некоторых мятежников, в числе которых с ужасом заметили мы имена некоторых литераторов, и Иван Андреевич сокрушался этим; он полагал, что это обстоятельство наведет неблагоприятную тень на русскую словесность…» [24]24
Публикуется по автографу, хранящемуся в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.
[Закрыть]
Рассказ М. Лобанова пристрастен. Автор его являлся преданным сторонником правительства и стремится «реабилитировать» Крылова, оправдать непонятное для него поведение баснописца. Свидетельство Лобанова дополняется записью В. А. Олениной, в которой имеется существенная деталь. По ее словам, «бунтовщики» кричали Крылову: «Иван Андреевич! Уходите, пожалуйста, скорей!», беспокоясь о его безопасности. Конечно, Крылов не собирался перейти на сторону декабристов. Но пришел он на площадь не ради пустого любопытства.
Восстание декабристов, выступление их на Сенатской площади знаменовало начало нового исторического этапа. Это был революционный акт, и хотя восстание было подавлено, оно в глазах современников и потомства явилось смелым, самоотверженным подвигом, показало возможность борьбы с самодержавием с оружием в руках. Для Крылова оно было уроком, даже укором. Издатель «Почты духов», решительный противник деспотизма в прошлом, он оказался теперь лишь зрителем, лишь наблюдателем возгоревшейся борьбы.
Насколько потрясен был Крылов событиями 14 декабря и последующими жестокими репрессиями, видно из того, что почти два года после этих событий он не писал басен. Лишь в «Северных цветах на 1829 год» появилась после длительного молчания басня «Пушки и Паруса». В ней можно усмотреть попытку разобраться в недавних трагических событиях. Противопоставляя «Пушкам» – военной силе «Паруса» – гражданские власти, Крылов, возможно, хотел подчеркнуть гибельность для «корабля»-государства внутренней распри.
Еще определеннее отклик на последствия событий 14 декабря в басне «Бритвы», опубликованной одновременно с «Пушками и Парусами». В «Бритвах» речь идет об умных и способных людях, замешанных в движении декабристов и отстраненных от государственной деятельности. В заключение Крылов спрашивал:
Вам пояснить рассказ мой я готов:
Не так ли многие, хоть стыдно им признаться,
С умом людей боятся
И терпят при себе охотней дураков?
Гоголь, который, как современник, был лучше осведомлен о замыслах Крылова, писал впоследствии об этой басне, что она имела в виду «недальнозорких начальников», у которых «утвердилось было странное мнение, что нужно опасаться бойких, умных людей и обходить их в должностях из-за того единственно, что некоторые из них были когда-то шалуны и замешались в безрассудное дело». Даже спустя двадцать лет приходилось говорить о событиях 14 декабря «эзоповым языком», туманными намеками, так щекотлива казалась эта тема. Естественно, что Крылов в еще большей мере вынужден был скрывать свое истинное отношение к недавним событиям.
X. «Дедушка Крылов»
Где нужно он навесть умеет
Свое волшебное стекло,
И в зеркале его яснеет
Суровой истины чело.
Весь мир в руках у чародея,
Все твари дань ему несут:
По дудке нашего Орфея
Все звери пляшут и поют.
Длись судьбами всеблагими,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с детками своими,
Здравствуй, дедушка Крылов.
П. Вяземский
Смерть Гнедича
Крылов пережил трех царей. Теперь царствовал новый – император Николай I. Он так же, как и его предшественники, любил парады, военный строй, дисциплину, покорность. Силу взяло III отделение собственной его императорского величества канцелярии во главе с шефом жандармов графом Бенкендорфом. После событий 14 декабря правительство пристально следило, чтобы не произрастали новые семена вольнодумства. Россия представлялась императору огромным департаментом, военной казармой, и он неустанно насаждал в ней порядок и дисциплину. Время от времени, однако, обнаруживались непорядки и непокорство.
14 декабря 1825 года стало тем рубежом, который подвел итог первой четверти века. Герцен писал: «Первые годы, последовавшие за 1825-м, были ужасны. Понадобилось не менее десятка лет, чтобы человек мог опомниться в своем горестном положении порабощенного и гонимого существа. Многими овладело глубокое отчаяние и всеобщее уныние. Высшее общество с подлым и низким рвением спешило отречься от всех человеческих чувств, от всех гуманных мыслей».
Это объясняет и молчание Крылова после 1825 года. В начале 1825 года вышло своего рода итоговое издание его басен в семи книгах, и лишь через пятилетие оно пополнилось еще одним разделом.
После 14 декабря Крылов почувствовал себя особенно чужим в опустевших дворянских салонах. Он еще более замкнулся. Лишь давний, испытанный друг его Николай Иванович Гнедич мог иногда проникнуть в сокровенные мысли баснописца. Крылов окончательно утвердился в своем скептическом отношении к окружающему, в невозможности перемен, хотя и не примирился с угнетенным положением народа, с хищничеством господствующих классов. В его баснях, напечатанных после 1825 года, продолжают звучать прежние мотивы, слышен голос в защиту народа.
В сборнике «Новоселье», вышедшем в самом начале 1833 года, Крылов поместил басню «Волки и Овцы». В ней он продолжил прежнюю демократическую тему протеста против угнетения народа. В первом же стихе он заявлял: «Овечкам от Волков совсем житья не стало». Всем было понятно, что под «Овечками» баснописец подразумевал крестьян, честных тружеников, а под «Волками» – жестоких и алчных помещиков и чиновников. В басне ядовито развенчивалось лицемерие правительственных кругов, пытавшихся уверить народ в том, что законы способны защитить его права и интересы. Едким издевательством над официальными заверениями выглядят стихи о том, что «правительство зверей» «благие меры взяло» и на своем «совете» придумало «закон».
Вот вам от слова в слово он:
«Как скоро Волк у стада забуянит,
И обижать он Овцу станет,
То Волка тут властна Овца,
Не разбираючи лица,
Схватить за шиворот и в суд тотчас представить,
В соседний лес иль в бор».
В законе нечего прибавить, ни убавить.
Да только я видал: до этих пор —
Хоть говорят, Волкам и не спускают —
Что будь Овца ответчик иль истец,
А только Волки все-таки Овец
В леса таскают.
Обобщенность и резкость сатиры этой басни сохранила всю свою силу вплоть до нашего времени, столь же метко поражая лицемерную буржуазную «демократию», как и бюрократически-помещичий режим крепостнической монархии.
Той же непримиримостью дышат басни «Мирон», «Булат», «Осел», «Лещи», «Щука», «Вельможа», написанные в 1830–1834 годах. Они заключали в себе большую взрывную силу. «Эзоповским языком» баснописец ухитрялся говорить о таких вещах, о которых в печати сказать во всеуслышание и подумать было нельзя.
Недаром Грибоедов в «Горе от ума» заставляет подхалима и доносчика Загорецкого с раздражением признаться:
«…А если б, между нами,
Был цензором назначен я,
На басни бы налег: ох! басни – смерть моя!
Насмешки вечные над львами! над орлами!
Кто что ни говори:
Хотя животные, а все-таки цари!»
Крылов привязался к семейству Олениных, заменившему ему родной дом. Там всегда приветливо и ласково его встречали, делились с ним семейными радостями и горестями. Дочери Оленина – младшая Аннета и старшая Варенька – уже давно выросли. Варенька была рассудительна, мила, хотя и не очень хороша собой. Иван Андреевич любил Вареньку за положительность. Варенька вышла замуж и жила теперь в Ревеле, лишь ненадолго наезжая в Петербург. Крылов скучал по «фавориточке» и при всей нелюбви своей к письмам время от времени писал ей. В весьма малочисленном эпистолярном наследстве баснописца эти письма занимают особое место. В них он отступает от деловой сдержанности и позволяет себе и пошутить с собеседницей и пуститься в веселое балагурство.
В письме от 1 февраля 1827 года к Варваре Алексеевне в Италию, куда она уехала лечиться, он подшучивает над самим собой, своей леностью и нелюбовью к сочинению писем: «За тридевятью морями, в тридесятом царстве вспомните иногда, любезная и почтенная Варвара Алексеевна, неизменного своего Крылова. Я, кажется, слышу ваш вопрос: „Да полно, стоит ли он этого?..“ Конечно, стою, да, стою. Возьмите беспристрастно и взвесьте все мое хорошее и худое. Кажется, вижу, что вы на одну сторону кладете лень, мою беспечность, несдержание данного слова писать и пр. и пр. Признаюсь, копна великая и очень похожа на большой воз сена, как, я видал, весят на Сенной площади. Но постойте, я кладу на другую сторону мою к вам чистосердечную привязанность. Может быть, она не приметна: однако ж посмотрите, как весы потянули на мою сторону. Вы улыбаетесь и говорите: „Точно, он меня любит: ну, бог его простит!“ Иван Андреевич в этой насмешливой автохарактеристике не щадит себя. В письме сказались и те дружеские отношения, которые существовали между ним, человеком весьма пожилым, и молоденькой женщиной, которую он знал еще ребенком: „Теперь вопрос: прощу ли я вас, что вы так надолго нас оставили, а, что и того хуже, не порадуете нас доброю вестью о поправлении вашего здоровья? Ездите по Италии, ездите, где хотите, только ради бога выздоравливайте и возвращайтесь к нам скорей веселы, здоровы и красны, как маков цвет. Смотрите, если долго промешкаете, то я, право, того и гляди что уеду далее чужих краев; а, право, я бы еще хотел на вас взглянуть и полакомиться приятными минутами вашей беседы. И видеть своими глазами и слышать своими ушами, все ли еще по-прежнему вы любите доброго своего Крылова? Что писать вам о нас? Старое по-старому, а в Петербурге у нас все по-петербургски. Сегодня мы празднуем рождение вашей сестрицы, фрейлины двора их императорских величеств, Анны Алексеевны. Вы ее не узнаете: она прелестна, мила и любезна, и если б постоянство не была моя добродетель особенная, то едва ли бы я вам не изменил. Но не бойтесь, обожатель в 57 лет бывает очень постоянен…“»
Этот тон дружеской приязни, неизменной сердечности проходит через все сохранившиеся письма Ивана Андреевича к Вареньке Олениной. Двумя годами позднее он снова пишет ей в Москву (по ее возвращении из Италии) в том же шутливом тоне, с той же милой нежностью: «Здравствуйте, любезнейшая и почтеннейшая Варвара Алексеевна. Итак, наконец, вы в России, в Москве, но все не в Петербурге, и я лишен удовольствия вас видеть. Для чего нет у меня крыльев, чтоб лететь в Москву! Какая бы я была хорошенькая птичка! Вы пишете к своим, чтоб я приехал; благодарю вас за такое желание, и если бы это зависело от одного моего желания,то, не сомневайтесь, я бы уже давно был в Москве: „Ma per arrivar, bisogna caminar“ [25]25
«Но чтобы прийти, нужно идти» (итал.).
[Закрыть]. Пословица немудреная, а очень справедливая. Со всем тем, если б я знал, что вы останетесь долее в Москве, то во что бы то ни стало, а я перед вами явился бы, как лист перед травой». За шутливым тоном этих писем чувствуется и дружеская близость и то, что писание писем, как и дальние поездки, давно стало для Ивана Андреевича непосильным трудом.
Служба в Публичной библиотеке шла своим чередом. Количество дел и работ здесь неизменно увеличивалось. Росло число книг, фонды пополнялись, необходимо было все время следить за приобретением недостающих изданий. Кроме того, как и во всяком учреждении, в библиотеке возникали интриги, происходила закулисная борьба между начальством. Министр просвещения, А. Н. Оленин и помощник директора библиотеки С. С. Уваров находились в натянутых отношениях и вели между собой глухую борьбу. Оленина упрекали в том, что он не выпускал печатных каталогов библиотеки, мало уделял внимания ее работе. Алексей Николаевич, как опытный дипломат, «отсиживался», предпочитал тактику умолчания и ничегонеделания, любил писать торжественные, но бессодержательные донесения и докладные записки о течении дел, ценил четко поставленное делопроизводство.
Крылову приходилось постоянно докладывать, писать заявления и рапорты, которые поступали в недра канцелярии и там длительное время лежали, пока их не подшивали в соответствующие папки, нумеровали и клали на полки. Донесения должно было писать по всей форме, почтительно, обстоятельно, не заставляя начальство раздумывать над их содержанием. Иван Андреевич привлек для этой цели помощника – Ивана Павловича Быстрова, человека услужливого, робкого и исполнительного. Привлечение Быстрова тоже потребовало долгих хлопот и многочисленных заявлений. 27 февраля 1829 года Крылов сообщал А. И. Оленину:
«Его превосходительству господину директору Императорской публичной библиотеки, тайному советнику, члену Государственного совета и разных орденов кавалеру Алексею Николаевичу Оленину.
От библиотекаря коллежского советника и кавалера Ивана Крылова.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
Вашему превосходительству известно, сколь число книг в Российском отделении Императорской публичной библиотеки умножилось, так что уже мало остается сделать приобретений для укомплектования сего собрания изданиями, вышедшими до 1811 года; но с количеством возросла также и трудность как в содержании в порядке книг, так и в приготовлении чистым письмом карточек для составления каталогов, притом находится множество и других занятий по сей части, как Вашему превосходительству небезызвестно. А как я нахожусь по Русскому отделению один, то при всем моем усердии не могу выполнить всего, что требуется для содержания оного в совершенном порядке – и тем более, что с беспрестанным получением новых книг и труд в исправлении службы возрастает. Почему и нахожу нужным представить Вашему превосходительству, дабы благоволено было в помощь мне определить писца – и нашел, что для сего может быть способен губернский секретарь Быстрое, который желает определиться для таковой должности в Императорскую публичную библиотеку, что и представляю на благоусмотрение Вашего превосходительства.
Библиотекарь Иван Крылов».
«Их превосходительство» после многократных настояний удостоили, наконец, утвердить губернского секретаря Быстрова в должности писца, и у Ивана Андреевича появился помощник, которому он смог препоручить добрую половину своих дел.
В «Отрывках из записок моих об И. А. Крылове» Быстров свидетельствует: «Ивану Андреевичу обязан я первыми и некоторыми сведениями моими в библиографии. Советы и наставления его заохотили меня к изучению сей науки. В мае 1829 года Иван Андреевич писал мне: „Пришлите мне мои карточки. Что у вас сделано? Не скучаете ль новою должностью? – Старайтесь, старайтесь, мой милый! Сопиков много трудился, ему и честь. Но не без греха и он, и при ссылках на него будьте осторожны. В чем усомнитесь, спросите Анастасевича…“» Так Крылов обучал своего помощника, прививая ему любовь к библиографии.
3 февраля 1833 года умер Гнедич. Он давно уже болел, а последние недели был совсем плох и слаб. События, последовавшие за разгромом декабристов на Сенатской площади, его сломили. Казнь Рылеева, ссылка в Сибирь Кюхельбекера, Никиты Муравьева и других его друзей, опасение, что и до него самого может дойти мстительный бич правосудия, волновали Николая Ивановича, исподволь подтачивали его здоровье. Гнедич завершил героический труд – перевод «Илиады», труд, над которым он работал более четверти века. В 1829 году «Илиада» была, наконец, напечатана и восторженно встречена. Но силы поэта оказались надломлены.
Теперь он лежал в гробу, исхудавший, с заострившимся, гордым лицом, на котором выступали узором побелевшие шрамы от оспы. В день похорон сияло холодное зимнее солнце, на улицах блестел снег. Гроб с трудом снесли по узкой лестнице и поставили на катафалк. Впереди провожавших шел священник с кадилом, вполголоса бормотавший молитвы, а за ним – Иван Андреевич, Пушкин, семейство Олениных, Жуковский и другие видные литераторы столицы. Родных у Гнедича не было. Иван Андреевич тяжело шагал рядом с Пушкиным. С Гнедичем уходило из его жизни не только прошлое, но и настоящее – откровенные беседы и споры по вечерам, встречи на лестнице, разговоры на службе в библиотеке. Ушел преданный друг, благородный и чистый человек, которому одному Крылов приоткрывал свои истинные думы.
На кладбище священник с дьяконом быстро отслужили панихиду. Гроб опустили в заранее вырытую яму. Ивану Андреевичу первому выпала горькая честь бросить на гроб несколько мерзлых тяжелых комьев земли. Стали расходиться, с тревожным чувством поглядывая друг на друга: при солнечном свете видно было, как все постарели за время, прошедшее с последних встреч.
На обратном пути Пушкин подвез Ивана Андреевича в своей карете. Пушкин рассказал ему, что только что приступил к работе над историей Пугачева, единственного, по его словам, поэтического лица в русской истории. Александр Сергеевич улыбнулся, сверкнув ослепительно белыми зубами, и доверительно сообщил, что он пустился на хитрость и, для того чтобы познакомиться с секретными бумагами о Пугачеве, заявил, что они ему нужны для изучения жизни Суворова. Александр Сергеевич поделился планом задуманной им поездки на Урал по пугачевским местам. В свою очередь, Иван Андреевич вспомнил о детских впечатлениях. Ведь его отец защищал от Пугачева Троицкую крепость, а сам он с матерью пережил трудное время в осажденном Пугачевым Оренбурге. Пушкин с большим интересом слушал рассказы Крылова и попросил разрешения навестить его и записать эти воспоминания, которые ему будут полезны для работы. На углу Невского и Садовой они попрощались. Иван Андреевич с трудом вылез из кареты и медленно поднялся в свою квартиру. Она стала еще более пустынной и осиротевшей после смерти друга. Феничка с обычной воркотней и жалобами принесла ему обед: борщ да кашу. Ее кулинарные способности и охота далее этого не простирались. Сашеньки не было. Она была отдана в пансионат некоей немецкой мадам и там обучалась наукам и искусствам, служащим на пользу молодым девицам.
На могиле Гнедича вскоре был установлен памятник. Среди друзей, подписавшихся на сооружение надгробного монумента переводчику Гомера, в списке жертвователей имена Крылова и Пушкина стояли рядом.
На граните высечен был стих «Илиады», избранный Жуковским: «Речи из уст его вещих сладчайшия меда лилися».