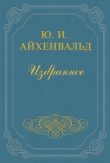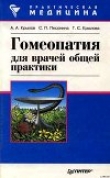Текст книги "Крылов"
Автор книги: Николай Степанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Розовый павильон
Весной 1823 года Иван Андреевич почувствовал себя плохо. Затылок сжимала тупая мучительная боль, в глазах мелькали неуловимые черные мухи, тело отяжелело. От прилива крови к голове в ушах стучали молоточки. Подымаясь с дивана, он упал. Через несколько дней последовал второй удар. Щека оказалась парализованной, лицо искривилось. С большим трудом добрался он до Олениных. Заплетающимся языком проговорил, обращаясь к Елизавете Марковне: «Ведь я сказал вам, что приду умереть у ног ваших!»
Немедленно были призваны врачи, за ушами поставлены пиявки, и Иван Андреевич несколько недель пролежал в доме Олениных. Недюжинное здоровье и внимательный уход победили болезнь. Он стал поправляться, правда очень медленно. Весть о болезни баснописца всполошила всю столицу. По городу ходила злая эпиграмма, сочиненная Кондратием Рылеевым:
Нет одобрения талантам никакого,
В России глушь и дичь.
О даровании Крылова
Едва напомнил паралич.
Эпиграмма была вызвана тем, что, узнав о тяжелом состоянии баснописца, вдовствующая императрица Мария Федоровна пригласила его к себе в Павловск до выздоровления.
Мария Федоровна любила, чтобы ее считали благодетельницей литературы и искусства. Забота о Крылове делала ее популярной в глазах общества. Она родилась в маленьком немецком княжестве, и молодость будущей императрицы прошла при захудалом герцогском дворе. По прихоти Екатерины II нищая немецкая принцесса София Доротея Августа Луиза сделалась в семнадцать лет женою наследника русского престола Павла Петровича и, перейдя в православие, стала именоваться великой княгиней Марией Федоровной. При жизни Екатерины она испытала немало лишений и унижений, так как властная императрица ненавидела своего сына и держала его и невестку в постоянном подозрении и страхе. Да и после воцарения Павла I бывшей принцессе Софии Доротее пришлось нелегко: она была вынуждена делить влияние с любовницей императора – Нелидовой. Лишь теперь, являясь матерью царствующего императора, она нашла свое настоящее место. Она основала ряд благотворительных учреждений, покровительствовала литературе и искусству, собирая в Павловске поэтов и художников.
В Павловске господствовал культ семьи и сельского благодушия. Имелась «Семейная роща» с мраморной урной, «Храм дружбы», посвященный Екатерине II, «Памятник родителям» с высеченными на мраморных досках именами немецких родственников Марии Федоровны и, наконец, «Памятник супругу» – Павлу I: здание в стиле античного храма. Внутри храма помещался монумент, на котором изображена была сама Мария Федоровна, распростершаяся перед урной, а на барельефе пьедестала – все осиротевшее семейство задушенного императора. Подобно своим сверстницам, принцессам маленьких германских княжеств, Мария Федоровна была сентиментальна. Она любила сельскую идиллию и показывала пример хозяйственности.
В Павловском парке построены были «Шале» и «Ферма», при которой имелся коровник и птичник. Мария Федоровна в молодости даже сама доила самую спокойную из коров.
Но главной достопримечательностью Павловска являлся Розовый павильон, построенный Воронихиным. Деревянный павильон был окружен розами, розы вытканы на мебели и изображены на посуде. Павильон служил приютом для писателей и художников. Здесь читал главы «Истории государства Российского» Карамзин, читали свои стихи поэты – Нелединский-Мелецкий, Жуковский, Гнедич, Ф. Глинка, рисовал Орест Кипренский, декорации писали Гонзаго и Бруни.
Время в Павловске проходило в беспрерывных развлечениях. Императрица то ездила с гостями по парку в колясках, то устраивала литературные чтения, то приглашала для забавы общества фокусников или заезжих иностранцев с учеными обезьянами, собаками, дрессированными лошадками.
В Павловске обед неизменно начинался в четыре часа. Иван Андреевич кушал вдоволь, не обращая внимания на разговоры. Придворный куртизан Нелединский-Мелецкий как-то не удержался и шепнул ему: «Иван Андреевич, да пропусти хоть одно блюдо и дай императрице возможность попотчевать тебя». – «А ну как не попотчует?» – отвечал Крылов.
В зеленых рощах Павловского парка, в прогулках вдоль вьющейся лентой Славянки здоровье баснописца скоро восстановилось. Он повеселел и охотно шутил с окружающими. Ведь отшучиваться было много проще, чем говорить всерьез! Он отшучивался и от придворного этикета, и от покушений на его свободу, и от посягательства на его басни. Иван Андреевич избегал парадных вечеров, официальных излияний. Накануне торжественного обеда по случаю семейного праздника в царской фамилии он сослался на нездоровье, на то, что он якобы укушен ядовитой мухою, и не явился во дворец. На случай, если бы императрица обратила внимание на его отсутствие, Иван Андреевич направил шуточное послание ее любимой фрейлине Варваре Павловне Ушаковой:
Обласканный не по заслугам,
И вам и вашим всем подругам
Крылов из кельи шлет поклон,
Где, мухою укушен он,
Сидит, раздут как купидон —
Но не пафосский и не критский,
А иль татарский, иль калмыцкий.
Что ж делать?.. надобно терпеть!..
Но, чтоб у боли сбавить силы,
Нельзя ль меня вам пожалеть?..
Вы так добры, любезны, милы, —
Нельзя ль уговорить подруг,
Чтоб вспомнить бедного Крылова,
Когда десерт пойдет вокруг?..
Поверьте, он из ваших рук
Лекарством будет для больного.
Шутка была оценена по заслугам, и любителю десерта тотчас отправили фрукты и конфеты.
Во время пребывания Ивана Андреевича в Павловске во дворце был поставлен домашний спектакль. Разыгрывали в лицах «Демьянову уху». Сам баснописец изображал Фоку, а не в меру радушного хлебосола давний знакомец Крылова – князь Федор Голицын. Княжна Хилкова представляла безмолвную хозяйку. Зрители смеялись до слез, когда тучный и неуклюжий Иван Андреевич с непривычной быстротой, забрав в охапку свои пожитки, поспешно убегал от назойливого хозяина.
Иван Андреевич окреп и отдохнул. Его стала тяготить необходимость каждодневно облачаться во фрак или форменный вицмундир, обедать в чопорном обществе, быть неизменно приятным и улыбающимся. Он затосковал по своей засыпанной табачным пеплом квартире, по такому удобному, промятому его тяжеловесным телом дивану, Феничке, вечерам в Английском клубе.
Отпроситься было не так просто. Императрица скучала, и баснописец со своими забавными шутками и чудачествами развлекал ее. Иван Андреевич решил польстить императрице, заранее поблагодарить ее за гостеприимство, тогда она скорее его отпустит к привычной, привольной жизни. Он написал в ее честь басню «Василек», где в прозрачно аллегорической форме сравнивал себя с вянувшим васильком, оживленным взошедшим солнцем.
Свою басню он переписал в один из альбомов, находившихся в Розовом павильоне. Иван Андреевич правильно рассчитал – басня дала ему свободу. Польщенная императрица не стала противиться его отъезду.
Мария Федоровна и в дальнейшем благоволила к баснописцу. Она даже подарила ему дорогую фарфоровую чашку с крышкою. Чашка была тонкой работы, настоящий сакс, покрыта кобальтом, с живописью на клеймах. Но императрице стало ее жалко, и она послала камер-лакея взять чашку обратно. Однако Иван Андреевич не отдал. Императрице не осталось ничего другого, как сказать: «Что делать со стариком? Пусть она у него останется». Когда Ивану Андреевичу об этом сообщили, он тут же сочинил не очень-то почтительный экспромт:
Ест Федька с водкой редьку,
Ест водка с редькой Федьку.
«Рыбья пляска»
Крылов не любил царей. В его жизни они сыграли печальную роль. Екатерина прогнала его из столицы. При Павле I он не смел даже нос высунуть. Александру I Иван Андреевич также не доверял. Сладкие слова, многоречивые обещания нового императора расходились с его делами. Народ жил по-прежнему плохо. Мужики голодали и натужно шли за сохой, вспахивая помещичьи земли. Помещики немилосердно грабили и притесняли крепостных, праздно и постыдно живя за их счет. В судах и канцеляриях по-прежнему царили взяточничество, произвол. В литературе приходилось опасаться за каждое слово правды.
А царь, передав управление государством Аракчееву, беспрерывно разъезжал по заграницам и России. Говорили, что он уже наездил больше двухсот тысяч верст!
Александр никому не доверял: хотел все сам проверить, убедиться в том, что все находится в порядке, который он установил. Ему нравились долгие часы быстрой езды, депутации, торжественные обеды, высокопарные приветственные речи, склоненные в покорном поклоне спины и головы дворян, чиновников, городских обывателей. В 1819 году он отправился в далекий Архангельск. Рассказывали, что в каком-то провинциальном городке император, уже готовясь к отъезду, увидел из окна, что к дому приближалось довольно большое число людей. На вопрос государя губернатор отвечал, что это депутация от жителей, желающих принести его величеству благодарность за благосостояние края. Государь, поспешая с отъездом, отклонил прием этих людей. А как выяснилось позднее, они шли с жалобой на губернатора – жестокого лихоимца, который, однако, получил от государя награду.
Иван Андреевич немало смеялся этой истории. Он расспрашивал рассказчика о подробностях происшествия. Целую неделю Крылов не появлялся у Олениных. Сидел в халате на диване, выкуривая сигару за сигарой. Услышанный им рассказ задел его за живое. Ему представилась вся Россия: нищие мужики, жестокий произвол Аракчеева, безнаказанный грабеж народа, лицемерие царя, делающего вид, что он якобы заботится о порядке и законности. Иван Андреевич написал басню «Рыбья пляска». Это была смелая басня. В ней сказался прежний автор «Почты духов».
От жалоб на судей,
На сильных и на богачей,
Лев, вышед из терпенья,
Пустился сам свои осматривать владенья.
Он идет, а Мужик, расклавши огонек,
Наудя рыб, изжарить их сбирался.
Бедняжки прыгали от жару, кто как мог;
Всяк, видя близкий свой конец, метался.
На мужика, разинув зев,
«Кто ты? Что делаешь?» – спросил сердито Лев.
«Всесильный царь! – сказал Мужик, оторопев, —
Я Старостою здесь над водяным народом;
А это – старшины, все жители воды;
Мы собрались сюды
Поздравить здесь тебя с твоим приходом!» —
«Ну, как они живут? Богат ли здешний край?» —
«Великий государь! Здесь не житье им – рай!
Богам о том мы только и молились,
Чтоб дни твои бесценные продлились».
(А рыбы, между тем, на сковородке бились.)
«Да отчего же, – Лев спросил, – скажи ты мне,
Они хвостами так и головами машут?» —
«О мудрый царь, – Мужик ответствовал, – оне
От радости, тебя увидя, пляшут».
Тут Старосту лизнув Лев милостиво в грудь,
Еще изволя раз на пляску их взглянуть,
Отправился в дальнейший путь.
В басне все было неблагонамеренно. И весьма схожий с Аракчеевым Староста, который лживо уверял царя в благополучии «водяного народа», в то же время поджаривая своих подопечных на сковородке. И сам царь, продолжавший путешествие, не разобравшись в обмане и лицемерии своего Старосты!
Крылов долго таил эту басню даже от друзей. Ведь в ней речь шла о том, о чем отваживались говорить только близко знавшие друг друга люди и то лишь с глазу на глаз. Аракчеев внушал всеобщую ненависть. Его боялись. После событий в Чугуеве имя его произносилось с особенной ненавистью. Аракчеев по всей России основал военные поселения для солдат. Это были лагеря, в которых солдаты совмещали военную муштру с занятием сельским хозяйством. В поселениях были введены военный режим, палочная дисциплина, жесточайшие наказания за малейшую провинность. Все это вызывало ропот и широкое возмущение во всех кругах общества. Бунт в Чугуеве, вызванный жестоким обращением начальников, получил широкую огласку. На кровавую расправу граф Аракчеев явился лично. Он приговорил многих солдат к «лишению живота» и наказанию шпицрутенами, а остальных заставил каяться на коленях, что также не избавляло от тяжелых побоев и увечий. В ответ на письмо Аракчеева, извещавшего царя о «благополучном завершении» экзекуции, Александр I прислал палачу свою «искреннюю благодарность» за его «труды».
Иван Андреевич ядовито высмеял в басне и жестокое самоуправство Аракчеева и лицемерные «заботы» царя – весь тот произвол и безобразия, которые господствовали в стране. Алексей Николаевич Оленин, когда Крылов, наконец, показал ему басню, пришел в ужас. Неужели Крылову мало тех бед и неприятностей, которые он испытал в молодости! Нельзя же не понимать, что появление такой басни, даже если ее пропустит цензура, что весьма маловероятно, повлечет за собой немилость, а быть может, и новые гонения? А в какое положение Иван Андреевич ставит его, Оленина, своего друга и покровителя, которому он обязан благополучием? Нет, он не может этого допустить! Басня должна быть решительным образом переделана, а ее первоначальный текст уничтожен.
Крылову не оставалось ничего другого, как послушаться своего начальника и благодетеля, и он с крайней неохотой переделал басню. Старосту, в котором легко было узнать Аракчеева, он заменил воеводой Лисой. Остальное осталось по-прежнему. Только в заключении басни царь Лев не «милостиво» лизнул «воеводу», а подверг его вместе с «куманьком» заслуженному наказанию, тем самым показав свою справедливость и заботу о подданных:
Не могши боле тут Лев явной лжи стерпеть,
Чтоб не без музыки плясать народу,
Секретаря и воеводу
В своих когтях заставил петь.
Но и в таком виде басню удалось напечатать лишь через четыре года, когда из памяти современников изгладились события, натолкнувшие баснописца на ее написание. Много лет спустя после смерти баснописца его давняя приятельница В. А. Оленина подтвердила истинный смысл басни. «В таком виде (то есть в первоначальной редакции, в тайне сохраненной Крыловым для потомства. – Н. С.) Крылов хотел напечатать эту басню, но цензор, вообразив, что баснописец разумеет в ней путешествовавшего тогда по России императора Александра, положительно ее запретил. Это так оскорбило Крылова, что он в порыве негодования хотел было уничтожить свою басню, но уступил, наконец, просьбе своих друзей и переделал ее». Варвара Алексеевна и через полсотни лет была осторожна и сказала далеко не все, что знала.
На Марсовом поле регулярно устраивались парады. Сверкавшие на солнце штыками, с начищенной до блеска амуницией, проходили стройными рядами солдаты, старательно вытягивая носки лакированных сапог. Александр Павлович любил парады, марши военных оркестров, сверкание эполет, орденов, ослепляющих на солнце сабель. В шляпе с пучком пестрых перьев, в туго натянутых лосинах, в парадном мундире, он особенно зримо чувствовал свою власть и силу. Шеренги солдат послушно выполняли сложные построения и казались неодушевленными существами, аккуратно отлитыми и раскрашенными оловянными солдатиками.
Солдаты не должны думать: их дело послушно маршировать. Да и вообще думать не следовало и дворянству. Оно лишь обязано выполнять царские предначертания. Все беды от вольтерианцев и масонов, немецких тугендбундов и итальянских карбонариев. Необходимо строго следить за порядком, пресекать вольномыслие. Император поручил это испытанному и верному слуге Аракчееву. Граф Аракчеев твердо знал свои обязанности: девизом он избрал слова «Без лести предан», выгравированные на его печати. Аракчеев хорошо знал службу. Его карьера началась еще при безумном Павле. Главное – это точное исполнение предписаний, дисциплина, послушание. Он принялся настоятельно насаждать эти устои. Завел железную дисциплину в армии, шагистику, жестокие наказания. Для крестьян – военные поселения, тоже с грохотом барабанов, шпицрутенами, учениями.
В 1820 году произошла новая трагическая история: взбунтовался Семеновский полк – любимый полк императора. В этом полку среди офицеров имелось немало членов тайного общества. Командный состав отличался гуманным обращением с солдатами, в полку не приняты были телесные наказания, солдат хорошо кормили и не мучили бессмысленными учениями. Этот вольнодумный дух раздражал Аракчеева, и для наведения порядка командиром полка назначен был его ставленник – полковник Шварц, известный своей жестокостью и педантизмом. Шварц завел новые порядки: бесконечные ученья, шагистику, штрафы и суровые наказания за малейшую оплошность. Озлобленные, ожесточенные солдаты отказались от повиновения. Это не был бунт или вооруженное восстание, но в условиях беспрекословной дисциплины подобное неповиновение приравнено было к бунту. Казармы семеновцев окружили войсками, солдат предали военному суду.
История возмущения Семеновского полка стала широко известна в столице. О ней много и с гневом говорили, правда озираясь по сторонам: не подслушивают ли? Во всех подробностях эта история стала известна и в доме Олениных. Алексей Николаевич передавал, что император, находившийся в это время за границей, заподозрил в «бунте» происки тайных революционных организаций и настаивал на беспощадной расправе с семеновцами. Александр I писал Аракчееву: «Легко себе можно вообразить, какое печальное чувствие оно во мне произвело, происшествие, можно сказать, неслыханное в нашей армии… Заключаю я, что было тут внушение чуждое… я его приписываю тайным обществам». Эти слова императора Оленин передавал шепотом, сообщая, что граф Аракчеев самолично ведет следствие и надо ожидать строгих мероприятий. Наконец по возвращении царя был издан приказ, в котором переплеталось показное «великодушие» Александра с требованием самых суровых и жестоких кар. «С непоколебимою решимостью, но с душевным сокрушением и не останавливаясь чувством личной моей привязанности… повелеваю: всех нижних чинов лейб-гвардии Семеновского полка распределить по разным полкам армии. Виновнейшие же и подавшие пагубный пример прочим, преданные уже военному суду, получат должное наказание по всей строгости законов». Говорили, что, подписывая этот приказ, царь плакал. Александр I был прирожденный актер и опытный лицемер. Он умел обманывать своим притворством даже близких ему людей.
На вечерах Оленина по-прежнему собиралось общество его друзей и постоянных завсегдатаев. Горячо обсуждали недавние события, все были взволнованы трагической судьбой семеновцев. Иван Андреевич, как и всегда, не выказывая особенного внимания, слушал споры и рассказы. Ему ясно представлялась горестная судьба несчастных солдат, многие из которых геройски сражались в Отечественную войну.
Вскоре после этих событий, потрясших всю столицу, Иван Андреевич, подождав, пока от Олениных разошлись гости и остались лишь домашние, отозвал Алексея Николаевича в угол гостиной и вполголоса прочел новую басню. Она называлась «Пестрые овцы»:
Лев пестрых не взлюбил овец.
Их просто бы ему перевести не трудно;
Но это было бы неправосудно:
Он не на то в лесах носил венец,
Чтоб подданных душить, но им давать расправу;
А видеть пеструю овцу терпенья нет!
Как сбыть их и сберечь свою на свете славу? —
начал свою басню Иван Андреевич и стал рассказывать дальше о том, как царь Лев призвал на совет Медведя и Лису, чтобы решить, каким образом избавиться от «пестрых овец». Прямолинейное предложение Медведя «передушить» всех овец «без дальних сборов» не встречает сочувствия у Льва: он не желает прослыть жестоким деспотом. Ему по душе совет Лисицы, лицемерно возражающей против «пролития» «невинной крови». Лисица предложила более тонкий способ уничтожения ненавистных царю овец:
«Дай повеленье ты луга им отвести,
Где б был обильный корм для маток
И где бы поскакать, побегать для ягняток;
А так как в пастухах у нас здесь недостаток,
То прикажи овец волкам пасти.
Не знаю, как-то мне сдается,
Что род их сам собой переведется.
А между тем пускай блаженствуют оне;
И чтоб ни сделалось, ты будешь в стороне».
Алексей Николаевич серьезно встревожился. Его миниатюрная ручка сжалась в кулачок. Он почти закричал тоненьким, ребячьим голоском: «Иван Андреевич! любезнейший друг! Ну что ты такое написал? А ежели граф Алексей Андреевич на свой счет Медведя примет? Да и намек смогут увидеть на известную историю? Да и сам Лев – кто такой? Страшно помыслить даже!» Маленький, смертельно напуганный, он трясся как в лихорадке, размахивая своим крошечным кулачком. «Нет, Иван Андреевич, ты мне этого не читал и не писал. Забудем об этом».
«Пестрые овцы» так и не были напечатаны при жизни баснописца.
Братец Левушка
Иван Андреевич продолжал добросовестно трудиться в библиотеке. Почти ежедневно он отправлялся по вечерам к Олениным или в Английский клуб, а дома полеживал на своем протертом диване. Со всеми он был равно доброжелателен и приветлив. Обычно учтиво хвалил все, что ему предлагали, и, казалось, сейчас же об этом забывал, погружаясь в свои мысли. «В домашнем быту и обхождении, – вспоминал о нем его сослуживец М. Е. Лобанов, – Иван Андреевич был отменно радушен, приятно разговорчив, но искренен редко и только с ближайшими, испытанными друзьями. Он все хвалил из учтивости, чтобы никого не огорчить, но в глубине души своей не много одобрял…»

Затаенное высказывалось в баснях. Война 1812 года, военные поселения, бунт Семеновского полка и многие другие события вызвали появление басен «Волк на псарне», «Ворона и Курица», «Рыбья пляска», «Пестрые овцы». Но иногда и незначительные происшествия привлекали внимание баснописца. Это случалось, когда в этих происшествиях проявлялись типичные для своего времени черты.
В 1814 году в столице сильно нашумело бракоразводное дело Е. Б. Фукса, который, разведясь с первою женою и не дождавшись окончания дела, возникшего по поводу его развода со второю, перешел из лютеранского вероисповедания в православное и вступил в третий брак. По указанию царя это дело разбиралось в Сенате. Возникло много споров, росли тома протоколов, показаний, мнений. Иван Андреевич внимательно следил за перипетиями этого процесса и, наконец, напечатал в журнале «Сын отечества» басню «Троеженец». В ней он язвительно советовал вернуть «троеженцу» всех его жен. После появления басни во время очередного заседания Сената кто-то из сенаторов заявил: «Что же нам рассуждать об этом? Крылов прежде нас решил дело!» Фукс был весьма обижен на баснописца. Однако Крылов и в этом случае не собирался только посмеяться над незадачливым любвеобильным мужем. Сатира его басни приобрела широкое обобщение и сохранила свою остроту даже тогда, когда о Фуксе давным-давно позабыли.
К домашним делам и событиям Крылов стал совершенно равнодушен, неприхотлив и в своих бытовых нуждах. Важнее всего было избавиться от посягательств на его личную жизнь, получить досуг для мыслей. Его считали лентяем? Ну и пусть! Меньше внимания обратят на его басни. Его считают скрытным? Прекрасно! Пускай так думают, лишь бы не мешали…
Был лишь один человек, которого он нежно любил и жалел. Его брат Левушка. Иван Андреевич заменял ему отца. Но Левушка давно уже вырос и даже состарился прежде времени, а все оставался неудачником, бедняком-горемыкой, одиноким бобылем, как и сам Иван Андреевич. За тридцать лет военной службы, походов, сражений, скитаний по маленьким провинциальным городкам и местечкам Левушка совсем расстроил свое здоровье. Он часто присылал «тятеньке» длинные письма, исполненные жалоб на здоровье, на расстроенное зрение и на не менее расстроенные финансы. «Я нетерпеливо желаю тебя видеть, – сообщал Левушка брату в 1818 году, – мы никогда не были столь долго с тобою в разлуке. Вот уже двенадцать с половиною лет, как мы с тобою расстались, а у нас никого больше родни нет. Божусь тебе, любезный тятенька, меня это весьма крушит, что мне кажется, что я умру, не видевши тебя». Далее Левушка по обыкновению сообщал, что по милости брата он ни в чем нужды не терпит и всем доволен, и в заключение просил Ивана Андреевича прислать его новые сочинения.
Иван Андреевич любил братца, но писал ему редко, хотя больно переживал разлуку с ним. Ведь братья не виделись с тех пор, как Левушка служил в Серпухове и к нему приезжал Иван Андреевич в 1805 году. Теперь Левушка оказался в далеком Каменец-Подольске: поди-ка туда доберись! Иван Андреевич дальше, чем в Приютино, не ездил: путешествие хлопотно, утомительно, дорого. А Левушку посылают в разные места, все равно за ним не угонишься! Вот и теперь у него неприятности.
Поздравляя брата с пасхой, Левушка сообщил ему о новой, неожиданно нагрянувшей беде. В Каменец ожидается проездом государь Александр Павлович. Приготовления к встрече государя поглотят все годовое жалованье, так что на жизнь ничего не остается. «Я, слава богу, здоров и по милости твоей нужды не терплю, – писал, как обычно, Левушка. – Мы теперь, любезный тятенька, имеем уже маршрут путешествия государя императора. Он сюда прибудет непременно 25-го апреля на ночь, а 26-го здесь будет обедать, и уже делают приготовления для угощения государя. Мы также приготовляемся: наш гарнизонный караул ему будет, и для того баталионный командир всем офицерам в счет жалованья купил весь прибор серебряный, то есть шарфы, темляки, витишкеты, эполеты, и строит всем новые мундиры с панталонами единообразные, что все будет стоить около 250 рублей ассигнациями на каждого… а если хороший прибор, то и в 400 рублей не вогнали бы. И как теперь я должен быть почти целый год без жалованья. Но я надеюсь на тебя, голубчик тятенька, что ты меня не оставишь и не допустишь до нищеты… Прошу тебя, голубчик тятенька, помоги!»
Месяца через полтора после императорского посещения Левушка был переведен в «инвалид» и назначен командиром инвалидной команды в Винницу. Тут опять пошли новые непредвиденные расходы, так как Левушка решил обзавестись «маленькой лачужкой и огородом» и купил себе хутор. Иван Андреевич и здесь помог и для развлечения брата прислал ему скрипку.
Но неприятности незадачливого Левушки продолжались. То снова ожидался приезд государя и шился новый мундир, то Левушка прожился, выезжая на следствие, то пала корова, то он болел.
Левушка был большим почитателем басенок своего «тятеньки» и постоянно просил его о присылке новых. В одном из писем к брату в 1823 году он сообщал: «Читал я басни г. Измайлова, но в сравнении с твоими, как небо от земли: ни той плавности в слоге, ни красоты нет, а особливо простоты, с какою ты имеешь секрет писать, ибо твои басни грамотный мужик и солдат с такою же приятностию может читать… как и ученый… Читал и сочинения г. Жуковского, но он, как мне кажется, пишет только для ученых и занимается вздором, а потому слава его весьма ограниченна. А также г. Гнедич, человек высокоумный и щеголяет на поприще славы между немногими. – Но как ты, любезный тятенька пишешь – это для всех: для малого и для старого, для ученого и простого, и все тебя прославляют… Басни твои – это не басни, а апостол».
Несмотря на беспрерывные просьбы братца Иван Андреевич так и не решился к нему выбраться, посмотреть его хуторское хозяйство. А в 1824 году он получил известие о неожиданной смерти Левушки.
Так братьям и не довелось свидеться. Братний хуторок Иван Андреевич подарил его денщику, преданно ухаживавшему за Левушкой, а немудреный домашний скарб – соседям и сослуживцам. После смерти Левушки Иван Андреевич помрачнел, хотя и ни в чем не изменил своего образа жизни. По-прежнему проводил он вечера у Олениных, посещал Английский клуб, курил сигары на протертом диване своей комнаты. Его мрачность и молчаливость беспокоили окружающих, но они не решались расспрашивать Ивана Андреевича, зная его постоянную скрытность. Лишь добрейшая Елизавета Марковна, улучив подходящую минуту, спросила его: «Что с вами было, Крылочка? Вы на себя не походили». – «У меня, Елизавета Марковна, было на свете единственное существо, связанное со мною кровными узами: у меня был брат. Недавно он умер. Теперь я остался один».