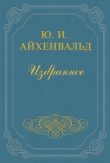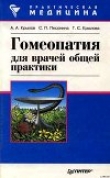Текст книги "Крылов"
Автор книги: Николай Степанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
VI. Второе рождение
Любя отечество, люблю я тех душой,
Которы общею не страждут слепотой;
На моды не смотря, привыкли тем гордиться,
Что привела судьба их русскими родиться.
В числе их ты, Крылов, – и, дочкам дав урок.
Соотчичей драгих являешь нам порок…
С. Марин, Драматический вестник, 1808
«Модная лавка»
Петербург был встревожен. Беспокойство из дворца проникало в гостиные, на улицы, в купеческие лавки. Начинались пересуды. Опасливо, вполголоса говорили о Бонапарте, который хочет захватить всю Европу и свергнуть государей с их тронов. Среди простого народа ходили слухи об освобождении крепостных из помещичьей неволи.
Правительство опасалось роста недовольства и брожения. Был спешно создан комитет по «сохранению всеобщего спокойствия и тишины граждан», который стал ведать полицейскими мероприятиями вместо «Тайной экспедиции», уничтоженной Александром при восшествии на престол.
Крылов приехал в Петербург вскоре после возвращения Александра I из бесславного заграничного похода в Пруссию, завершившегося поражением под Аустерлицем. Император вернулся омраченным и раздражительным. Посыпались наказания, разжалования, немилости.
Новый император мечтал о военных и политических подвигах, о переделе Европы, о роли дирижера в европейском оркестре. Крушение этих планов разочаровало Александра, оттолкнуло его от той игры в либерализм, которой он начинал свое царствование. Он приблизил любимца покойного государя – генерала Аракчеева. Этот был строг и положителен в суждениях, тверд и надежен. Престолу нужны преданные слуги. Аракчеев снова стал делать карьеру.
Перед самым Новым годом, в разгар театрального сезона приехали в Петербург Сандуновы. Елизавета Семеновна играла с неизменным успехом все в той же «Русалке», а Сила Николаевич выступал в роли Скапена в мольеровской комедии «Проделки Скапена». Его Скапен был изворотлив, находчив, лукав, хитер, и публика все время разражалась аплодисментами. Крылов постепенно осматривался. Столица была по-прежнему красива. Замерзшая Нева блестела на солнце миллионами искр. Снег плотно покрывал проспекты и площади, казавшиеся особенно чистыми, и заглушал городской шум. Около театра и на площадях горели в железных клетях костры, вокруг которых грелись извозчики, дворники, солдаты, разносчики. Иван Андреевич любил постоять с ними, поболтать, послушать новости, запомнить острое, бойкое словцо.
Он сразу же оказался в хорошо знакомой ему среде. Долго обнимался с Дмитревским, старым, заботливым другом. Иван Афанасьевич сильно одряхлел и уже не выступал на сцене. На театре появились новые таланты – трагик Яковлев, комик Пономарев, актрисы Самойлова и Екатерина Семенова. Произошли перемены и в репертуаре. Со сцены не сходила «Днепровская русалка», ставившаяся по частям: в трех спектаклях. Пользовались успехом комедии и оперы князя Шаховского – «Беглец от своей невесты», «Коварный». Дамы охотно проливали слезы над исторической драмой Коцебу «Гуситы», в которой главную трагическую роль играл Яковлев.
Начался новый, 1806 год.
Иван Андреевич приехал в Петербург не с пустыми руками. У него была с собой написанная еще в Москве комедия «Модная лавка». Вспомнился первый приезд в столицу, когда он, четырнадцатилетний подросток, ввалился к Брейткопфу с рукописью «Кофейницы». Но «Кофейница» так и не попала на сцену. «Модная лавка» должна принести ему победу.
Он читал ее у нового законодателя столичного театрального мира князя Шаховского. Александр Александрович Шаховской служил начальником репертуарной части петербургских театров. Он сочинял комедии и драмы, а в молодости выступал в качестве актера в любительских спектаклях. Он поклонялся театру, жил для театра. В его квартире собирались актеры, начинающие драматурги, переводчики.
Крылова привел к нему Дмитревский. Шаховской жил у Калинкина моста. Они вошли в обширный кабинет. С левой стороны стояли шкафы с книгами, на шкафах бюсты древних философов и великих писателей. По стенам развешаны, с соблюдением строгого хронологического порядка, гравированные портреты замечательных людей во всех областях человеческих знаний. Ближе к окнам помещалась конторка для писания. По всей комнате разбросаны были диваны, диванчики, табуреты, многоразличные кресла.
Шаховской встретил их приветливо. Был он тучен, лыс. Маленькая голова посажена на обширное, круглое туловище: казалось, что князь сложен из двух надувных шаров – малого и большого. По бокам лысого черепа вились длинные, тщательно завитые волосы. Острый, горбатый нос выглядывал между мясистых одутловатых щек. Лишь маленькие карие глаза были полны огня и блестели из-под нависших бровей. Несмотря на раннюю тучность, Шаховской был быстр в движениях.
В кабинете находилось уже несколько актеров – Яковлев, Рыкалов, Пономарев, Бобров, Рахманова. Крылов читал поначалу вяло, сбиваясь с тона. Но ко второму действию он разошелся и стал придавать действующим лицам характерное выражение. Комедия начиналась со сцены в модной лавке мадам Каре. Молодой офицер Лестов беседует с модисткой Машей, крепостной его сестры. Лестов рассказывает ей о своей любви к Лизе, дочери курского помещика. Он познакомился с Лизою во время похода, остановившись на постой в имении ее отца. В лавку входит помещица Сумбурова, мачеха Лизы. Она приехала с мужем и падчерицей в Москву за модными туалетами. Вздорная, невежественная Сумбурова – раболепная поклонница французских мод и презирает все свое, русское. Увидав Машу, Сумбурова разочаровалась было, заподозрив, что ее привели в русскую, а не французскую лавку: «Право, так? виновата, душа моя! Услышала, что ты говоришь по-русски, я уж было испужалась. Мои скоты ведь ничего не смыслят: они и в самом деле готовы завести в русскую лавку, а мне надобны лучшие товары: я сряжаю приданое падчерице». Госпожа Сумбурова во многом похожа на столь ненавистный Крылову тип крепостницы помещицы, властной и своевольной, который он не раз уже показывал в своих пьесах. Выясняется, что Сумбурова задумала выдать падчерицу замуж за соседа помещика. Лестов решает привлечь на свою сторону Машу, чтобы она помогла ему расстроить этот брак и жениться на Лизе.
По сравнению с прежними пьесами «Модная лавка» была сценичнее: комедийные ситуации в ней разработаны гораздо тщательнее и правдоподобнее, превосходен живой диалог, сочно и метко передана речь каждого персонажа. Комедия написана превосходным русским языком, изобилующим народными выражениями и словечками. Удались Крылову и крепостные: Маша, Андрей – слуга Лестова и Антропка – слуга Сумбуровой. Антропка по деревенской наивности все время удивляется нелепости и дороговизне барских затей: «Так сюда-то наши бояра из такой дали деньги возят?» – спрашивает он у Лестова, прибавляя: «…Ужели эти наряды в будни носят, что их наделано так много?» Эти простодушные реплики оборачивались весьма ядовитой сатирой.
Неожиданно появляется Сумбуров, взбешенный тем, что его супруга отправилась во французскую лавку. Отругав жену, он уводит ее из лавки, приговаривая, что «ни одна французская душа моей копейки в глаза не увидит». Заурядный провинциальный помещик, но наделенный здравым смыслом, Сумбуров получился живым, полнокровным. Это наиболее удачный персонаж комедии. Желая излечить жену от французомании, Сумбуров предлагает Маше перейти к ним в портнихи, но внезапно появившаяся супруга истолковывает этот разговор как шашни своего мужа с Машей. События все более и более запутываются. Лестов похищает Лизу, чтобы тайно на ней жениться. Маша прячет в шкаф Сумбурову во время полицейского обыска в лавке, учиненного по доносу проходимца француза Трише. Комедия кончается тем, что Лестов спасает от скандала и огласки чету Сумбуровых и получает в награду руку Лизы.
Дело, однако, не в занимательности сюжета и комизме отдельных ситуаций, а в верности красок, в типичности героев, выхваченных Крыловым из жизни. Крылов продолжил традиции фонвизинсккх комедий, коснулся наболевших сторон русской действительности, показал характеры в острых комедийных положениях.
Слушатели были захвачены комедией. По окончании чтения все расхваливали пьесу и предсказывали ей большой успех. Хозяин дома шумно вскочил и, переваливаясь с боку на бок, подбежал к автору. «Ну, братец, разодолжил ты меня! – без конца повторял он. – Наши барыньки будут злы как осы! Это тебе не французские ракалии, – Шаховской в волнении всегда повторял это полюбившееся ему словечко, – а настоящая русская комедия!» Дмитревский радостно улыбался. Актеры поздравляли Ивана Андреевича, уставшего от долгого чтения. Он тяжело дышал, даже сюртук на спине промок от пота.
«Модную лавку» приняли к постановке. Начались репетиции, и 27 июля состоялся первый спектакль в Большом театре. Рыкалов был превосходен в роли Сумбурова. Рахманова неподражаемо исполняла роль его жены. Особенным успехом пользовался Пономарев, отлично сыгравший слугу Антропку. Публика полюбила комедию, и «Модная лавка» в течение многих лет не сходила со сцены.
В журнале «Лицей» появилась восторженная рецензия, автор которой писал: «Из одного содержания можно увидеть, как должна быть смешна сия комедия. Но автор употребил машины такие комические, что почти в продолжение всей пьесы смеешься».
Роль разбитной, плутоватой Маши играла молоденькая актриса Бельо, перешедшая в драматическую труппу из балетной. Миловидная, изящная балерина покорила Ивана Андреевича. Он таял в ее присутствии и робко за нею ухаживал. Даже уговорил ее оставить балет и сам взялся руководить ею при разучивании роли. Эти занятия очень увлекали учителя, однако принесли несомненную пользу и ученице.
«Модная лавка» дала Крылову известность. О нем заговорили, его стали приглашать на вечера, на собрания литераторов, в столичные салоны. Знакомства с ним добивались. Он стал своим человеком в доме Державина на Фонтанке. Его приглашали на вечера к адмиралу Шишкову, у которого собирались приверженцы славянорусского слога. Шаховской ввел его в дом А. Н. Оленина, ученого-археолога, любителя и знатока искусств.
Успех «Модной лавки» побудил Крылова продолжить работу в театре. Вслед за комедией он написал «волшебную оперу», которая должна была своей национальной патриотической темой противостоять «Русалке», так пришедшейся по вкусу публике. Крылов обратился к былинам и русским сказкам, на основе которых и сложилась опера «Илья Богатырь». Это была опера-былина, действие которой происходило в древней Руси, на Черниговщине. Автор не стремился к исторической точности, сделав героями оперы придуманных им персонажей, да и самый сюжет свободно сочетал как былинные мотивы, так и сказочную фантастику. В «Илье Богатыре» события не сложны. Князь Черниговский Владисил ожидает свою невесту болгарскую княжну Всемилу, с которой он обручен. Но этому браку стремится помешать дочь князя печенегов Зломека, злая волшебница, которая находится в плену у Владисила. Зломека собирается женить князя на себе и подготовила коварный план. Ее отец князь печенежский Узбек захватывает Всемилу и осаждает со своим войском Чернигов. На выручку Владисилу приходит русский богатырь Илья и после ряда героических подвигов разбивает печенегов и освобождает Всемилу. Илье помогает волшебница Добрада и ее дочь Лена. Особенно понравились зрителям комические персонажи – шут Тароп и его невеста Русида.
31 декабря 1806 года был поставлен в первый раз «Илья Богатырь» – «волшебно-комическая опера в 4 действиях, соч. Крылова, с хорами, балетами и сражениями, музыка соч. Кавоса», как гласила афиша. В спектакле участвовали лучшие силы театра: роль Ильи исполнял Яковлев (а впоследствии Бобров), Владисила – Самойлов, Всемилу – Болина, Таропа – Воробьев. Спектакль прошел с большим успехом и долго привлекал публику. Патриотическая тема и сюжет оперы пришлись ко времени. Захватнические войны Наполеона, угроза нападения французов вызвали патриотический подъем в русском обществе.
Пышные декорации, шумные батальные сцены, героические арии, содействовали успеху. В конце последнего действия зрители становились свидетелями победы русских воинов во главе с Ильей Богатырем. Хор со сцены торжественно возглашал:
Вы летите к нам, забавы,
Радость, будь во всех сердцах.
Гром побед и нашей славы,
В ратных ты греми полях!
Этот патриотический апофеоз встречался бурей аплодисментов.
На первом спектакле присутствовал давний знакомец Крылова по Казацкому Филипп Филиппович Вигель. Со свойственной ему едкостью он рассказал Жихареву, что после того, как представления «Русалки» перестали привлекать публику, ей сделали наследницу «Днепровскую русалку», а затем, когда и к ней истощилась любовь зрителей, то сочинили и третью и четвертую части, успех которых был и вовсе невелик. Между «Русалками» и восстал «Илья Богатырь». Крылов, по словам Вигеля, написал свою оперу небрежно, шутя, но так умно и удачно, что его герой убил волшебницу немку.
Жихарев в ответ процитировал двустишие, которое приписывали директору театра Нарышкину:
Сравненья критиков двух опер очень жалки:
Илья сто раз умней «Русалки»!
Крылов прекрасно понимал, что его «Илья», при всем успехе у зрителей, не является путем, которым ему следует идти. «Волшебная опера» – лишь проба сил, дань жаждущему зрелищ зрителю. Он написал еще одну комедию – «Урок дочкам», поставленную в июне 1807 года. Этой комедией Крылов продолжил начатое им в «Модной лавке» осмеяние французомании, охватившей широкие круги дворянского общества. В «Уроке дочкам» много удачно найденных бытовых черт, комических ситуаций, выразителен и ярок ее язык. Это смешная история о том, как ловкий, разбитной слуга Семен, случайно оказавшийся в деревне провинциального помещика Велькарова, выдает себя за французского маркиза и одурачивает провинциальных модниц – дочерей Велькарова Лукерью и Феклу, благоговеющих перед всем иностранным.
Особенно удались Крылову эти доморощенные деревенские кокетки, мечтающие о праздной, но веселой столичной жизни и о французском языке, на котором отец запретил им разговаривать. Семен, изображая французского маркиза, говорит на ломаном русском языке, а Лукерья и Фекла тщетно пытаются объясняться с ним по-французски.
Комедия «Урок дочкам» имела не меньший успех, чем «Модная лавка». В ролях дочек выступали молодые актрисы Петрова и Бельо, так нравившаяся Крылову.
Оленины
Особенно охотно Крылов посещал дом Олениных, в который ввел его Шаховской. Там всегда можно было узнать свежие политические новости, получить последние известия о литературной жизни, о театральных премьерах, о научных открытиях. У Олениных встречались дипломаты и ученые, писатели и художники, актеры и светские прелестницы. Здесь создавались репутации, произносились приговоры новым книгам и новым спектаклям. В гостиной Олениных бывали люди разных поколений, вкусов и взглядов. Наряду с Державиным, Дмитриевым, Капнистом, Дмитревским там появлялись люди нового времени – Гнедич, Озеров, Батюшков. Но и они чувствовали себя здесь уверенно и свободно. Их встречали столь же дружественно, привлекали к домашним пенатам с тем же радушием, что и чиновных и заслуженных деятелей прошлого века.
Сам хозяин – Алексей Николаевич Оленин, племянник екатерининского вельможи князя Григория Волконского, получил образование за границей. Он обучался в Страсбургском университете, а затем в Дрезденском артиллерийском училище. Участвовал в шведской кампании, строил фортификационные сооружения и дослужился до обер-офицерского чина. Лишь недавно ушел в отставку, но продолжал носить милиционный мундир. Алексей Николаевич отличался миниатюрностью, почти кукольностью. Знаток античной филологии и истории, он владел несколькими языками, был страстным археологом и нумизматом и преданно любил литературу и театр. Кроме того, Оленин прекрасно рисовал, хорошо знал естественные науки и состоял в переписке с европейскими знаменитостями – Гумбольдтом, Шамполионом, Шлецером. Сам император покровительствовал крошке Оленину и прозвал его «Tausendkünstler» – тысячеискусником.
Душою дома, его гением-хранителем была жена Оленина – Елизавета Марковна. Умная, добрая, хлопотливая женщина. Лицо ее сохранило былую красоту, хотя к сорока годам она стала грузной. Ее отец Полторацкий являлся основателем придворной певческой капеллы и родоначальником многочисленного потомства. Сама Елизавета Марковна имела двух дочерей и двух сыновей. Она часто болела и постоянно чувствовала какие-то недомогания. Но и лежа в гостиной на мягком диване, любезно улыбалась окружавшим ее гостям.
У Олениных Крылов встретился с Николаем Ивановичем Гнедичем. Гнедич писал стихи, любил декламировать их нараспев, с пафосом, наподобие античных гекзаметров. Жил он в мире Гомера, герои «Илиады» и их дела были ему лучше знакомы и ближе его сердцу, чем петербургские проспекты и канцелярии. Родом из Украины, Гнедич по окончании полтавской семинарии обучался в Московском университете. Переехав в столицу, он стал завсегдатаем у Олениных. С Алексеем Николаевичем его сближало их общее преклонение перед античностью. Гнедич уже начал главный труд своей жизни – перевод «Илиады» Гомера. Он мог часами спорить с Олениным о фасоне античных плащей: чем отличается хлена от фороса или паллиума. Лицо Николая Ивановича, от природы красивое и правильное, было изуродовано последствиями оспы. Один глаз вытек, кожа, испещренная мелкими рубцами и синими прожилками, напоминала мрамор.
В салоне Олениных Крылов познакомился и с трагиком Владиславом Александровичем Озеровым. Все с восторгом говорили о его новой трагедии «Дмитрий Донской», только что поставленной на театре.
Однако находились и критики. Старшее поколение не разделяло увлечения автора сентиментальными веяниями, которые так нравились молодежи. Державин и Шишков негодовали. Романтический сюжет: любовь Димитрия к княжне тверской Ксении – казался им неуместным в высокой трагедии. «Хорош великий князь московский, – ворчал Шишков. – Увидел красивую девицу и обо всем позабыл! Можно ли писать такую дичь о русском князе, жившем за четыреста лет до нас?»
Иван Андреевич с улыбкой выслушивал как похвалы, так и порицания, не высказывая своего мнения. За глаза его теперь часто называли чудаком. Он появлялся в неряшливом, со следами сигарного пепла сюртуке. Волосы непокорно ерошились на его тяжелой, большой голове: он не признавал парикмахерской завивки, помад и модных причесок. Крылов с некоторых пор предпочитал избегать споров, отмалчиваться. Но если заговаривал, то всегда остроумно, с лукавым простодушием, с народной меткостью и красочностью своей речи.
Как-то разговор зашел о минувшем царствовании. Вспоминали суровые годы правления безумного императора. Алексей Николаевич не мог нахвалиться новым государем. «Что за ангельское лицо, какая пленительная улыбка!» – повторял он. Желчный Вигель с кислой усмешкой рассказал о том, что неопытный царь, подстрекаемый письмами своего воспитателя швейцарца Лагарпа, хотел издать для России какую-то конституцию. «Хороши бы мы тогда были! – с возмущением заявил Филипп Филиппович. – Невежественный наш народ и непросвещенное наше дворянство и теперь еще в свободе видят лишь право своевольничать».
Возник оживленный спор о преимуществах того или другого политического строя. Либералы превозносили конституционные порядки и хвалили императора за его готовность пойти навстречу времени. Консерваторы с возмущением осуждали возможные перемены. Иван Андреевич флегматически слушал споры. Когда спросили о его мнении, он, не торопясь, вынул из сюртука сложенный вдвое листочек и прочел басню «Лягушки, просящие царя»:
Лягушкам стало не угодно
Правление народно,
И показалось им совсем не благородно
Без службы и на воле жить.
Чтоб горю пособить,
То стали у богов Царя они просить…
И Крылов с усмешкой поведал о том, как Юпитер, снизойдя на просьбы безмозглых лягушек, дал им в цари осиновый чурбан. Но лягушки и им остались недовольны – слишком уж бездеятелен и терпелив показался такой царь. Они снова стали докучать Юпитеру, чтобы тот дал им подлинного царя – «на славу», и Юпитер послал Журавля, который быстро расправился с глупыми лягушками:
Он виноватых ест: а на суде его
Нет правых никого.
Гости смущенно примолкли. Иван Андреевич явно написал что-то не то. Заключительный стих «Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже!» звучал явной насмешкой и предостережением. В нем не было должной почтительности.
Неугомонный князь Шаховской стал уговаривать Крылова, принять участие в задуманном им театральном журнале, где можно было бы помещать рецензии на пьесы, представляемые на театре, разные театральные анекдоты, жизнеописания известнейших драматургов и актеров русских и иностранных – словом, все, что относится к театру. Вместе с тем, по словам князя, в журнале могли бы печататься также стихи, басни. Снова перед Иваном Андреевичем возникла неизменно привлекавшая его возможность журнальной деятельности. Соблазн был велик. Шаховской утверждал, что в сотрудниках недостатка не будет, а издержки издания примет на свой счет актер Рыкалов, содержатель театральной типографии.
Составилась дружеская компания – Шаховской, Крылов, А. Писарев, Д. Языков и С. Марин. В начале 1808 года вышел первый выпуск нового журнала – «Драматический вестник». На обложке имелся эпиграф: «Хоть критика легка, но мудрено искусство». Издатели журнала ставили перед собой широкие задачи. Прежде всего создание национального театра, ту же задачу, что когда-то ставил перед собой Крылов, предпринимая издание «Зрителя».
Видное место в журнале заняли статьи И. А. Дмитревского. Он поместил в одном из первых номеров биографическое «известие» о жизни «первого актера и основателя русского театра» Федора Волкова, а в последующих выпусках статьи о греческой и римской трагедии и комедии. Ряд переводов из Вольтера принадлежал А. А. Писареву. Крылов напечатал насмешливую рецензию на постановку бездарной драмы Павла Сумарокова «Марфа Посадница или покорение Новаграда».
Но главной приманкой журнала оказались басни Крылова, подписанные лишь первой буквой его фамилии – «К». Все прекрасно знали, что «К» – это и есть Иван Андреевич Крылов. На протяжении 1808 года он напечатал девятнадцать басен. Среди них были такие шедевры, как «Ворона и Лисица», «Музыканты», «Ларчик», «Лягушка и Вол», «Парнас», «Оракул», «Волк и Ягненок».
«Драматический вестник» просуществовал только один год – то ли его издатели были заняты другими делами, то ли оказалось, что недостаточно подписчиков. Русские пьесы уже заняли прочное место в репертуаре, и «Драматический вестник» сыграл свою роль.
В литературной жизни этой поры произошли значительные перемены. Карамзин и его последователи стали проповедовать чувствительность, отказ от официальной мажорности, от прославления самодержавного величия, обратившись к умилению перед тихими радостями природы, трогательными движениями сердца. Это вызвало негодование со стороны ревнителей возвышенных заветов классицизма. Защитники патриархальной старины обвиняли Карамзина и его приверженцев в том, что те подпали под влияние французской словесности, отступились от исконной русской речи во имя галломании. Сами литературные староверы ратовали за возврат к прошлому, за сохранение древнего славянского языка.
Престарелый адмирал Шишков и его единомышленники упрямо и упорно отстаивали незыблемые устои самодержавия и православия, а в литературе – классицизма, каким он был представлен писателями XVIII века. Всякое новшество в политической жизни, в управлении государством, в литературе представлялось им опасным заблуждением и встречалось с непримиримой враждебностью.
Узурпаторская деятельность Наполеона, которого шишковисты считали исчадием революции, подогревала их патриотический пыл. Они с ненавистью отнеслись и к либеральным проектам реформ Сперанского. Шишков призывал к непреклонной борьбе за самодержавно-патриархальный порядок, за сохранение древнеславянского языка, языка летописей и церковных книг, языка предков. Столь же незыблемыми для литературных «староверов» являлись и догмы классицизма, на которые покушались сторонники Карамзина.
Крылов оказался между двух лагерей. Для него неприемлема была салонная чувствительность и французомания карамзинистов, но и ретроградные позиции шишковистов были ему тоже чужды.
Гнедич познакомил Крылова со своим лучшим другом – Батюшковым. Константину Николаевичу Батюшкову было всего двадцать лет. Он воспитывался в Москве в университетском пансионе, его литературными занятиями руководил поэт М. Муравьев, близкий приятель А. Н. Оленина. Батюшков был талантлив и самолюбив. Он мечтал дать русской поэзии новое направление. Его стихи отличались чувствительной меланхолией и в то же время пластической завершенностью античных поэтов. Одевался он с изящным пренебрежением, был невелик ростом, рассеян. Друзья называли его «попинькой». Ему нравилась воспитанница Олениных – Аннета Фурман, и он мечтал на ней жениться. Но Аннета боялась поэтов и предпочитала более положительных и практичных женихов.
Еще в Москве Батюшков сблизился с Карамзиным и его друзьями – Жуковским, Вяземским, В. Л. Пушкиным, которые посмеивались над истовыми хранителями традиций классицизма и их «славенщизной». Шишков и его единомышленники представлялись молодому поэту врагами просвещения, стражами уже давно отживших канонов. Константин Николаевич отговорил Гнедича от посещения собраний у Шишкова. Не раз он пытался переубедить и Ивана Андреевича. Но тот только посмеивался, уверяя, что такого поросенка, какого подают на ужин у адмирала, он нигде не едал.
Батюшков написал злую сатиру «Видение на берегах Леты», направленную против Шишкова, Боброва, Ширинского-Шихматова и прочих литературных «староверов». Он прочел ее у Олениных. Все много смеялись, шутили, предостерегая отважного стихотворца от гнева адмирала и его приспешников. «Видение» начиналось со стихов, высмеивавших скучные и невразумительные вирши Боброва:
Вчера, Бобровым утомленный,
Я спал и видел чудный сон!
Как будто светлый Аполлон
(За что, не знаю, прогневленный)
Поэтам нашим смерть изрек.
Батюшков изобразил этих поэтов, являющихся после смерти на берега Леты, реки царства мертвых, со своими стихами. Едко высмеивая виднейших деятелей из лагеря «славенофилов», он, однако, делал исключение для Крылова. Иван Андреевич показан был во всей живости красок. Дружески подтрунивая над его безалаберностью и пренебрежением к своему туалету, над хорошо всем известной любовью баснописца вкусно покушать, Батюшков выделил его среди «теней» прочих участников шишковского синклита, предстающих перед судьей подземного царства – Миносом:
Тут тень к Миносу подошла
Неряхой и в наряде странном,
В широком шлафроке издранном,
В пуху, с нечесаной главой,
С салфеткой, с книгой под рукой.
«Меня врасплох, – она сказала, —
В обед нарочно смерть застала;
Но с вами я опять готов
Еще хоть сызнова отведать
Вина и адских пирогов:
Теперь же час, друзья, обедать;
Я – вам знакомый, я – Крылов!»
«Крылов! Крылов!» в одно вскричало
Собранье шумное духов,
И эхо глухо повторяло
Под сводом адским: «Здесь Крылов!»
«Садись сюда, приятель милый,
Здоров ли ты?» – «И так, и сяк!»
«Ну, что ж ты делал?» – «Всё пустяк,
Тянул тихонько век унылый;
Пил, сладко ел, а боле – спал.
Ну, вот, Минос, мои творенья,
С собой я очень мало взял:
Комедии, стихотворенья
Да басни все…» – «Купай, купай!»
О, чудо! всплыли все, – и вскоре
Крылов, забыв житейско горе,
Пошел обедать прямо в рай.
Когда Батюшков кончил чтение, Иван Андреевич смеялся до слез и тут же потащил поэта к столу ужинать, обещая на деле доказать справедливость его сатиры.