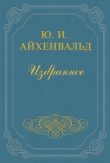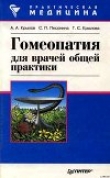Текст книги "Крылов"
Автор книги: Николай Степанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
На покое
Друзей становилось все меньше. Давно он похоронил Гнедича, Пушкина, Дмитриева, Рахманинова, Силу и Лизаньку Сандуновых!.. Умерла вскоре после его юбилея добрая и приветливая Елизавета Марковна Оленина – оборвалась еще одна нить, связывавшая его с жизнью. Умерла и сварливая Феничка, последнее время жившая с Сашенькой отдельно от него. Сашенька вышла замуж, у нее самой были две маленькие дочки. Он изредка навещал их, привозил конфеты и пряники, читал им свои басни.
Дома его ждало одиночество, неприютство.
Жизнь уходила. Он старел. Ему надобно было все меньше и меньше. Еще в 1830 году Иван Андреевич написал басню «Белка». Это была басня о нем самом, басня о царской милости и безрадостной старости.
У Льва служила Белка,
Не знаю, как и чем; но дело только в том,
Что служба Белкина угодна перед Львом;
А угодить на Льва, конечно, не безделка.
За то обещан ей орехов целый воз.
Обещан – между тем все время улетает;
А Белочка моя нередко голодает
И скалит перед Львом зубки свои сквозь слез…
В заключение басни Крылов с горечью говорил:
Вот Белка, наконец, уж стала и стара
И Льву наскучила: в отставку ей пора.
Отставку Белке дали,
И точно, целый воз орехов ей прислали.
Орехи славные, каких не видел свет;
Все на отбор: орех к ореху – чудо!
Одно лишь только худо —
Давно зубов у Белки нет.
Басня была столь недвусмысленна, что цензор побоялся ее пропустить без специального решения Цензурного комитета.
Среди немногих сверстников, оставшихся с екатерининских времен, Иван Андреевич сохранил добрые отношения со старым вельможей и любезником Александром Михайловичем Тургеневым. Тургенев когда-то содействовал поступлению Крылова учителем в семью Голицыных. Александр Михайлович жил теперь на покое и писал мемуары. Он славился хлебосольством. У него была превосходная кухарка, прожившая в доме почти полвека, и он любил накормить всласть.
Обедали здесь рано, в пять часов. Иван Андреевич аккуратно появлялся в половине пятого. Перед обедом он обыкновенно прочитывал две-три басни, послушать которые собирался весь дом: и дети и дворня. Лучше всего выходила у Крылова «Демьянова уха». После чтения Иван Андреевич водворялся в кресло и, если обед запаздывал, осторожно заглядывал в свой великолепный брегет. Но вот наступала торжественная минута: дверь в столовую раскрывалась, и доносился голос: «Обед подан». Иван Андреевич с необыкновенной легкостью подымался и решительно направлялся в столовую, как человек, готовый, наконец, приступить к работе. Перед Иваном Андреевичем ставилась глубокая тарелка с ухой и другая – с расстегаями. За обедом он не любил говорить, лишь время от времени похваливал понравившееся ему блюдо: «Александр Михайлович, – ласково прищурясь, говорил Крылов, – а Александра-то Егоровна какова! Недаром в Москве жила! Ведь у нас здесь такого расстегая никто не смастерит! – и ни одной косточки! Так на всех парусах через проливы в Средиземное море и проскакивает. – Крылов ударял себя при этом ниже груди. – Уж вы, сударь мой, от меня ее поблагодарите. А про уху и говорить нечего – янтарный навар… Благородная старица!»
Телячьи отбивные котлеты обычно бывали громадных размеров – еле на тарелке умещались. Крылов брал одну, затем другую, приостанавливался и, окинув взором обедающих, быстро производил математический подсчет, а затем решительно тянулся за третьей… «Ишь, белоснежные какие! Точно в белокаменной!» Громадная жареная индейка вызывала его неподдельное восхищение. «Жар-птица! – твердил Крылов, – у самых уст любезный хруст… Ну и поджарила Александра Егоровна! Точно кожицу отдельно и индейку отдельно жарила. Искусница!..» [30]30
По воспоминаниям воспитательницы дочери А. М. Тургенева – Н. М. Еропкиной.
[Закрыть]
Вина Иван Андреевич пил мало, но сильно налегал на квас. Наконец обед кончался, и Крылов грузно опускался в кресло и погружался в блаженную дремоту.
Он стал тяжело чувствовать свою старость. Тело казалось непомерно грузным, ноги словно налиты свинцом, голову сжимал тугой обруч. Он уже не писал: было трудно работать, мысли не шли. Много спал.
Однообразие своей жизни Крылов порой скрашивал почти детскими фантазиями и чудачествами. М. Лобанов рассказывает: «Иногда, будучи при деньгах, Крылов позволял себе, как дитя, забавные фантазии. Некогда собирал он картины и редкие гравюры, потом сбыл гравюры все до одной; картины, однако ж, сохранились до самой кончины… Однажды наскучила ему чернота и неопрятность его быта; он переменил почерневшие от времени рамки всех своих картин, завел новую мебель, купил серебряный, богатый столовый сервиз; пол устлал прекрасным английским ковром, купил у Гамбса лучшую горку красного дерева за 400 рублей, наставил на нее множество прекрасного фарфора и хрусталя, завел несколько дюжин полотняного и батистового белья. Показывая мне расходную свою книжку: „Вот посмотрите сами, – говорил он, – это стоит мне более 10 000 рублей“. И несколько лишь дней все это было в порядочном виде. Недели через две вхожу к нему и что же вижу? На ковре насыпан овес: он заманил к себе в гости всех голубей Гостиного двора, которые пировали на его ковре, а сам он сидел на диване с сигаркою и тешился их аппетитом и воркованьем. При входе каждого голуби с шумом поднимались, бренчали его фарфоры и хрустали, которые, убавляясь со дня на день, наконец вовсе исчезли, и на горке, некогда блиставшей лаковым глянцем, лежала густая пыль, зола и кучи сигарочных огарков. А ковер? О ковре не спрашивайте: голуби привели его в самое плачевное состояние. К числу этих роскошных затей принадлежит и сад, в который однажды ему вздумалось превратить свою квартиру. Он купил до 30 кадок с деревьями, лимонными, померанцевыми, миртовыми, лавровыми и разными другими, и так заставил свои комнаты, что с трудом проходил и ворочался между ними. Но этот эдем его, оставленный без надзора и поливки, завял, засох и в короткое время исчез».
Он не был Дон-Кихотом, принимавшим видения своей фантазии за действительный мир, одержимым идеей добра. Крылов скорее походил на Санчо Пансу с его мужицкой смекалкой, практичностью, лукавым добродушием. Но ведь и Санчо Панса преданно следовал за Дон-Кихотом и отстаивал справедливость.
Жизнь была прожита. Это была долгая, нелегкая жизнь.
Она научила его осторожности. Чернокожий и гугнивый Эзоп погиб, потому что говорил правду и высмеивал своих хозяев. Иван Андреевич уцелел. Уцелел, потому что сумел переждать бурю, укрылся в пустынных залах библиотеки, спрятался под маской ленивого чудака. Но он не изменил идеалам своей молодости, не отвернулся от народа. И народ признал его своим, назвал дедушкой Крыловым.
Иван Андреевич хотя и не часто теперь бывал в обществе, но и не избегал его. Он любил слушать разговоры, встречать незнакомых, новых людей, пытливо всматриваться в их лица. В литературе появились сыновья духовных чинов, чиновники, разночинцы. Интересовались теперь не изящной словесностью, а науками: химией, политической экономией, физикой, ботаникой, географией. Разговоры велись мудреные, иногда даже не очень понятные Ивану Андреевичу.
Охотно посещал он вечерние собрания у князя В. Ф. Одоевского, с которым был давно знаком, хотя раньше редко встречался. Как-то его пригласили затем, чтобы познакомить с молодым критиком из московских студентов, недавно переехавшим в Петербург. О нем начали говорить и весьма его хвалили.
Когда Иван Андреевич приехал к князю, гости уже собрались. Они теснились в его большом кабинете, заставленном необыкновенными столами и столиками, таинственными ящичками и шкафами. Книги, казалось, заполняли все остальное пространство: книги на стенах, на окнах, на диванах, на полу, в старинных пергаментных переплетах. Сам хозяин стоял посреди комнаты в странном наряде и остроконечном шелковом колпаке на голове, делавшем его похожим на астролога. Среди гостей выделялся Жуковский. Он сидел на диване рядом с Вяземским и, наклонив голову, слушал его рассказ. Тонкие, жидкие волосы всходили косицами на совсем почти лысый череп Василия Андреевича. Тихая благость светилась в углубленном взгляде его темных задумчивых глаз. В углу сидел на стуле человек небольшого роста, сутулый, с неправильными, но приятными чертами лица и нависшими на лоб белокурыми волосами. Это и был Белинский.
Иван Андреевич уселся неподалеку и, удобно устроившись, стал прислушиваться к разговорам. На вопрос франтовски разодетого господина с холеными усами и эспаньолкой, оказавшегося литератором Панаевым, о его здоровье Белинский, махнув рукою, пожаловался: «Рука отекла от писанья… Я часов восемь сряду писал не вставая. Говорят, я сам виноват, потому что откладываю писанье свое до последних дней месяца. Может быть, это правда, но взгляните, бога ради, сколько книг мне присылают… и какие еще книги – азбуки, сонники, грамматики, гадальные книжонки! Другое дело – писать об Иване Андреевиче, – резко повернулся он к Крылову. – Иван Андреевич больше всех наших писателей кандидат на никем еще не занятое на Руси место народного поэта. Он им сделается тотчас же, когда русский народ весь сделается грамотным народом».
На вечере присутствовал и молодой Тургенев. Он лишь недавно окончил свое образование за границей и появился в столичных гостиных. Высокий, стройный, с изящными движениями, он привлекал к себе общее внимание. Впоследствии Иван Сергеевич, вспоминая об этом вечере, писал: «Крылова я видел всего один раз – на вечере у одного чиновного, но слабого петербургского литератора. Он просидел часа три с лишком неподвижно между двумя окнами – и хоть бы слово промолвил! На нем был просторный поношенный фрак, белый шейный платок; сапоги с кисточками облегали его тучные ноги. Он опирался обеими руками на колени и даже не поворачивал своей колоссальной, тяжелой и величавой головы; только глаза его изредка двигались под нависшими бровями. Нельзя было понять: что он, слушает ли и на ус себе мотает или просто так сидит и „существует“? Ни сонливости, ни внимания на этом обширном, прямо русском лице, а только ума палата, да заматерелая лень, да по временам что-то лукавое словно хочет выступить наружу и не может – или не хочет – пробиться сквозь весь этот старческий жир… Хозяин, наконец, попросил его пожаловать к ужину. „Поросенок под хреном для вас приготовлен, Иван Андреевич“, – заметил он хлопотливо и как бы исполняя неизбежный долг. Крылов посмотрел на него не то приветливо, не то насмешливо… „Так-таки непременно поросенок?“ – казалось, внутренне промолвил он, грузно встал и, грузно шаркая ногами, пошел занять свое место за столом».
Служить ему было уже трудно. Ему исполнялось семьдесят два года. И с 1 марта 1841 года Крылов ушел в отставку. В распоряжении министра народного просвещения по этому случаю отмечалось:
«Библиотекарю Имп. Публичной Библиотеки, Статскому советнику Крылову,по уважению к долговременной службе, преклонных лет и расстроенного здоровья, а также отличных заслуг, оказанных им отечественной словесности, производить при отставке пенсию из государственного казначейства, не в пример другим полное содержание его по библиотеке, а именно по 2 486 р. 79 коп. серебром в год, сверх пенсии, получаемой им из кабинета Его Величества».
Это была милость и благотворение. Но она пришла так же поздно, как и орехи, которыми была награждена в крыловской басне Белка, потерявшая все зубы!
Выйдя в отставку, Иван Андреевич переехал в дом купца Блинова на Первую линию Васильевского острова. Квартира его находилась в первом этаже.
Сашенька была замужем за чиновником, служившим в штабе военно-учебных заведений, – К. С. Савельевым. Ее старшей дочери Наденьке теперь было лет шесть. Каллистрат Савельевич оказался усердным чиновником, добрым человеком и хорошим отцом. Иван Андреевич помогал своей «крестнице» и ее детям. Начальник штаба военно-учебных заведений – Яков Иванович Ростовцев, хорошо знакомый ему по Английскому клубу, покровительствовал почтительному и услужливому подчиненному. Скромное будущее «крестницы» было обеспечено.
На новую квартиру Крылов перевез и семейство «крестницы», удочерив ее. Теперь в доме стало люднее, веселее. Около него играли внучки. Он учил их грамоте. Прослушивал заданные им уроки музыки.
Конец
Болезнь пришла, как всегда, неожиданно. Всю жизнь Крылов пользовался завидным здоровьем. Он никогда серьезно не болел, если не считать паралича, перенесенного им в 1823 году. Как-то к случаю Яков Иванович Ростовцев напомнил ему о бывшем когда-то параличе и спросил, не мнителен ли он. Иван Андреевич рассмеялся: «А вот я что-то расскажу вам, и вы узнаете, мнителен ли я? Давно как-то, уж не помню сколько лет тому назад, я почувствовал онемение в пальцах одной руки. Показываю ее доктору и спрашиваю, что бы это значило. Вот, как вы же, он наперед и выведывает у меня: не мнителен ли я? „Нет“, – говорю. „Так с вами, – сказал он, – может сделаться паралич“. – „Да нельзя ли как отвратить эту беду?“ – „Можно: вам надобно во всю жизнь не есть мясного и вообще быть осторожным“. – „Вы, без сомнения, – спросил Я. И. Ростовцев, – строго исполняли это?“ – „Да, исполнял месяца два!“ – „А потом?“ – „А потом нисколько и не думал об этом, как сами, конечно, заметили. Вот как я не мнителен“», – заключил Крылов. Этот разговор передал со слов Ростовцева друг и биограф баснописца – П. А. Плетнев.
В конце 1843 года Иван Андреевич просмотрел корректуру нового издания своих басен. Теперь они выходили в девяти книгах. Там были собраны все басни, которые он когда-либо написал, за исключением басни «Пестрые овцы».
Еще днем он был здоров. К вечеру приказал приготовить себе кашу из протертых рябчиков с маслом. Иван Андреевич по-прежнему любил сытно поужинать, говоря, что от ужина он откажется только тогда, когда не сможет и обедать. Как и обычно, он поиграл с детьми, подремал после обеда. Поговорил с домочадцами о покупке дома, здесь же, на Васильевском, около Тучкова моста. Из окон этого дома видна была Нева, имелся небольшой садик. Иван Андреевич с удовольствием рассказывал о своих планах. Прямо из кабинета он хотел даже сделать дверь на балкон с крыльцом в сад: тогда бы он мог проводить много времени в саду, на воздухе.
Но наутро Крылов почувствовал себя плохо. Послали за врачом. Все принятые меры не помогли. Иван Андреевич быстро слабел, но не унывал, сохраняя спокойствие и свойственный ему юмор. Смерть не пугала его. Жизнь была позади. С добродушной усмешкой Иван Андреевич рассказал свою последнюю притчу. Эта притча была о нем самом. Со слов Я. И. Ростовцева ее записал М. А. Корф: «Когда я, – сказал Крылов, – еще в первой моей молодости был в Оренбургской губернии, мне попался как-то денщик очень хороших свойств, но всегда чрезвычайно угрюмый. На расспросы мои, отчего бы это происходило, он сознался, что горюет о настоящем своем положении сравнительно с прежним. „Да зачем, братец! Ведь служба царская тоже дело хорошее“. – „Оно так, но теперь я гол как сокол, а тогда был человеком богатым: моя семья жила в деревне над озером, где водилось рыбы без счету. Бывало, наловишь ее, да навалишь на воз пудов четыреста и зашибешь хорошую копейку!“ – „С умом ли ты: можно ли навалить на один воз четыреста пудов?“ – „Да ведь рыба-то была сушеная!“ Так и я, братец Яков Иванович, вообразил, видно, что каша сушеная, да и наклал ее себе свыше меры.»
На другой день Крылов попросил, чтобы ему дали любимую книгу, сопровождавшую его в превратностях жизни, – басни Эзопа. Когда принесли старый, засаленный томик с подклеенными страницами, Иван Андреевич слабеющей рукой стал перелистывать «Эзопово житие», всегда трогавшее его многочисленностью злосчастий и неудач, которые пришлось претерпеть древнему баснописцу. Он перечел последние страницы. В них рассказывалось, как Эзоп прибыл в Дельфы, рассчитывая познакомиться там со «славнейшими философами и мудрыми людьми», но нашел лишь мелких завистников и сребролюбцев. Тогда Эзоп обратился к ним с речью: «Любопытство приезду моего сюда, – с трудом читал Крылов, водя пальцем по строкам, – подобно у моря стоящему человеку, который, нечто по морю плывущее издали увидя, за какую-нибудь важную вещь почитает, а как сие чаемое чудо к берегу приплывет или ветром принесено будет, то человек с сожалением рассмотрит, что сия диковина куча травы или от людей в воду брошенные обноски». Эта притча привела в ярость знатных начальников, и они сговорились его убить, чтобы в других местах он не разгласил правды о них и их городе. Эзопу незаметно подложили в сундучок золотую чашу из дельфийского храма, а затем облыжно обвинили в краже священного сосуда. Согласно решению суда его приговорили к казни: «…Его с превысокой каменной горы столкнули, откуды летящее тело его в мелкие части разбилось». Иван Андреевич дочитал до конца. Таков удел всех тех, кто говорит правду. Его самого не сбрасывали с высокой скалы, и он дожил до семидесяти пяти лет, но и ему пришлось сносить несправедливость и ненависть.
Он все больше слабел. Сознание затуманилось. Перед глазами мелькала высокая скала с острыми каменными ребрами. Со стоном он пожаловался: «Тяжко мне!» – и впал в забытье. Сделался, как тогда говорили, «антонов огонь» – заражение крови. Иван Андреевич приказал перенести себя в кресла, попрощался с домашними, оставил последние распоряжения Я. И. Ростовцеву, назначив его своим душеприказчиком.
Около восьми часов утра следующего дня, 9 ноября 1844 года его не стало.
По сделанному заранее распоряжению Крылова Я. И. Ростовцев, как душеприказчик покойного, вместе с извещением о похоронах направил друзьям и знакомым Крылова экземпляр нового издания басен в траурной обертке. На заглавном листе было напечатано:
«Приношение.
НА ПАМЯТЬ ОБ ИВАНЕ АНДРЕЕВИЧЕ.
По его желанию.
Санкт-Петербург. 1844. 9 ноября. 3/4 8-го утром».
Книга продолжала жить и после смерти баснописца. Жива она и сейчас.
Погребение было назначено на 13 ноября. Однако возникло затруднение: на торжественных траурных щитах, украшающих катафалк, принято было помещать дворянский герб. Но у сына скромного армейского капитана, выслужившегося из солдат, такого герба не было. После долгих хлопот и споров решили нарисовать на щитах лавровые венки. Так лавр поэта победил геральдических львов и тигров.
Согласно подробному отчету, помещенному в «Северной пчеле», отпевание и вынос тела писателя происходили в Исаакиевском соборе: «К выносу тела в девять часов утра собрались в Адмиралтейскую церковь св. Исаакия Далматского государственные сановники, ученые, литераторы, дамы, сколько могли вместиться в церкви». Царское правительство даже теперь, после смерти Крылова, попыталось отгородить его от народных масс блеском генеральских мундиров, начальственной важностью чинов, роскошью и церемониалом погребального обряда. «Гроб вынесли из церкви и поставили на дроги, – захлебывалась от восторга и почтительности „Северная пчела“, – гг. военные генералы и первоклассные государственные чиновники…»
Но хищные «львы» и «волки», которых ненавидел и обличал всю жизнь баснописец, все-таки не смогли заслонить его от народа. За стенами собора траурный кортеж встречен был огромной толпой, молча последовавшей за процессией, умножаясь в числе по мере приближения к Александро-Невскому кладбищу. Даже благонамеренный хроникер «Северной пчелы» не мог не отметить, что «Будущее поколение, знающее наизусть поучительные рассказы дедушки Крылова, студенты здешнего университета окружали гроб, поддерживали балдахин и несли ордена. При сопровождении гроба в Александро-Невскую лавру множество народу следовало за печальною процессией и встречало ее на улицах. Отцы и матери провожали добродушного наставника своих детей; дети оплакивали своего любимого собеседника и учителя, весь народ прощался с своим писателем, равно для всех понятным, занимательным и поучительным».
Другой свидетель похорон – Плетнев – указывает, что «народ, столпившийся при погребальном шествии, занял весь Невский проспект». Такой народной демонстрации не было со смерти Пушкина.
Крылов погребен был рядом со своим другом Н. И. Гнедичем.
Вскоре после смерти баснописца Гоголь сказал о нем слова, которые навсегда остались в памяти потомков, как надпись, высеченная на граните: «Его притчи – достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа».



















Основные даты жизни и творчества И. А. Крылова
1769, 2 февраля (13 н. ст.) [31]31
Все даты приведены по старому стилю.
[Закрыть]– В Москве, в семье капитана Андрея Прохоровича и его жены Марии Алексеевны Крыловых родился Иван Крылов.
1769–1774 – Жизнь на Урале, в Яицком городке и Оренбурге.
1775 – А. П. Крылов выходит в отставку, и вся семья переезжает в Тверь.
1775–1782 – Жизнь в Твери. Отец служит в губернском магистрате Тверского наместничества.
1778, 17 марта – Смерть отца. Поступление подростка Крылова на службу в Тверской губернский магистрат.
1782 – Переезд в Петербург с матерью и братом.
1783 – В сентябре поступает на службу «приказным исполнителем» в С.-Петербургскую казенную палату. Завершена «Кофейница» – комическая опера в стихах.
1784–1785 – Увлечение театром; знакомство с актером И. А. Дмитревским. Написана трагедия «Клеопатра».
1786 – Написаны трагедия «Филомела», комедии: «Бешеная семья», «Сочинитель в прихожей». Первое выступление Крылова в печати: в журнале «Лекарство от скуки и забот».
1787, 1 мая – Поступление на службу в Горную экспедицию. Смерть матери поэта – М. А. Крыловой.
1787–1788 – Написана комедия «Проказники». Написано либретто оперы «Американцы». Разрыв Крылова с Княжниным и ссора с Соймоновым.
1788, 29 мая – Уход из Горной экспедиции.
1789 – Крылов сближается с И. Г. Рахманиновым.
С января по август издает журнал «Почта духов».
1791, 8 декабря – Открытие типографии и книжной лавки «И. Крылова с товарищи» (И. А. Дмитревским, П. А. Плавильщиковым, А. И. Клушиным).
1792 – Издание журнала «Зритель».
1793 – Издание журнала «С.-Петербургский Меркурий».
1797 – Сотрудничество в журнале «Приятное и полезное препровождение времени». Знакомство с князем С. Ф. Голицыным.
1798–1800 – Жизнь у князя Голицына в его имении Казацком в качестве секретаря и учителя детей князя.
1800 – Написана «шуто-трагедия» «Подщипа» («Трумф»), сыгранная в домашнем театре в Казацком.
1800–1801 – Написана комедия «Пирог». Переезд в Ригу в качестве секретаря князя Голицына.
1802, 26 июля – В Петербургском театре поставлена комедия «Пирог». Вышла вторым изданием «Почта духов».
1803, 26 сентября – Крылов увольняется со службы из канцелярии князя Голицына и уезжает из Риги.
1804 – В Москве поставлена комедия «Пирог».
1805—Пребывание в Москве. Первые басни Крылова, переведенные из Лафонтена: «Дуб и Трость», «Разборчивая невеста».
1806 – Переезд в Петербург. Сближение с драматургом князем А. А. Шаховским. 27 июля поставлена на сцене комедия «Модная лавка».
1807 – Написана и в июне поставлена комедия «Урок дочкам». Написаны басни: «Ворона и Лисица», «Ларчик», «Лягушка и Вол», «Оракул», «Пустынник и Медведь», «Крестьянин и Смерть».
1808 – Сотрудничество Крылова в журнале «Драматический вестник». В октябре поступил на службу в Монетный департамент.
1809 – Выход в апреле первой книги басен Крылова.
1811 – Избрание в члены Российской академии. Напечатаны: «Басни Ивана Крылова, вновь исправленные» и «Новые басни Ивана Крылова».
1812, 7 января – Поступление на службу в императорскую Публичную библиотеку помощником библиотекаря Русского отдела. Отклики на события Отечественной войны 1812 года – басни: «Кот и Повар», «Ворона и Курица», «Раздел», «Волк на псарне», «Обоз» и др.
1814, 2 января – Торжественное собрание, посвященное открытию Публичной библиотеки.
1815 – Вышли «Басни Ивана Крылова».
1816 – В марте произведен в библиотекари императорской Публичной библиотеки. Выбран в действительные члены Общества любителей российской словесности при Московском университете.
1819—Вышли «Басни И. А. Крылова» в 6 частях.
1823, в январе – получение золотой медали от Российской академии за литературные заслуги.
1824, 9 июля – Поездка в Ревель.
25 ноября – смерть брата Льва Андреевича.
1825—Вышли «Басни Ивана Крылова» в 7 книгах.
1830 – Вышли «Басни Крылова» в 8 книгах.
1833, 3 февраля – Смерть Н. И. Гнедича.
1834 – Выход двухтомного издания басен с иллюстрациями А. П. Сапожникова.
1838 – Торжественное празднование пятидесятилетнего юбилея литературной деятельности Крылова.
1841 – Выход с 1 марта в отставку со службы в Публичной библиотеке. Утверждение ординарным академиком по отделу русского языка и словесности Российской академии наук.
1843, декабрь – Вышли «Басни И. Крылова» в 9 книгах.
1844, 9 (21 н. ст.) ноября – Смерть И. А. Крылова. Похороны в Александро-Невской лавре.
1855 – Открытие первого памятника И. А. Крылову (работы Клодта) в Летнем саду в Петербурге.