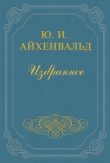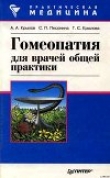Текст книги "Крылов"
Автор книги: Николай Степанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Парнас
С начала 1807 года стали устраиваться собрания поочередно у Державина, Шишкова, Хвостова, на которых читались и обсуждались новые произведения. Тон на этих собраниях задавали литературные «староверы» и их приспешники.
3 февраля 1807 года в доме Шишкова собралось человек двадцать столичных сочинителей и любителей литературы. В обширной гостиной, уставленной громоздкой мебелью, сидели и прохаживались почтенные литераторы: Гаврила Романович Державин, сенатор Иван Семенович Захаров, Александр Семенович Хвостов, его кузен – бездарный пиит Д. Хвостов, Петр Матвеевич Карабанов, а также и молодые – князь Ширинский-Шихматов, Жихарев, Кикин, Писарев, Шулепников. Все они или писали стихи, или что-либо переводили и считали себя знатоками искусств. Был здесь даже некий Галинковский – автор книги «для прекрасного пола», в которой можно было прочесть «Любопытные познания для счисления времен» и «Белые листы для записок на 12 месяцев».
Долго рассуждали о кровопролитии при Эйлау. Одни говорили, что Бонапарту нужно много времени, чтобы оправиться от этого первого полученного им удара. Другие утверждали, что и наши потери велики, потому что из строя вышла почти половина солдат, бывших под ружьем. Кикин и Писарев, как военные люди, с жаром доказывали, что надо продолжать войну и что следует кончить полным истреблением французской армии и самого Бонапарта.
Время проходило в разговорах, а о чтении не было и речи. Наконец Гаврила Романович, задумчиво ходивший взад и вперед по гостиной, не слушая споров, уселся за стол и объявил, что пора уже приступить к делу. «Начнем с молодежи, – сказал А. С. Хвостов. – У кого что есть, господа?» Все переглянулись и в один голос ответили, что ничего не взяли с собой. «Как же вы идете без всякого оружия?» – рассмеялся Хвостов. Шулепников ответил, что может прочесть свои стихи «К трубочке». «Ну, хоть „К трубочке“, – подхватил Захаров, – стишки очень хорошие!» Шулепников подвинулся к столу и прочитал десятка три куплетов «К трубочке», но не произвел никакого впечатления. «Пахнет табачным дымком», – шепнул своему соседу Карабанов.
Наступило молчание. «А вы не слышали, – сказал князь Шаховской, – что Иван Андреевич написал еще одну новую басню, да притаился, злодей!» С этими словами князь поклонился в пояс Крылову. Толстый, неуклюжий, он проделал это так быстро и ловко, что все рассмеялись. «Батюшка Иван Андреевич, будьте милостивы до нас, бедных! – молил Шаховской, изображая сестру Шехерезады. – Расскажите нам одну из тех сказочек, которые вы умеете так хорошо рассказывать!» Все дружно приступили к Крылову, и после долгих отнекиваний он, наконец, разрешился басней «Крестьянин и Смерть». Простота и верность рассказа, точность подробностей русского быта всех восхитили. Крылов читал, как жаловался крестьянин:
«Куда я беден, боже мой!
Нуждаюся во всем, к тому ж жена и дети,
А там подушное, боярщина, оброк…
И выдался ль когда на свете
Хотя один мне радостный денек?»
Жихарев заметил: «Какие прекрасные стихи!» А про заключительные строки басни сказал, что они стоят Лафонтенова стиха: «Plutôt souffrir que mourir».
Что как бывает жить не тошно,
Но умирать еще тошней!
Все стали поздравлять Крылова.
Следующий литературный вечер состоялся через неделю на дому у Державина. Гаврила Романович сидел в коротком овчинном тулупе (ему было всегда холодно) с Бибишкой за пазухой, насупившись и свесив губы. Он был похож на старую нахохлившуюся птицу. Но лишь разговор заходил о поэзии, Державин воодушевлялся, колпак его сползал набекрень, глаза приобретали блеск, и он горячо ораторствовал перед собравшимися. Начался вечер с чтения стихов самого хозяина, написанных по случаю выступления в поход гвардии.
Стихи были слабые. То ли талант изменил поэту, то ли случай для стихов был недостаточно значителен.
После короткого перерыва сенатор и переводчик Иван Семенович Захаров вынул из портфеля претолстую тетрадь и пригласил всех прослушать перевод нравоучительных правил Рошфуко, сделанный, некиим Пименовым. Однако суровый адмирал без церемоний объявил, что он не охотник до этих нарумяненных французских моралистов, все достоинство которых заключается в одном щегольстве выражений.
«Все это так, – миролюбиво согласился А. С. Хвостов и обратился к Шихматову, – однако же пора вам, князь, познакомить нас с вашими „Пожарским, Мининым и Гермогеном“. Моралисты моралистами, а поэзия поэзией, и нам забывать ее не должно». – «Я и не думал отговариваться, – возразил Шихматов, – я сочинил мою поэму не для того, чтоб оставлять ее в портфеле…» Развернув объемистую рукопись, князь приготовился было читать, но адмирал не дал ему рта раскрыть, схватил тетрадь и сам начал чтение. Поэма была проникнута казенно-патриотическим духом и повествовала о чудесном спасении дома Романовых, восторженно прославляя прелести самодержавия. Это был набор трескучих, возвышенных фраз, одическое пустозвонство, перенасыщенное восторгами в честь царей дома Романовых. Посвящалось сие высокоторжественное изделие императору Александру.
Когда длительное, всех утомившее чтение закончилось, стали хвалить автора и пророчить ему славное будущее. Шишков особенно восторгался славяно-росским слогом, которым написана была поэма. Седой, багроволицый адмирал велеречиво расхваливал Шихматова за то, что тот не только не употреблял чужеземных оборотов, но возвысил слог свой важностию славянского наречия: «древний славянский язык, отец многих наречий, есть корень и начало российского языка».
Крылов ничего не прочел, сколько его о том ни просили. Извинялся, что нового не написал, а старого читать не стоит, да и не помнит. Зато бесталанный Федор Львов прочитал стихи свои «К пеночке». Эти стишки возбудили спор. Кикин ни за что не хотел допустить, чтоб в легком стихотворении к птичке можно было употребить выражение «драгая» вместо «дорогая» и сказать «крыло», когда надобно было бы сказать «крылья». За Львова вступился Карабанов и другие, но Захаров порешил дело тем, что слово «драгая» вместо «дорогая» может и в легком слоге быть допущено. Этот спор был неприятен для самолюбивого поэта, который то и дело посматривал на Крылова, как-то насмешливо улыбавшегося.
«А знаете ли вы, – спросил Шулепников у Жихарева, – стихи графа Хвостова, которые он в порыве негодования за какое-то сатирическое замечание, сделанное ему Крыловым, написал на него?» Однако всезнающий Жихарев должен был признаться в своей неосведомленности. «Ну, так я вам прочитаю их, не потому, что они заслуживают внимания, а для того, чтобы вы имели понятие о сатирическом таланте нашего стихоткача. Всего забавнее было, что граф выдал эти стихи за сочинение неизвестного ему остряка и распускал их с видом сожаления, что есть же люди, которые имеют несчастную склонность язвить таланты вздорными, хотя, впрочем, и очень остроумными эпиграммами». И Шулепников вполголоса прочел эти стихи Хвостова:
Небритый и нечесаный.
Взвалившись на диван,
Как будто неотесанный
Какой-нибудь чурбан,
Лежит, совсем разбросанный,
Зоил – Крылов Иван:
Объелся он иль пьян?
Жихарев взглянул на Крылова. Тот был не брит. Галстук съехал в сторону.
«Крылов тотчас же угадал стихокропателя, – продолжал, улыбаясь, Шулепников. – „В какую хочешь нарядись кожу, мой милый, а ушка не спрячешь“, – сказал он».
За ужином разговорились о Российской академии. «А сколько считается теперь всех членов?» – спросил Державин у секретаря академии Петра Ивановича Соколова. «Да около шестидесяти». – «Неужто же нас такое количество? – удивился Шишков, – я думал, что гораздо менее». – «Точно так; но из них, как вашему превосходительству известно, находится налицо немного: одни в отсутствии, другие избраны только для почета, а некоторые…» «Не любят грамоты!» – подхватил А. С. Хвостов. Все рассмеялись. «Правда, что иные точно бесполезны, – согласился Шишков, – втерлись в литераторы бог весть каким образом, не имея на то никакого права, между тем, как много писателей достойных не заседают еще в академии».
По просьбе Жихарева Соколов перечислил членов академии. Кого там только не было: преосвященный Ириней псковский, Анастасий белорусский, Феоктист курский, Мефодий тверской, Михаил черниговский! За иерархами церкви шли именитые светские сановники: граф Строганов, граф Мусин-Пушкин, сардинский граф Хвостов, князь Куракин, князь Белосельский, князь А. Н. Голицын. Лишь немногие из членов академии имели хотя бы отдаленное отношение к литературе, и только Державин, Дмитриев, Херасков, Капнист, Нелединский, Дмитревский могли ее достойно представлять. Академики избирались не по заслугам, а за верноподданнические чувства, готовность выполнять с усердием правительственные предначертания, а то и просто за полной неспособностью и ненадобностью в других местах. В результате Российская академия, основанная Екатериной II в 1783 году с целью составления «грамматики, русского словаря, риторики и правил стихотворства», стала оплотом консерваторов и узаконенным видом почетного безделья.
Иван Андреевич внимательно слушал этот разговор, со вкусом обсасывая гусиную ножку. Он привык прислушиваться и запоминать то, что его интересовало, не подавая об этом и виду. Придя домой, Крылов на листочке желтоватой бумаги набросал басню, названную им «Парнас». В ней он высказал свое подлинное отношение к высокопарным виршам Шихматова, к ученым рассуждениям проповедника славяно-российского слога Шишкова и ко всем бездарным сановным пиитам, захватившим российский Парнас:
Как в Греции богам пришли минуты грозны
И стал их колебаться трон;
Иль, так сказать, простее взявши тон,
Как боги выходить из моды стали вон,
То начали богам прижимки делать розны:
Ни храмов не чинить, ни жертв не отпускать;
Что боги ни скажи, всему смеяться;
И даже, где они из дерева случатся,
Самих их на дрова таскать.
Богам худые шутки:
Житье теснее каждый год!
И, наконец, им сказан в сутки
Совсем из Греции поход.
Как ни были они упрямы,
Пришло очистить храмы;
Но это не конец: давай с богов лупить
Все, что они успели накопить.
Не дай бог из богов разжаловану быть!
Угодьи божески миряна расхватали,
Когда делить их стали,
Без дальних выписок и слов
Кому-то и Парнас тогда отмежевали.
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов.
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Прогнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели
И хочет он, чтоб мы здесь пели».
«Смотрите же, – кричит один, – не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо,
И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазаных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.
Он был доволен. Его басня собьет спесь с этих высокопоставленных ничтожеств. Пусть дуется сухопутный адмирал, узнав свои тяжеловесные славяно-росские речения, вроде «красно-хитро-сплетенно». Пусть обижается князь Шихматов, пытающийся при помощи своих косноязычных поэм взобраться на Парнас! Они не решатся признать себя в самонадеянных Ослах, оглашающих Парнас «разно-красивым пеньем»!
Крылову удалось напечатать свою басню в «Драматическом вестнике». «Парнасские ослы» молча затаили обиду. Они поняли, что протестовать смешно. Однако Крылову очень скоро припомнили его басню. Прошло около года с тех пор, как «Парнас» был напечатан. Вышла первая книжка его басен, и в ней пришлось исключить все начало «Парнаса», так как цензура обиделась за осмеяние богов. Ведь хоть и языческие, а все-таки боги! А 13 марта 1809 года в Российской академии состоялись выборы новых членов. Давнишний приятель Ивана Андреевича – Дмитревский выдвинул его кандидатуру, представив для обсуждения книгу басен и две комедии – «Модную лавку» и «Урок дочкам», завоевавшие широкую известность.
Но при баллотировке Крылов получил только два голоса, все остальные члены Российского Парнаса голосовали против. Большинство получил князь Шихматов, один из запевал хора «парнасских ослов», который и был избран членом академии.
VII. Фабулист
Затем, что истина сноснее вполоткрыта.
И. Крылов, Волк и Лисица
«Ларчик»
В 1808 году А. Н. Оленин определил Крылова на службу в Монетный департамент, и Крылов был произведен в чин титулярного советника. Два года прослужил Иван Андреевич в этом департаменте, видимо не особенно переобременяя себя работой. Служба давала возможность кое-как свести концы с концами и даже посылать время от времени небольшие подарки братцу Левушке, по-прежнему тянувшему армейскую лямку в глухой провинции.
В начале 1809 года вышла первая книга басен Крылова. Это была скромная, небольшая книжечка: в ней помещены 23 басни. Но среди них такие, как «Ворона и Лисица», «Музыканты», «Ларчик», «Волк и Ягненок», «Мор зверей». Эти басни свидетельствовали о зрелости таланта баснописца, о его самобытности и совершенстве в избранном им жанре.
Свершилось второе рождение писателя: сатирик и драматург стал баснописцем. Его басни читали, переписывали, выучивали наизусть – взрослые, дети, слуги.
Через два года, в 1811 году, вышла вторая книжка, «Новые басни», дополнявшая первую. Слава лучшего русского баснописца была теперь незыблемо утверждена.

Даже Российская академия, еще недавно отвергшая баснописца, вынуждена была признать его заслуги и в 1811 году избрала своим членом. Он получил диплом с торжественным извещением о том, что
«Императорская Российская Академия, отдавая справедливость известному ей в словесных науках знанию вашему, а особливо сочинениям вашим, служащим истинным обогащением и украшением словесности российской, в бывшее сего декабря 16-го числа заседание, избрала вас действительным своим членом».
Наконец-то он нашел свою дорогу, свой род. Басня давала возможность говорить о том, о чем он хотел, говорить правду, хотя бы и «вполоткрыта», эзоповым языком. Ведь и фригийский раб Эзоп умел в своих притчах высказать мысли, неприятные для его хозяев.
Вокруг Крылова были люди, во многом ему чуждые, привыкшие к довольству и роскоши. Они неустанно хлопотали о приумножении богатств, о повышении в чине, о милостях знатного вельможи. Каждый стремился занять место ступенькой повыше, обеспечить свое благополучие за счет других. Ему ничего этого не надо. За годы скитаний, лишений, бездомного существования он хорошо узнал превратности судьбы, эфемерность славы, тщетность поисков справедливости. Его уже не манила опасность борьбы. Так мореплаватель после грозных бурь с радостью входит из разбушевавшегося моря в тихий залив, где его корабль не сотрясается от ударов всесокрушающих валов.
Это была ложная философия. Философия пассивности, отказа от открытой борьбы. Она возникла от душевной усталости, от желания покоя. И баснописец на себе испытал ее мучительные последствия: молчание тогда, когда хотелось протестовать, примирение с тем, против чего восставала душа. Горькой данью этой философии явились такие его басни, как «Конь и Всадник», «Колос». А расплатой – долгие годы одиночества среди чужих ему по духу людей.
В своих баснях Крылов не проповедовал какой-либо политической идеи, не отстаивал последовательной теории. Но в основе его взглядов, в основе его понимания жизни лежало неизменно разделение общества на знатных и простых людей, богатых и бедных, угнетателей и угнетенных, признание решающей роли народа.
В народе видел баснописец ту чудесную животворную силу, которая является источником существования общества и государства. Эта мысль положена в основу басни «Листы и Корни». В ней Листьям, кичащимся своей красотой, Крылов противопоставил Корни, питающие дерево, дающие ему жизнь. На хвастовство Листьев Корни отвечали гневной отповедью:
«Примолвить можно бы спасибо тут и нам», —
Им голос отвечал из-под земли смиренно.
«Кто смеет говорить столь нагло и надменно!
Вы кто такие там,
Что дерзко так считаться с нами стали?» —
Листы, по дереву шумя, залепетали.
«Мы те, —
Им снизу отвечали: —
Которые, здесь роясь в темноте,
Питаем вас. Ужель не узнаете?
Мы корни дерева, на коем вы цветете.
Красуйтесь в добрый час!
Да только помните ту разницу меж нас:
Что с новою весной лист новый народится;
А если корень иссушится, —
Не станет дерева, ни вас».
Этой басней Крылов напоминал паразитическим верхам общества о народе, о том, что в основе существования и процветания государства лежит созидательный труд народных масс.
Осуждая власть имущих, алчных и жестоких хищников, будь то корыстолюбивые вельможи, криводушные судьи, тупые и бездушные чиновники, будь то сам царь, он представлял их в баснях в облике хищных зверей – Львов, Медведей, Волков, Лисиц. Традиционная басенная символика позволяла безнаказанно говорить о преступлениях и безобразиях, которые беззастенчиво творились в государстве. Такова и одна из ранних басен Крылова – «Мор зверей». В ней он воспользовался сюжетом басни Лафонтена. Тем самым отводились подозрения, что в басне изображена современная русская жизнь, что баснописец имел в виду горькое и бесправное положение народа, который ограблен и придавлен тяжестью порабощения.
Стихийное бедствие – мор заставляет даже кровожадных хищников задуматься о том, как спасти свою шкуру. Царь Лев созывает совет зверей, на котором лицемерно предлагает принести в жертву богам того, кто «всех виновен боле» в творящихся преступных делах:
За Львом Медведь, и Тигр, и Волки в свой черед
Во весь народ
Поведали свои смиренно погрешенья;
Но их безбожных самых дел
Никто и шевелить не смел.
И все, кто были тут богаты
Иль когтем, иль зубком, те вышли вон
Со всех сторон
Не только правы, чуть не святы.
Виновным в общем бедствии оказался безобидный Вол, признавшийся в том, что он стянул из стога зимой клок сена.
Кричат Медведи, Тигры, Волки:
«Смотри, злодей какой!
Чужое сено ест! Ну, диво ли, что боги
За беззаконие его к нам столько строги?
Его, бесчинника, с рогатой головой,
Его принесть богам за все его проказы,
Чтоб и тела нам спасть и нравы от заразы!
Так, по его грехам, у нас и мор такой!»
Приговорили —
И на костер Вола взвалили.
Нет, Крылов не оставался в стороне от жизни. Под покровом флегматического равнодушия к окружающему он зорко следил за всем, что происходило в мире: будь то события международного характера или злободневные политические новости. Многие из них находили отклик в его баснях.

В обстановке обострения напряженности в европейских делах, благодаря завоевательным войнам Наполеона, который делил с Александром I государства и народы Европы, Крылов пишет басню «Лев на ловле», имевшую особенно злободневный и острый политический смысл. Басня была написана в 1808 году, вскоре после Тильзитского мира и свидания двух императоров, поклявшихся друг другу в вечной дружбе. Но Наполеон не пожелал делиться ни с кем своей «добычей» – господством над завоеванными им странами. Поэтому традиционный басенный сюжет о вероломстве Льва, нарушившего свои обещания, для современников связан был с положением дел в Европе. Лев, пользуясь своей силой, при дележе дерзко заявляет:
«Теперь давай делить! Смотрите же, друзья:
Вот эта часть моя
По договору;
Вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору;
Вот эта мне за то, что всех сильнее я;
А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет,
Тот с места жив не встанет».
Своей басней Крылов как бы предупреждал о захватнических намерениях Наполеона, об угрозе, нависшей над Европой и прежде всего Россией!
Он написал басню «Ларчик» – о ларце, который некий «механики мудрец» тщетно пытался открыть. Но ларец вовсе не был закрыт. Крылов не любил ложной мудрости, высокомерного зазнайства. Каждая вещь, каждое произведение искусства должны быть просты, ясны по своему замыслу и значению. Должна быть проста, прозрачна и басня. Она хороша только тогда, когда всем понятна, не нуждается в объяснениях горе-мудрецов. «А Ларчик просто открывался!».
Его басни и были такими «ларчиками», доверху наполненными сокровищами народной мудрости.
Крылов читал свои басни Державину в его великолепном доме на Фонтанке. Гаврила Романович служил солдатом, губернатором, министром. Сейчас он стал стар и одряхлел. Ему приятен был этот простецкий, мужиковатый увалень. В нем он ценил задор, непокорность, затаенное лукавство. Он и сам когда-то был таким! Державин благосклонно слушал фабулиста. Однако басни своего покойного друга Ивана Ивановича Хемницера он ценил выше. Хемницер был простодушнее, не допускал грубости, его суждения не были столь резки!