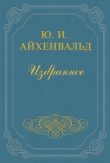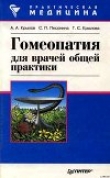Текст книги "Крылов"
Автор книги: Николай Степанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
II. Санкт-Петербург
«Санкт-Петербург есть Европейская столица блистающего императорского двора, и весьма подобна тем и распространенною своею морскою торговлею другим европейским столицам и торговым городам она во всем расположении, как и вообще во образе жизни. Процветающие промыслы, художники всякого рода, множество денег в обращении, придворный некоторым образом вид во вкусе и обращении – так как и в других столицах государей».
И. Георги, Описание российско-императорского города Санкт-Петербурга, 1794.
Житель Измайловского полка
В августе 1782 года семейство покойного капитана Крылова направилось в Петербург.
Вот, наконец, она, столица! Во всей красе Ванюша увидел Петербург на следующее утро по приезде, когда направился к Неве. Вдоль реки разместились дворцы и роскошные дома вельмож; по наведенному против Адмиралтейства мосту можно было перейти на Васильевский остров к Бирже. Там помещалась таможня, Гостиный двор, а на самой стрелке между двух ростральных колонн, завершавшихся маяками, находилась пристань, к которой то и дело подходили корабли с грузами.
Окаймленная рядами словно нарисованных зданий, уходила вдаль Нева, величественная, спокойная, темневшая своей прозрачной тяжелой водой. Высоко над городом возносился тонкий золотой шпиль Петропавловской крепости, напоминая о неистовом основателе и строителе новой столицы.
Санкт-Петербург после смерти Петра продолжал расти и украшаться. Сюда, на холодный, негостеприимный берег Финского залива, свозили со всей страны кирпич, доски, бревна, сгоняли толпы мужиков, чтобы у студеного, угрюмо-серого моря отвоевать болотистый, мшистый кусок суши и построить на нем город чудес, Северную Пальмиру. Гибли в болотах тысячи русских мужиков, пригнанных из Рязанской, Тамбовской, Владимирской, Ярославской губерний. Замерзали от холода, умирали от голода, лихорадок, простуд, непосильной работы, жестоких наказаний. Но город строился, украшался.
Геометрически правильные линии проспектов, площадей, каналов, намеченные Петром, заполнялись домами, засаживались деревьями. Скупая простота петровских ансамблей сменялась роскошными палатами и дворцами, изнеженной прихотливостью женственных линий барокко.
В архитектуре явились изящество, прихотливость в лепке орнаментов, в капителях колонн, в изгибах балконов, в узорах оконных переплетов и решеток. Всюду соблюдалось приятство, благородная изысканность. Екатерина II желала походить на своего великого предшественника, строителя этого города и обширнейшего государства. Кроме того, она хотела быть приятной, внушать всем восхищение добродетелями просвещенной монархини. Она помнила бурные события своего воцарения, дворцовый заговор против ненавистного императора, ее мужа Петра III. Она сама, верхом на белом коне, в мундире Преображенского полка, в шлеме, украшенном дубовыми листьями, из-под которого развевались ее волнистые длинные волосы, направилась тогда во главе гвардейских полков в Петергоф, чтобы арестовать своего мужа – законного императора. Петр III был отправлен под конвоем в Ропшу и там задушен. Официально объявили о внезапной его смерти от «геморроидальных колик».
Новая императрица обильно изливала милости приближенным, способствовавшим ее воцарению. Она раздавала щедрой, нескудеющей рукой золото, должности, титулы, имения, крепостных рабов. Ей, однако, хотелось прослыть просвещенной и рачительной монархиней. Она завязала переписку с Вольтером, Даламбером, Дидро – лучшими умами тогдашней Европы. Императрица в своих письмах называла себя их ученицей, льстила им, уверяла, что в далекой, таинственно-неведомой Московии она осуществляет их учение о просвещенном монархе и продвинула свою страну по пути прогресса и свободы.
Принцесса Ангальт-Цербстская скоро выучила русский язык, хотя до конца жизни говорила на нем с сильным немецким акцентом. Любила в разговоре вставлять пословицы и поговорки, иногда не очень уместно; завела во дворце русские крестьянские наряды и хороводы. Екатерина кичилась своим знанием народа и его обычаев, хотя это знание основывалось главным образом на мимолетных беседах с дворцовыми истопниками, кучерами и лакеями.
Она даже сочиняла комедии из крестьянской жизни и русские сказки, считая себя незаурядной писательницей.
За пределами дворца, за столичными заставами начиналась бескрайняя, неизвестная и непонятная ей Россия, пустые, дикие пространства, пугавшие ее своей суровостью. Она болезненно пережила тревожные дни пугачевского восстания. И хотя буйная голова казака зимовейской станицы Емельяна Пугачева покатилась с плахи на Лобном месте, страшный призрак крестьянского восстания пугал ее и тревожил.
Императрица повела решительную борьбу с проявлениями вольнодумства: сатирическими журналами, масонами, книгами и идеями французских философов, которым недавно еще курила фимиам. Продолжались эрмитажные собрания и спектакли, она улыбалась острым шуткам и стремилась очаровать своей любезностью людей, ей полезных, но за всем этим стояла жесткая настороженность, недоверчивость, страх перед возможной катастрофой.
Крылов ничего, конечно, не знал об этих переменах. С самонадеянностью молодости он рассчитывал на успех, на благосклонность фортуны. Он привез в столицу либретто своей комической оперы «Кофейница», над которой трудился в Твери.
Обосновались Крыловы не в красивых центральных кварталах столицы, а на ее окраине, в Измайловском полку. Там ровными рядами стояли небольшие домики, отделенные друг от друга изрядным расстоянием во избежание пожаров. В них жили офицеры Измайловского полка со своими семьями, мелкие чиновники, отставные военные. Кругом еще тянулись низкорослые еловые леса с болотистыми полянами, заваленными ветвями и бревнами, из-под которых, лишь только оттаивала земля, бежали грязноватые, коричневые ручейки. Да, это был не тот Петербург, который представлялся Крылову в мечтах! Даже изба бабки Матрены обжитее, уютнее, теплее двух маленьких комнаток, которые уступил семейству бывший сослуживец Андрея Прохоровича, одинокий человек, существовавший на скромную пенсию.
Крыловы приехали в Петербург перед самым открытием монумента Петра I. Вместе с жителями столицы Ванюша поспешил с раннего утра на площадь перед зданием Сената. Стечение народа было чрезвычайное. Даже крыши близлежащих домов оказались заполненными зрителями. Монумент скрывала рисованная на полотне заслона: на ней изображены были камни и «гористые страны». На площади и ближайших улицах расположились гвардейские полки в парадной форме, со знаменами.
В четвертом часу на торжественно украшенной шлюпке из своего Летнего дворца прибыла сама Екатерина. Поднявшись по ступеням Сената, она вскоре появилась на балконе с толпою придворных, сиявших золотом и брильянтами. По сигналу занавес, скрывавший статую, упал, и перед народом появился гордый всадник в античном одеянии, мощным движением сдерживающий коня, ставшего на дыбы.
После пушечного салюта начался парад. По площади мимо монумента под водительством фельдмаршала князя А. М. Голицына проходили войска. Слышался точный и размеренный шаг пехотинцев, высоко в парадном марше вскидывавших ногу, дробь барабанов. Крылов стоял среди народа и смотрел на величественную панораму Невы, на ярко-зеленые мундиры солдат, на медную статую Петра работы славного Фальконетта, с простертой вперед рукой. Прямо напротив него на балконе Сената находилась императрица. Ванюша вспомнил ее белое, чуть припухшее лицо, ее маленькие руки с сиявшими на солнце перстнями. Такой она была тогда в Твери на Соборной площади. Ему хотелось подойти к ней, рассказать о бедственном положении семьи покойного капитана Крылова, честно выполнявшего свой долг и оставившего семью в нищете. Но это было невозможно: императрица вышла из Сената, окруженная плотной толпой придворных и надежным эскортом кирасирского полка.
По воскресеньям Крылов отправлялся в Летний сад. За великолепной чугунной решеткой происходило праздничное гулянье по аллеям, уставленным белыми мраморными статуями, которые четко выделялись на фоне зелени. Особенно привлекала его роговая музыка придворных егерей. В новеньких мундирах, богато отделанных золотым позументом, в штиблетах и с напудренными волосами, егеря пристально смотрели в ноты, боясь пропустить момент, когда тому или иному инструменту выпадет очередь взять очередную ноту. Роги были разного размера и обтянуты снаружи кожей. Они издавали своеобразные звуки, напоминавшие и гобой, и флейту, и фагот, и обыкновенный охотничий рожок. Разыгрывались менуэты, контрдансы, полонезы.
Блуждая по улицам Петербурга в поисках долгожданного места, Ванюша повстречал невдалеке от Гостиного двора странную процессию. Впереди шли солдаты во главе с барабанщиком, выбивавшим заунывную, тоскливую дробь. За ними следовала позорная колесница. В ней сидел на скамейке, спиною к лошадям, исхудавший, желтый, как труп, человек. Одет он был в длинный, черный суконный кафтан, на голове – шапка.
Крылов последовал за процессией. Преступника везли на Конную площадь, где должно было последовать публичное наказание. Арестанта под руки ввели на эшафот. Он не мог стоять и только дрожал мелкой, зябкой дрожью, словно от сильного холода. Священник сказал несколько поучительных слов, протянул ему для поцелуя большой медный крест. Судейский чиновник гнусаво зачитал приговор. Тогда, поплевав на руку, палач взял огромный бич, сипло крикнул для бодрости: «Берегись, ожгу!» – и не спеша, с равными промежутками, начал наносить удары. По окончании казни виновного отвязали от столба, выжгли раскаленной печатью позорные знаки на лбу и щеках и засунули обмякшее тело в фургон.
Народ понемногу расходился. Крылов медленно направился домой. Перед его глазами все время стояла окровавленная, в черных кровоподтеках и ссадинах костлявая спина, в ушах отдавались хриплые, болезненные стоны истязаемого…
Переезд в столицу желаемых результатов пока не приносил. Ничего определенного нигде не обещали. Крыловым казалось, что если они попадут в Петербург, бросятся в ноги к матушке государыне, то она тут же расщедрится и прикажет выдать пенсию семье своего верного слуги. Еще в Твери Мария Алексеевна и Ванюша наслушались рассказов о милостях царицы, о доступности ее для просителей. Передавали, что как-то, увидев в окно старуху, которая ловила во дворе курицу, императрица приказала ежедневно выдавать ей по курице; старуха оказалась бабкою одного из дворцовых прислужников. Но, по-видимому, эта трогательная история с курицей и старушкой случилась очень давно (а может быть, ее и совсем не было?), с тех пор императрица перестала помогать старушкам и бедным вдовам. Во всяком случае, вдова капитана Крылова получала одни лишь отказы на свои прошения, обращенные к августейшей государыне, так и не проявившей к ней «матерней милости». Служба тоже не находилась, и юный подканцелярист должен был подрабатывать перепиской прошений в судебные инстанции или составлением писем для солдат.
А тут еще разыгралась и вовсе неприятная история.
Уезжая из Твери, Крылов взял в магистрате месячный отпуск с 29 июля 1782 года. Но в установленный срок к должности он не вернулся. Только через год вспомнили об исчезнувшем чиновнике и начали его разыскивать. На квартиру Крыловых в Твери был послан пристав, и вслед за тем канцелярия магистрата направила рапорт тверскому наместнику графу Я. Брюсу:
«Сего апреля 7-го числа здешнему департаменту репортом пристав Никифор Иванов представил, что посылан он был от департамента в квартиру к подканцеляристу Ивану Крылову, который числился больным для проведывания есть ли ему от болезни облегчение но и в квартире его не получил от бабки его Крылова Матрены Ивановой ему приставу объявлено что он подканцелярист Крылов отлучился отсюда в Санкт-Петербург нынешнем году зимним временем, а которого месяца и числа о том она не упомнит. Того ради Тверского Губернского Магистрата во втором департаменте определено об отлучке означенного подканцеляриста Крылова наместническому правлению отрепортовать о чем сим и репортует апреля 11-го дня 1783 году».
Делу был дан ход. История о без вести пропавшем подканцеляристе получила свое закономерно бюрократическое течение. На «репорт» магистрата последовал грозный указ наместничества о привлечении беглого чиновника к месту его службы по этапу.
Бумага возымела действие. До Крылова дошли в Петербург вести об его розысках, о бурной деятельности Тверского магистрата. Пришлось поехать в Тверь и улаживать неприятное дело.
Мы не знаем, кто покровительствовал Крылову. До нас дошли лишь глухие сведения о том, что незадачливый подканцелярист явился к самому графу Брюсу, всемогущему генерал-губернатору тверскому и новгородскому, и пленил этого сурового вельможу. Крылов написал прошение, в котором сослался на болезнь, якобы помешавшую ему исполнять свои служебные обязанности, и «за слабостию здоровья» просил его уволить от должности. На это прошение последовало милостивое решение генерал-губернатора и разных орденов кавалера графа Брюса, который издал указ, не только разрешавший Крылову уход и отставку, но и содержавший благодарность «за беспорочную службу».
Снова начались поиски службы.
Оставалась еще одна, последняя надежда. Львовы при его отъезде из Твери дали ему письмо к важному сановнику – президенту Академии художеств И. И. Бецкому, который имел когда-то большое влияние при дворе и слыл филантропом. Когда Крылов подошел к роскошному дворцу вельможи, находившемуся между Невой и Летним садом, его охватила робость. Напудренный слуга провел его через огромный зал, в котором висели картины лучших европейских мастеров, а затем через библиотеку в тенистый сад. Бецкой прогуливался по саду, опираясь на палку. Он почти потерял зрение. Угасало и его влияние при дворе. Бецкой болезненно переживал охлаждение императрицы и свое удаление от государственных дел. Однако он не хотел признаваться в своем бессилии и делал вид, что по-прежнему влиятелен.
Он радушно встретил молодого человека, усадил на скамейку и, внимательно выслушав обстоятельства дела, обещал посодействовать. Затем спросил, чем тот занимается. Крылов смутился и поведал о своих занятиях литературой. Вельможа пожелал услышать что-либо из произведений молодого таланта. Еще более смущаясь, юноша прочел перевод басни Лафонтена «Ворон и Лисица». Когда он кончил чтение, вельможа, пожевав губами, задумчиво произнес: «Изрядно для такого юного возраста!» Затем устало поднялся, движением руки попрощался с Крыловым и пошел неверными шагами к дому.
Вскоре место нашлось. Помогло ли здесь покровительство Бецкого или другие обстоятельства, но, так или иначе, Крылов был принят в сентябре 1783 года на службу в Казенную палату. Правда, на столь же скромную должность канцеляриста, что и в Твери. Жалованье тоже было ничтожное – 25 рублей серебром в год, что никак не могло хватить на прокормление всего семейства даже при самой жестокой экономии.
«Кофейница»
Занятия в Казенной палате мало привлекали Крылова. Как и в Твери, там царили рутина, мздоимство, бесконечное крючкотворство. Ему поручали переписывать бумаги, иногда делать из них «экстракты», кратко излагающие содержание дела. Дома в их убогих комнатушках тоже было неприютно. Мария Алексеевна или ходила по милостивцам, все надеясь на несбыточную пенсию, которая никак не выходила, или возилась дома с хозяйством. Она чахла на глазах, зябко куталась в старый платок, плохо спала. Левушка тихонько играл в своем углу, терпеливо поджидая «тятеньку».
По вечерам Крылов продолжал работу над своей комедией. Переписывал, переделывал, правил. Наконец он решил, что комедия закончена. Еще раз переписал всю пьесу на плотные листы бумаги. Один из сослуживцев рассказал ему про типографщика Брейткопфа, знатока и любителя музыки и литературы, который имел свою типографию.
Волнуясь и робея, отправился сочинитель по указанному адресу. Войдя в небольшую, заставленную шкафами комнату, он увидел за конторкой толстого розовощекого человечка с голубыми глазами, белокурыми волосами, затянутого в темно-синий сюртук. Это был сам владелец типографии и нотопечатни Бернард Фридрихович Брейткопф. Выходец из Германии, Брейткопф хотя и прожил много лет в России, но говорил с заметным немецким акцентом. Он вопросительно смотрел на коренастого юношу, судорожно сжимавшего в руках какой-то пакет. Как выяснилось из дальнейшего разговора, пакет оказался рукописью комической оперы. Юноша признался, что этот свой первый литературный опыт он хочет напечатать. Улыбаясь, типографщик осторожно взял рукопись своими короткими ручками. Они разговорились. Немец уверил автора, что прочтет его рукопись и, если она окажется интересной, он даст ей ход.
Когда через несколько дней Крылов вновь пришел к типографщику, Бернард Фридрихович встретил его, излучая сияние. «В ней так много шутки, так хорошо виден жизнь», – твердил он обрадованному автору. Брейткопф собрался даже уплатить ему шестьдесят рублей ассигнациями – по тем временам немалые деньги! У четырнадцатилетнего автора от радости забилось сердце. Это было первое признание его таланта, начало успеха. Да и деньги весьма пригодились бы в их скудном бюджете. Но он тут же передумал и попросил Брейткопфа вместо денег дать ему сочинения Расина, Мольера и Буало. Теперь, вступив на стезю сочинительства, он должен воспитать свой вкус чтением образцовых авторов.
Типографщик пригласил Крылова бывать в его доме, обещая, что познакомит начинающего комедиографа с опытными сочинителями. Прижимая к груди объемистую пачку книг, гордый своим успехом, юноша с торжеством направился домой.
Однако надежды на издание или скорое появление «Кофейницы» на театре постепенно гасли. Дела просвещенного меломана оказались далеко не блестящими. Типография и нотопечатня приносили одни убытки, а увлечение музыкой и игра на скрипке не оставляли Брейткопфу времени для практических дел.
Крылов часто приходил к добродушному типографщику на квартиру.
Они беседовали о театре, о музыке, восхищались операми Моцарта. О «Кофейнице» он больше не говорил. Вскоре ему пришлось распрощаться с типографией, так как не хватало денег на бумагу, на оплату рабочих, не было и заказов.
В один из визитов к Брейткопфу Крылов встретил человека лет шестидесяти. Незнакомец зачесывал седые волосы назад, имел необычайно правильные и привлекательные черты лица. Его умные, выразительные глаза смотрели приветливо. В коричневом кафтане французского покроя, со стальными пуговицами, в шитом шелковом жилете и ослепительно белых кружевных брыжах и манжетах он был похож на придворного. Брейткопф представил ему Крылова. Незнакомец оказался знаменитым актером – Иваном Афанасьевичем Дмитревским. Иван Афанасьевич руководил труппой Эрмитажного театра и сам выступал на сцене, играя преимущественно благородных героев в трагедиях Сумарокова. Дмитревский был причастен и к литературе: переводил пьесы французских авторов.
Они подружились – знаменитый артист и никому не ведомый автор никому не известной комедии. Их объединяла общая страсть – театр.
Иван Афанасьевич хвалил театр и актеров. «Есть прекраснейшие актеры и с прекрасными талантами», – говорил он Крылову.
Крылов стал теперь частым гостем Дмитревского. В его квартире на Галерной набережной, тщательно и со вкусом обставленной, они вели долгие споры и беседы. Дмитревский рассказывал о себе, о памятных встречах и событиях своей долгой, богатой впечатлениями жизни. Говорил он, педантически соблюдая паузы, слегка пришепетывая (недостаток, который на сцене почти преодолевал). Рассказы его были интересны и поучительны, хотя, возможно, не всегда соответствовали истине. Старый актер увлекался и в тот момент, когда рассказывал, сам искренне верил, что все было именно так, как он говорил.
– Да, мой милый юноша! – Дмитревский вздохнул и удобнее уселся в мягкое кресло. – Всяко бывало. Пришлось и в Бастилии посидеть!
И он рассказал, как в 1767 году ездил в Париж для приглашения лучших французских актеров в петербургский театр.
– Ты подумай! Сам Лекен, Белькур и мадам Клерон соглашались поехать! Но король рассердился, и мне не поздоровилось. Меня с Белькуром для острастки посадили в Бастилию. Граф Иван Иванович Шувалов, наш посол во Франции, узнав об этом, отписал августейшей монархине и вызволил нас из узилища!
Полились нескончаемые рассказы о поездке в Париж, о поездке в Лондон, о встречах со знаменитыми трагиками Лекеном и Гарриком.
– Лекен повез меня в Лондон взглянуть на славного Гаррика, – увлеченно заговорил Иван Афанасьевич. – Знаменитый артист принял нас дружески. Желая угостить нас, он сыграл на Лондонском публичном театре «Макбета», комедию «Как вам это нравится» и пьесу своего сочинения «Табачный продавец». Однажды утром после завтрака Гаррик собрался идти со двора и спросил меня и Лекена, не пойдем ли и мы. «Нет, – отвечал я, – сегодня не расположен никуда идти». Гаррик ушел, а мне пришла охота прогуляться и посмотреть окрестности Лондона. Вышед на Темзинскую набережную, я вдруг увидел издалека Гаррика, который пробирался домой. Я тотчас переменил походку и физиономию. Поравнявшись со мной, Гаррик стал всматриваться пристально, но не решился остановить меня, боясь ошибиться. Посмеявшись про себя, я поспешил воротиться домой и переоделся. Вскоре явился слуга с приглашением к обеду. Во время обеда Гаррик спросил меня, не ходил ли я со двора. На мой отрицательный ответ он заметил: «Значит, я ошибся, а по костюму точно ты шел по набережной».
В этом месте Дмитревский обычно делал паузу и, заложив в нос понюшку табаку, чихнув в шелковый платок, продолжал:
– Стали подавать третье блюдо. Я уже протянул к нему руку, как вдруг побледнел, задрожал и в конвульсиях упал то стула. Гаррик, Лекен и гости в испуге встают из-за стола и суетятся около меня. Но вдруг, к удивлению их, больной весело вскакивает, смеется и просит хозяина и гостей извинения за сделанную суматоху. Все от души смеялись и снова сели за недоконченный обед. Гаррик, смотря на меня пристально, спросил: «Признайся, мой молодой друг: это ты попался мне на набережной назад тому час, прихрамывая на правую ногу?» Тут я должен был признаться в другой своей шутке. «Браво, Дмитревский, браво! – закричал Гаррик. – Я предвижу, господа, что он будет великий актер, и я непременно хочу видеть его на сцене в трагической роли! В твоем репертуаре значится роль Беверлея [7]7
Игрок, главный герой одноименной драмы французского писателя Сорена. В 1773 году драма была переведена Дмитревским и ставилась в России.
[Закрыть], сделай одолжение, сыграй ее нам и покажи свой талант на лондонской сцене». Я согласился, и на другой день в лондонском театре состоялась репетиция, а еще через день и представление. Во все время моей игры Гаррик не спускал с меня глаз, замечая каждое движение. А в сцене, когда Беверлей выпивает яд и говорит затем монолог, Гаррик так впился в меня, что, сидя за кулисами у стола, на котором горела свеча, не заметил, как загорелись его манжеты. – Дмитревский даже сам несколько удивился этому обстоятельству, расчувствовался и умолк.
Иван Афанасьевич неоднократно рассказывал эту историю и каждый раз все с новыми подробностями. О загоревшихся манжетах Гаррика он упомянул впервые. Эта подробность на него самого произвела сильное впечатление. Злые языки утверждали, что Иван Афанасьевич вовсе не бывал в Лондоне и не встречался с Гарриком. За давностью времени и сам Иван Афанасьевич уже не твердо помнил, что было и чего не было.
Проходили недели и месяцы. Стало ясно, что с «Кофейницей» толку не будет. Да и сама комедия казалась теперь Крылову слишком беспомощной. Его воодушевляли новые замыслы. Трагедия – самый благородный и возвышенный род искусства! Вот за что надо взяться! Успех трагедий Расина, Сумарокова, Княжнина, казалось бы, указывал на это. Воображение Крылова привлекли рассказы древних историков об египетской царице Клеопатре. Необузданная в своих желаниях, царица принесла во имя своей страсти в жертву интересы государства. Ему представилось пухлое, покрытое пудрой лицо, маленькая холеная ручка, припомнились рассказы о непомерном любвеобилии Екатерины. Да, многое в истории не утратило своего значения и сейчас! Можно ли мириться с торжеством деспотизма, с безграничной властью монарха, смотрящего на государство как на средство удовлетворения своих прихотей и пороков?
Через месяц Крылов явился к Дмитревскому со старательно переписанной рукописью новой трагедии – «Клеопатра». Иван Афанасьевич с всегдашней любезностью принял своего юного друга.
В удобном домашнем халате, мягких меховых туфлях, он уселся в глубокое кресло и приготовился слушать. «Очень, очень рад, душа моя, – приветливо сказал он, – видеть вас и прослушать трагедию вашу. Садитесь сюда в кресло, но прежде надобно запереть дверь, чтобы нам не помешали». Он встал, закрыл дверь и снова погрузился в кресло. «Ну, теперь начните, но читайте не торопясь: у нас времени много». Крылов принялся громко читать стихи трагедии, исполненной неистовых страстей, но Иван Афанасьевич остановил его: «Лучше потише, душа моя, а то устанешь».
Увлеченный чтением, Крылов взволнованно произносил самые потрясающие тирады, переходил от бурной патетики к приглушенному шепоту. Заканчивая первый акт, он взглянул на Дмитревского. Иван Афанасьевич мирно и блаженно дремал в кресле. Перерыв в чтении его разбудил. Очнувшись, он любезно воскликнул: «Прекрасно! Прекрасно! Да, на каком мы действии остановились?» Крылов смутился и отложил рукопись. Но Дмитревский настоял на продолжении чтения. Кое-как смущенный автор добрался до конца. Дмитревский, время от времени снова задремывавший, встрепенулся и стал уверять Крылова, что его трагедия точно отменная и прекрасно написана, но что в ней есть, однако, некоторые недостатки. Стихи слишком пылкие и звучат как деревянные, следует сделать их полегче. Да и в действии много несообразного. Главное же, не дай бог, ежели кому-нибудь придет в голову сравнить нашу просвещенную государыню с этой любострастной египетской царицей. Тогда не миновать беды. Лучше трагедию припрятать, да подалее, заключил Иван Афанасьевич.
– «Старики потому так любят давать хорошие советы, как говорил Ларошфуко, что они уже не могут подавать дурные примеры», – добавил он, извиняющимся тоном.
Подавленный, расстроенный разговором, Крылов молча попрощался.
Прошло несколько недель, и он с жаром принялся за сочинение новой трагедии. Сидел допоздна при тусклом свете свечи, бормоча себе что-то под нос, иногда во весь голос читал какие-то стихи. Новая трагедия – «Филомела» – была вскоре закончена.
В ней передавался миф о Филомеле, ставшей жертвой насилия фракийского царя Терея, который отрезал ей язык, чтобы она не могла рассказать о его преступлении. Жена Терея – Прогнея, узнав про зверское насилие Терея над ее сестрой, в исступлении убивает сына и его телом угощает отца. Против жестокого деспота и тирана восстают не только его близкие, но и народ. Терей закалывается. Особенно удавшимся Крылов считал предсмертный монолог Терея:
Мой сын! твой вопль в своем я сердце познаю,
Он сердце томно рвет и грудь мою терзает,
Хладеет кровь моя, мутится, замерзает.
Тираны! наконец отмщенье вы нашли —
И злобою мои злодейства превзошли…
«Филомелу», однако, постигла участь «Клеопатры». Вежливый, доброжелательный Дмитревский безропотно взял рукопись, обещал прочесть ее через несколько дней. Крылов после этого не раз заходил к нему справляться. Иван Афанасьевич извинялся, обещал и снова нарушал свое обещание. Наконец он прочел пьесу. После многочисленных комплиментов и похвал Дмитревский стал разбирать сцену за сценой, указывая Крылову на его промахи или неудачные стихи. Замечания Ивана Афанасьевича отличались наблюдательностью, знанием театра, тонким, хотя и несколько старомодным вкусом.
Впоследствии, вспоминая о своей юношеской трагедии, Крылов говорил: «В молодости моей я все писал, что ни попало, была бы только бумага да чернила; я писал и трагедию; она напечатана была в „Российском Феатре“, в одном томе с „Вадимом“ Княжнина, с которым вместе и исчезла, да и рад тому: в ней ничего путного не было; это первые давнишние мои попытки» [8]8
«Филомела» была напечатана в «Российском Феатре» в 1793 году в одном томе с тираноборческой трагедией Я. Княжнина «Вадим Новгородский». Трагедия Княжнина вызвала гнев Екатерины II и была уничтожена. Вместе с «Вадимом» погибла и «Филомела».
[Закрыть].
«Нет, трагедия не мое дело! Больше я за нее не буду браться, – твердил про себя Крылов, возвращаясь от Дмитревского. – Комедия – вот мое призвание, вот над чем следует работать!» И он снова обратился к популярному тогда жанру комической оперы, с которого начал свой путь сочинителя. Он быстро написал комедию «Бешеная семья», веселую, задорную буффонаду в духе мольеровских фарсов с переодеваниями. Однако Крылов не ограничился желанием посмешить зрителей. В «Бешеной семье» зло высмеивались развращенность дворянского общества, его лицемерие.
Столица поразила юношу из провинции своей противоречивостью: великолепием зданий, изысканной роскошью гостиных, нарядными выездами и золочеными каретами, бьющей ключом театральной и литературной жизнью – и в то же время дикостью и бедностью окраин, публичными казнями, полицейским произволом, всеобщей продажностью. Даже в литературе пробавлялось немало писателей, которые за милости или подарки мецената слагали в его честь хвалебные оды и мадригалы, торговали своими произведениями, как мануфактурой. Это особенно возмущало Крылова, и он написал новую комедию – «Сочинитель в прихожей».
Главной героиней комедии снова стала госпожа Новомодова. Но это была уже не прежняя провинциальная помещица, а столичная кокетка, пустая и развратная, ловко обиравшая любовников. Она завлекает в свои сети легкомысленного графа Дубового и лишь из-за чистой случайности в последний момент терпит неудачу. Крылов в своей новой комедии далеко ушел от смешной буффонады «Бешеной семьи». Его сатира приобрела резкую, обличительную направленность. Особенно зло высмеял он низкопоклонного «сочинителя», который за подачку взбалмошной барыньки готов сочинять стишки в честь ее собачки. На вопрос Новомодовой, «в каком роде сочинений» он «упражняется», Рифмохват отвечает: «ваше сиятельство, я пишу похвальные стихи».
Новомодова: А, сударь, не можете ли вы потрудиться в похвальных стихах…
Рифмохват: С превеличайшею охотою, скажите только достоинство того, кому хотите, чтобы я сделал стихи.
Новомодова: Моей собачке.
Рифмохват: И, сударыня, вместо собачки, я лучше вам сделаю!
Новомодова: Вы можете описать собачкину красоту, достоинства, резвость, ласковость…
И Рифмохват, желая подслужиться к богатой барыне, сочиняет стихи в честь ее собачонки:
Прекрасна красота, краса красот прекрасных,
Собранье прелестей открытых, зрелых, ясных.
Комедия удалась. Это была комедия русских нравов, свободная от подражания иноземным образцам. Однако напечатана она была в «Российском Феатре» лишь через восемь лет, в 1794 году.