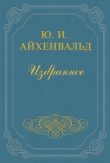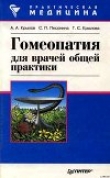Текст книги "Крылов"
Автор книги: Николай Степанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
«Беседа»
На политическом горизонте сгущались зловещие тучи. В столицу доходили тревожные вести о завоевательных замыслах Наполеона, готовившегося напасть на Россию. Его союз с Пруссией и Австрией, захват герцогства Ольденбургского, наследницей которого являлась сестра Александра I, усиливали напряжение, создавали непосредственную угрозу войны. В этой обстановке в самых различных кругах русского общества росли патриотические настроения, тревога за судьбы страны.
Образование «Беседы любителей русского слова» явилось откликом на эти настроения. Поборники старины использовали патриотический подъем для усиления своего влияния.
Один из современников, рассказывая о возникновении «Беседы», писал: «Обстоятельства чрезвычайно благоприятствовали ее учреждению и началам. Мудрено объяснить состояние умов тогда в России и ее столицах. По вкоренившейся привычке не переставали почитать Запад наставником, образцом и кумиром своим; но на нем тихо и явственно собиралась страшная буря, грозящая нам истреблением или порабощением… Пристрастие к Европе приметно начало слабеть и готово было превратиться в нечто враждебное. Воспрянувшее в разных состояниях чувство патриотизма подействовало, наконец, на высшее общество: знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский…»
В число членов «Беседы» входили почти все посетители вечеров Шишкова и Державина: Крылов, А. Хвостов, князь Д. Горчаков, князь С. Шихматов, граф Д. Хвостов, А. Оленин, Ф. Львов, князь А. Голицын, князь А. Шаховской, П. Карабанов, А. Писарев. Кроме членов-сотрудников, имелись в «Беседе» еще и почетные члены – церковные иерархи, крупные сановники и несколько писателей – Озеров, Капнист, актер Дмитревский, поэтесса девица Бунина.
Николай Иванович Гнедич с самого начала отнесся отрицательно к новой затее, не одобряя чиновный и славяно-российский характер создавшегося общества. «Это старая Российская академия, переходящая в новое строение! – насмешливо говорил он Ивану Андреевичу. – Уже куплен и орган и поставлен на хорах, уже и стулья расставлены, где кому сидеть, и для вас есть стул; только вы не будете сначала понимать языка господ членов. Чтобы не прийти вам в конфузию, предуведомляю вас, что слово проза называется у них – говор, билет – значок, номер – число, швейцар – вестник. В зале Беседы будут публичные чтения, где будут „совокупляться знатные особы обоего пола“, как сказано в уставе!» Иван Андреевич весело рассмеялся. «Ничего, бог не выдаст – свинья не съест!» – добавил он.
Для собраний Державин предоставил великолепную залу в своем доме на Фонтанке. Зала была украшена желтыми под мрамор колоннами и казалась еще больше и наряднее от яркого освещения. Заседания «Беседы» открылись 14 марта 1811 года торжественным публичным собранием. Как сообщает протокол этого заседания:
«Сего 14 марта пополудни в 8 часов в общем собрании гг. членов, попечителей разрядов, почетных членов и пред посетителями обоего пола особ открылась в первый раз „Беседа любителей русского слова“. Член и секретарь 1-го и должностного разряда г. Кикин начал заседание чтением письма от министра народного просвещения Его Сиятельства графа Алексея Кирилловича Разумовского к должностному 1-го разряда председателю Его Превосходительству Александру Семеновичу Шишкову от 17 февраля 811 года о Высочайшем утверждении Беседы и объявлении Его императорского величества благоволения за сие полезное учреждение; после которого тот же секретарь прочел извещение о намерениях Беседы и приглашение всех трудящихся в словесности соучаствовать ей. Потом должностной председатель г. Шишков читал речь, сочиненную им на сей случай, о пользе языка и словесности; член Беседы г. Политковский читал стихи члена Беседы князя Горчакова под названием „Бессмертие“ и окончено тремя баснями – „Огородник и Философ“, „Гуси“, „Осел и Соловей“ – члена Беседы г. Крылова, читанные им самим».
«Беседа» напоминала собой не столько литературное общество, сколько государственное учреждение. Она разделялась на четыре разряда, каждый из которых имел своего председателя и своего попечителя. Председателями являлись: Шишков, Державин, А. С. Хвостов и Захаров. Попечителями: министры – граф Завадовский, Мордвинов, граф Разумовский, Дмитриев.
Помимо членов, на заседаниях присутствовали многочисленные гости. Вот как описывает заседания «Беседы» Ф. Ф. Вигель: «В зале, ярко освещенной, как во храме бога света, зимой бывали вечерние торжественные собрания Беседы. Члены вокруг столов занимали середину, там же расставлены были кресла для почетнейших гостей, а вдоль стен в три уступа хорошо устроены были седалища для прочих посетителей, по билетам впускаемых. Чтоб придать сим собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, штатс-дамьг в портретах [14]14
Миниатюрные портреты лиц царствующей фамилии, носившиеся наподобие орденов.
[Закрыть], вельможи и генералы были в лентах и звездах и все вообще в мундирах. Часть театральная, декорационная была совершенство; заправлял ею, кажется, сам Шаховской. Чтение обыкновенно продолжалось более трех часов и как содержанием, так и слогом статей отнюдь не отвечало наружному убранству великой храмины. Дамы и светские люди, которые ровно ничего не понимали, не показывали, а может быть, и не чувствовали скуки: они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали сие с примерным самоотвержением».
Главной приманкой для публики были басни Крылова, которые он читал с обычным своим искусством. Как же оказался баснописец в этом чопорном обществе, что связывало его с прочими участниками «Беседы»? Человек прошлого века, он чувствовал себя чужим среди людей нового поколения. Ему нужна была опора и защита. Принадлежность к «Беседе» служила своего рода прикрытием, давала возможность «вполоткрыта» говорить то, о чем он думал. Да и патриотические выступления «беседчиков», их отрицательное отношение к светской «галломании», приверженность к русской речи и ее истокам оказались близки Крылову, давнему противнику галломании. Однако он не был заодно с ними, презирал напыщенную и лживую демагогию их разговоров о народе, ходульную риторику их произведений. Про себя он подсмеивался над их ухищрениями. Это чувствовали и современники, с опасливым подозрением относившиеся к едкой иронии баснописца. Давний знакомец его Вигель писал в своих воспоминаниях: «Крылов, хотя и выдал свою особу „Беседе“, но, говорят, тайком подсмеивался над нею».
Другой знакомый Крылова, один из участников «Беседы», М. Лобанов, поведал нам и об эпизоде, наглядно рисующем отношение баснописца к собраниям «Беседы». На одном из очередных заседаний, рассказывает Лобанов, «приготовляясь к публичному чтению, просили его прочитать одну из его новых басен, которые тогда были лакомым блюдом всякого литературного пира и угощения. Он обещал, но на предварительное чтение не явился, а приехал в Беседу во время самого чтения и довольно поздно. Читали какую-то чрезвычайно длинную пьесу; он сел за стол. Председатель отделения А. С. Хвостов, сидевший против него за столом, вполголоса спрашивает у него: „Иван Андреевич, что, привезли?“ – „Привез“. – „Пожалуйте мне“. – „Вот ужо, после“. – Длилось чтение, публика утомилась, начинали скучать, зевота овладела многими. Наконец дочитана пьеса. Тогда Иван Андреевич руку в карман, вытащил измятый листочек и начал: „Демьянова уха“. Содержание, басни удивительным образом соответствовало обстоятельствам, и приноровление было так ловко, так кстати, что публика громким хохотом от всей души наградила автора за басню, которою он отплатил за скуку ее и развеселил ее прелестью своего рассказа».
Заключительная мораль басни весьма недвусмысленно адресована была к «писателю»:
Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь;
Но если помолчать вовремя не умеешь,
И ближнего ушей ты не жалеешь:
То ведай, что твои и проза и стихи
Тошнее будут всем Демьяновой ухи.
«Беседа» стала вскоре оплотом отживших мнений, литературной реакции, барьером против проникновения новых идей, новых художественных принципов. Попытки «славянороссов» и прежде всего их вдохновителя адмирала Шишкова задержать развитие литературы встретили дружное сопротивление молодого поколения поэтов и писателей, едко высмеивавших «Беседу» и «беседчиков» в шуточных поэмах и эпиграммах. Одной из первых сатирических стрел, направленных в лагерь «Беседы», была «баллада» Батюшкова «Певец в Беседе славянороссов», появившаяся в 1813 году. Она сразу же распространилась в многочисленных списках. Пользуясь формой и размером нашумевшей поэмы Жуковского «Певец во стане русских воинов», Батюшков создал злую сатиру, направленную против «Беседы» и ее участников. Его Певец провозглашает тост, который явился откровенной издевкой над «беседчиками»:
Сей кубок чадам древних лет.
Вам слава, наши деды!
Друзья! Почто покойных нет
Певцов среди Беседы?
Их вирши сгнили в кладовых,
Иль съедены мышами,
Иль продают на рынке в них
Салакушку с сельдями.
Но дух отцов воскрес в сынах!
Мы все для славы дышим!
Давно здесь в прозе и стихах,
Как Тредьяковский, пишем.
Гнедич показал список этих стихов Крылову, и Иван Андреевич громко смеялся, размахивая короткими руками и даже притопывая ногой от удовольствия. Они находились в гостиной Оленина, который хотя и входил в число членов «Беседы», но не разделял воинственных взглядов адмирала. Алексей Николаевич являлся поклонником античности, восхищался русской стариной, но стремился не отстать от века. Он был начитан в немецкой литературе, хорошо знал труды Винкельмана, мечтал о воскрешении русской старины не с топорной прямолинейностью Шишкова, а в новых формах, воспринявших пластическую красоту античности. Оленин высоко ценил Гнедича, Батюшкова, Озерова, видя в их творчестве осуществление своих идеалов, старался поддержать их и помочь в житейских делах. Иван Андреевич был откровенен с ним, охотно выслушивал советы маленького человечка, живого и быстрого как ртуть. Прослушав «Певца» Батюшкова, он не удержался и прочел новую басенку о «Беседе» – «Вельможа и философ». Под вельможею подразумевался Оленин, который неоднократно выражал свое возмущение бесплодием и схоластикой «беседчиков»:
Вельможа, в праздный час толкуя с Мудрецом
О том, о сем,
«Скажи мне, – говорит, – ты свет довольно знаешь,
И будто книгу разбираешь:
Как это, что мы ни начнем,
Суды ли, общества ль учены заведем,
Ну не успеем оглянуться,
Как первые невежи тут вотрутся?
Неужли уж от них совсем лекарства нет?» —
«Не думаю, – сказал Мудрец в ответ, —
И с обществами та ж судьба (сказать меж нами),
Как с деревянными домами». —
«Как?» – «Так же: я вот свой достроил сими днями;
Хозяева еще в него не вобрались,
А уж сверчки давно в нем завелись».
Иван Андреевич не обманывался в том обществе, которое его окружало. Он сохранил свое по-мужицки отрицательное отношение к аристократам, кичащимся своим происхождением, ведущим паразитическое существование за счет народа. На чинном и торжественном заседании «Беседы» Крылов как-то прочел с душевным удовольствием злую, насмешливую басню про гусей:
Предлинной хворостиной
Мужик Гусей гнал в город продавать;
И, правду истинну сказать,
Не очень вежливо честил свой гурт гусиной…
Гуси жалуются прохожему на то, что мужик ими помыкает, не смысля того, что они не простые гуси, а потомки тех гусей, которые когда-то спасли древний Рим. Однако прохожий дает достойную отповедь чванливым и глупым гусям:
– «А вы хотите быть за что отличены?» —
Спросил прохожий их. – «Да наши предки…» – «Знаю,
И все читал; но ведать я желаю,
Вы сколько пользы принесли?»
– «Да наши предки Рим спасли!»
– «Все так, да вы что сделали такое?»
– «Мы? Ничего!» – «Так что ж и доброго в вас есть?
Оставьте предков вы в покое:
Им поделом была и честь;
А вы, друзья, лишь годны на жаркое».
Крылов не побоялся выступить против чванных аристократических гусей, которые находились перед ним. Заключил он свою басню простодушно-лукавым признанием:
Баснь эту можно бы и боле пояснить,
Да чтоб гусей не раздразнить.
Гуси тут же сидели надувшись, блестя брильянтами, орденами. Они не пожелали признать себя в персонажах крыловской басни, но втихомолку ворчали, что сюжет, избранный баснописцем, неприличен, а самая басня мужицкая, грубая. «Ну, что это за татарское просторечие: „Предлинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать“. Хворостина, гнал, гурт гусиной – так только мужики разговаривают…» – перешептывались важные господа и дамы, сидевшие в мягких, удобных креслах. «А что за варварские звуки: „гу-гн-г-гу-гу“ – так только гуси гогочут, а пиит должен писать стихи, полные благозвучия!»
«Квартет»
Все были недовольны. Дворяне и военные – разговорами о реформах, Сперанским, дружбой с Францией во главе с «узурпатором», захватившим власть законного короля. Купечество и ремесленный люд – блокадой, при помощи которой Наполеон пытался подорвать могущество Англии. Крестьяне – все возраставшими оброками и поборами. Слухи о конституции будоражили столичные салоны, вызывали негодование среди аристократии. Император желал снять с себя часть ответственности, не уступая полноты власти. Было решено создать орган, который, имея некую видимость власти, служил бы ширмой, отвлекал бы недовольство на себя. Создан был Государственный совет, ставший как бы первым, пробным шагом к конституции. Собственно, кадры этого нового учреждения уже сложились в департаментах и канцеляриях министерств, и реформа имела лишь внешний, формально-бюрократический характер. Тем не менее открытие Государственного совета было обставлено с большой торжественностью.
В девять часов утра 1 января 1810 года к собравшимся в зале Сената членам Государственного совета прибыл Александр I и обратился с речью, сочиненной Сперанским и собственноручно выправленной императором. Император долго говорил о значении Государственного совета, бытие коего «отныне станет на чреде установлений непременных и к самому существу империи принадлежащих». Однако за этими пышными фразами не скрывалось никакого конкретного содержания. По окончании речи император повелел Сперанскому, назначенному на пост государственного секретаря, прочитать манифест и список председателей департаментов.
Образование Государственного совета сопровождалось переменами в составе высших правительственных лиц, управлявших департаментами. Граф Аракчеев, назначенный председателем департамента дел военных, был уволен от звания военного министра. Председателем департамента государственной экономии назначен граф Мордвинов, министром юстиции – Иван Иванович Дмитриев, вместо князя Лопухина, занявшего должность председателя департамента гражданских и духовных дел. Министр народного просвещения граф Завадовский, назначенный председателем департамента законов Совета, был заменен графом Разумовским. Последовали и другие перемещения.
В обществе эти новшества встречены были с большим скептицизмом. Сперанского обвиняли в том, что он попирал священные традиции, называли агентом Наполеона. В салоне Олениных злобствующий Филипп Филиппович Вигель, знавший Сперанского по службе, ехидно бурчал: «Близ него мне все казалось, что я слышу серный запах и в голубых очах его вижу синеватое пламя подземного мира». В общем нововведение не было популярно. А главное – перетасовка министров и заведующих департаментами, во что фактически и вылилась новая «реформа», ничего не давала. Государственные дела оставались в столь же неопределенно-туманном положении: назревал конфликт с французами, торговля замирала, подати и оброки неумолимо росли. Четыре департамента Государственного совета оказались бессмысленным бюрократическим мероприятием. Образовалась лишь еще большая путаница в делах и неясность в правах и обязанностях вновь назначенных начальников департаментов.
А. Н. Оленин, ставший заместителем председателя одного из департаментов, рассказывал о продолжительных прениях по поводу того, как рассадить членов Совета, и даже о нескольких последовавших за этим передвижениях. Поэтому все сразу же прекрасно поняли злободневный смысл новой басни «Квартет», которую Крылов как ни в чем не бывало прочел на одном из оленинских вечеров.
Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет… —
с невинным видом читал Иван Андреевич. Он комично изобразил, как вертлявая Мартышка рассаживала музыкантов – и все же квартет не шел на лад! Все рассмеялись, когда Иван Андреевич укоризненно произнес заключительные слова Соловья:
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, —
Им отвечает Соловей:
„А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь“».
Слушатели даже узнали в крыловских зверюшках председателей департаментов. В Медведе узнали грубого Аракчеева, в Мартышке – энергичного Мордвинова, в Осле – недалекого Завадовского. Иван Андреевич отнекивался и не отвечал на вопросы, обращенные к нему, говоря, что он никого не имел в виду, писал лишь о зверях, а совсем не о столь важных особах. Но ему никто не верил, да и сам баснописец тихонько посмеивался.
Придраться было невозможно. А басня запоминалась, ее передавали из уст в уста, ей смеялись.
Оленины привязались к Ивану Андреевичу, как к родному. Добрейшая Елизавета Марковна, похожая на круглый мячик, с вечным чепчиком на голове, хлопотливо заботилась о нем, подкладывала за ужином лучший кусочек. Алексей Николаевич был с ним прост и благодушен. В Крылове он видел народного самородка, редкий чисто русский талант, за которым, как он считал, нужен повседневный уход да и хозяйский глаз – не натворил бы чего!
Сам Иван Андреевич не противился тому мирному, спокойному течению, которое приняла теперь его жизнь. Но даже в радушном доме Олениных он чувствовал себя одиноким, далеким от всегда праздничной, оживленной атмосферы их гостиной, нарядно обставленной бронзой, фарфором, украшенной картинами и коврами. Свободно он чувствовал себя только с одним человеком – Николаем Ивановичем Гнедичем, с которым мог говорить по душам, ничего не утаивая.
Николай Иванович нравился ему откровенностью, душевным благородством, увлеченностью раз избранным делом. Подвиг, совершаемый Гнедичем, – перевод «Илиады», воодушевлял поэта, вселял в него силу и прилежание. Крылов навестил Гнедича в его скромной квартирке. Николай Иванович имел слабость – он любил читать друзьям свои стихи или произведения, ему нравившиеся.
Не успел Иван Андреевич удобно усесться в кресле, как хозяин стал горячо доказывать ему величие произведений Шекспира. Выхватив из шкафа шекспировы сочинения во французском переводе, он начал декламировать сцену из «Гамлета», в которой Гамлет беседует с привидением. Гнедич представлял попеременно то самого Гамлета, то тень его отца с такими странными телодвижениями и таким напряжением, что ласкавшаяся к Крылову собака Мальвина бросилась под диван и начала прежалобно выть.
Николай Иванович понемногу успокоился и принялся доказывать преимущества древнеславянского языка, богатство которого можно сравнить лишь с греческим. Разговор перешел на современное положение вещей. Гнедич сказал, что среди его сослуживцев по департаменту есть передовые, свободомыслящие люди, которые занимаются литературой и входят в Вольное общество любителей наук и художеств, существующее уже несколько лет. Все они ненавидят деспотизм и тиранию. Разгорячившись, Николай Иванович даже прочел Крылову монолог вольнолюбивого Перуанца из своего стихотворения «Перуанец к Испанцу»:
Рушитель милой мне отчизны и свободы,
О ты, что, посмеясь святым правам природы,
Злодейств неслыханных земле пример явил,
Всего священного навек меня лишил!
Доколе, в варварствах не зная истощенья,
Ты будешь вымышлять мне новые мученья?
Властитель и тиран моих плачевных дней!
Кто право дал тебе над жизнию моей?
Закон? какой закон? Одной рукой природы
Ты сотворен, и я, и всей земли народы.
Но ты сильней меня; а я – за то ль, что слаб,
За то ль, что черен я, – и должен быть твой раб?
Погибни же сей мир, в котором беспрестанно
Невинность попрана, злодейство увенчанно:
Где слабость есть порок, а сила – все права!
Где поседевшая в злодействах голова
Бессильного гнетет, невинность поражает
И кровь их на себе порфирой прикрывает!
Изуродованное лицо Гнедича побледнело и стало почти красивым. Он долго читал, словно бросая вызов тиранам, громко выделяя каждое слово стиха. Мечта о вольности, ненависть Перуанца к своему поработителю наполняли страстным напряжением его голос:
А! Се язык их душ, предвестник тех часов,
Когда должна потечь тиранов наших кровь!
Наконец в изнеможении он опустился на стул. Стихи звучали как обвинение, как вызов тиранам. Крылов долго молчал. Стихи Гнедича ему были близки и глубоко взволновали. Таким и он сам был в молодости! Ведь Гнедичу двадцать два года, а ему почти вдвое больше. Нет, сам он уже не в силах выступать с поднятым забралом. Иван Андреевич пожал Гнедичу руку. Его оружие – сатира. Он будет бороться «вполоткрыта». Он станет современным Эзопом. И Крылов прочел Гнедичу басню «Волк и Ягненок». Ведь перед властью тирана, перед жестокостью и вероломством неумолимого хищника все они беспомощные ягнята, которые не могут настоять на своем праве, на справедливости:
У сильного всегда бессильный виноват!