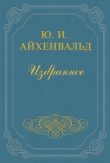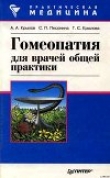Текст книги "Крылов"
Автор книги: Николай Степанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
«Ворона и Лисица»
Ивана Андреевича пригласил на обед граф Дмитрий Иванович Хвостов. Среди молодых насмешников граф Хвостов слыл под непочтительным прозвищем – Хлыстов или Свистов. Его стихи доставляли неизменную пищу для острот, их читали как образец бездарности. Граф Хвостов, казалось, нарочно был создан для пародий и насмешек. В нем все было ненастоящее, начиная с его графства. Дмитрий Иванович женился на племяннице генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Суворов выхлопотал для него у сардинского короля несуществующее сардинское графство. При Павле I он был назначен обер-прокурором Святейшего синода, а Александр сделал его сенатором. Дмитрий Иванович был весьма высокого мнения о своих литературных талантах и, подобно Горацию, воспевшему Бандузский ключ, горделиво называл себя «певцом Кубры» – речки, протекавшей в его поместье. Граф писал во всех родах и жанрах, но прежде всего ценил свои басни, хотя именно басни давали особенно много пищи для насмешников и зоилов. Его даже называли «отцом зубастых голубей», как однажды он написал в своей басне. К басням Крылова граф относился скептически, считая их мужицкими и недостаточно нравственными. Однако он побаивался острого языка Ивана Андреевича и считал за лучшее сохранять с ним дружеские отношения.
Граф любезно встретил Крылова, пришедшего вместе с приятелем Окладниковым. Сухонький, с острым носиком, в напудренном паричке, суетливый и в то же время преисполненный важности, Дмитрий Иванович радушно повел гостей в свой кабинет. «Садитесь, господа, я прочту вам свои новые произведения!» – «Нет, не сядем, – отвечали гости, – пока не ссудишь нас двумя стами рублей!» Дмитрий Иванович сокрушенно отнекивался. «Прощайте», – сказал Окладников и пригласил Крылова последовать его примеру. «Останьтесь, выслушайте, – уговаривал хозяин, устрашенный возможностью остаться без слушателей, – право, не будете раскаиваться!» – «Дай двести рублей, – настаивал Окладников, – останемся». – «Дам, но выслушайте наперед». – «Нет, братец, не проведешь: дай двести рублей, а там читай сколько тебе угодно». – «И вы останетесь у меня и будете слушать?» – недоверчиво воскликнул граф, изголодавшийся без слушателей. «Останемся и будем слушать!» – великодушно ответили гости. Деньги были отсчитаны, гости уселись поудобнее на диван, и хозяин начал свое чтение с басен.
«Щука и уда», – торжественно провозгласил пиит и с жаром начал читать басню о Щуке, проглотившей уду.
Щука уду проглотила;
От того в тоске была
И рвалася, и вопила.
Близ ее плотва жила;
Вопрошает Щуку:
«Мне, кума, поведай муку,
Рвет, которая тебя».
«Ненавижу я себя, —
Щука отвечает, —
Все меня здесь огорчает.
И в другую я реку
Плыть хочу прогнать тоску». —
«Ни с какою
Ты рекою,
Кумушка, покою
Век не можешь получить,
Хоть и в море станешь жить.
Если внутренность терзает,
Счастье исчезает;
Нас тревожит каждый час
Совести немолчный глас».
Иван Андреевич благосклонно качал головой, насмешливо ухмыляясь про себя. Басня была нелепая и смешная. «Знатно написана!» – одобрил он фабулиста. За этой басней последовала следующая, за нею еще одна. Граф все более и. более одушевлялся и в порыве творческого восторга уже не замечал слушателей. Он делал выразительные жесты рукою, возвышал и приглушал голос. Окладников не выдержал и исчез. Иван Андреевич мирно дремал, когда чтец, наконец, заметил произведенное им опустошение. «Не правда ли, друзья, – произнес стихотворец, прервав свое чтение, – этот стих поистине гениален!» Не слыша ответа, граф оглядел комнату и увидел лишь спокойно дремлющего в кресле Крылова.
Примирившись с утратой одного из слушателей, граф завел разговор о басне вообще. Он считал себя выдающимся теоретиком в вопросах поэзии, так как перевел тяжеловесными стихами «Поэтическое искусство» Буало, эту своего рода библию классицизма.
«Баснь, – поучительно говорил Хвостов, – родилась от некоторого сражения между свободою мыслить и опасением, чтобы не раздражать. Счастливые природные умы, – здесь граф сделал ударение, так как под счастливыми умами подразумевал самого себя, – избегают свирепости тиранства, усыпляют страсти вельмож, не подвергаясь их несправедливости. Под забавным вымыслом укрывают огорчительные по себе наставления и восприемлют свое владычество, делая вид, будто его оставляют». Граф остановился, чтобы перевести дух после столь длинной и витиеватой тирады. Иван Андреевич, притулившись в кресле, спокойно дремал. Удовлетворенный покорным и внимательным слушателем, граф распространился о нравственном и назидательном назначении басни, которая под видом бессловесных животных или неодушевленных вещей изображает наши пороки, слабости или предрассудки и тем самым служит нашему наставлению.
Подкупленный молчанием собеседника, граф признался Крылову, что из всех баснописцев он более всего уважает покойного Александра Петровича Сумарокова, притчи которого ценил и его близкий родственник по жене – Александр Васильевич Суворов. Дмитрий Иванович даже прочел одну из басенок Сумарокова – про Ворону и Лису:
И птицы держатся людского ремесла:
Ворона сыру кус когда-то унесла
И на дуб села.
Села,
Да только лишь еще ни крошечки не ела.
Увидела Лиса во рту у ней кусок,
И думает она: «Я дам Вороне сок.
Хотя туда не вспряну,
Кусочек этот я достану,
Дуб сколько ни высок».
«Здорово, – говорит лисица, —
Дружок Воронушка, названая сестрица!
Прекрасная ты птица!
Какие ноженьки, какой носок,
И можно то сказать тебе без лицемерья,
Что паче всех ты мер, мой светик, хороша;
И попугай ничто перед тобой, душа;
Прекраснее сто крат твои павлиньи перья.
Нелестны похвалы приятно нам терпеть.
О если бы еще умела ты и петь!
Так не было б тебе подобной птицы в мире!»
Ворона горлышко разинула пошире,
Чтоб быти соловьем,
«А сыру, – думает, – и после я поем:
В сию минуту мне здесь дело не о пире».
Разинула уста
И дождалась поста:
Чуть видит лишь конец лисицына хвоста.
Хотела петь – не пела,
Хотела есть – не ела,
Причина та тому, что сыру больше нет:
Сыр выпал из роту Лисице на обед.
Иван Андреевич проснулся и слушал. Когда чтец, слегка ослабев от долгого чтения и разговора, остановился и замолчал, Крылов скромно попросил хозяина разрешить ему прочесть эту же басню, но в своем переводе. Граф не весьма охотно согласился. Иван Андреевич приподнялся и со свойственным ему искусством прочел:
Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит,
И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать – так, право, сказки!
Какие перышки, какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!..»
Даже напыщенный граф понял, насколько лучше эта басня вышла у Крылова, который сумел передать и лукавую иронию, и красоту, и выразительность русской речи, ее свободу, богатство красок и интонаций. Дмитрий Иванович почувствовал себя слегка сконфуженным. Разговор как-то сам собой прекратился, и хозяин пригласил гостя в гостиную. Иван Андреевич был вознагражден. Обед оказался хорош. Поросенок под хреном оправдал все ожидания. Вина тоже были не плохи. В кармане сюртука приятно топорщилась графская сторублевка. Хозяин был гостеприимен и хлопотлив. Иван Андреевич благосклонно улыбался и подкладывал себе на тарелку лакомые куски поросенка.
На прощание ему вспомнились стихи о Хвостове Батюшкова из «Певца в Беседе славянороссов». Он повторил их про себя, не решаясь обидеть хозяина:
Хвала, читателей тиран,
Хвостов неистощимый,
Стихи твои, как барабан,
Для слуха нестерпимы.
Везде с стихами, тут и там,
Везде ты волком рыщешь,
Пускаешь притчу в тыл врагам,
Стихами в уши свищешь.
Лишь за поэму – прочь идут,
За оду – засыпают,
Ты за посланье – все бегут
И уши затыкают.
Лисица унесла кусочек сыра.
Приютино
В восемнадцати верстах от Петербурга, вблизи Парголова, находилось небольшое именьице Олениных – Приютино. Оно служило местом летнего отдыха всей семьи, охотно посещавшимся столичными друзьями и знакомыми. Там постоянно бывали поэты, писатели, художники: Гнедич, Крылов, Жуковский, Батюшков, А. И. Тургенев, О. Кипренский. Крылов же и Гнедич гостили в летние месяцы подолгу. Для них отводились даже специальные помещения.
Приютино славилось живописными местами. Пруд, перед которым на пригорке стоял небольшой барский дом. Сад с аккуратными дорожками и изобилием цветов. Любительницей цветов была сама хозяйка Елизавета Марковна – Элиз, как ее называли домашние и близкие друзья. В саду разбросаны небольшие флигеля, избушки для приезжих гостей. Крылову отводилась старая банька, перестроенная в домик. Около пруда в тени деревьев находился мавзолей из белого мрамора, построенный в память сына Олениных Николая Алексеевича, павшего в Бородинском сражении. Сад переходил в дубовые рощи, за ними дальше тянулся сосновый лес.
Старшая дочь Олениных, Варвара Алексеевна, впоследствии вспоминала: «В известном многим Приютине жизнь текла тихая, мирная, аккуратная, простая, деревенская – и казалось по образу жизни – верст за 500 от Петербурга. По вечерам обществом гуляли за грибами, черникой, костяникой и др., потом брусникой. Все ходили, кроме батюшки и Крылова. Вечером собирались и читали. Был издан закон, кто уже слишком много глупого скажет, того тотчас заставить прочесть басню Хвостова: а смысл этой басни прочесть в предыдущей басне. Все было весело, радушно, довольно, дружно, просто, свободно, а между тем sans de dignité [17]17
Без чинов (франц.).
[Закрыть], играли в разные игры, как-то: лапта, горелки, жгуты, la balle [18]18
Мяч (франц.).
[Закрыть]и прочее: в кольца, в мячики, в волан. И не находили, que ce n’st ni ennuieux, ni mesquin, ni ridicule [19]19
Это ни скучным, ни пошлым, ни смешным (франц.).
[Закрыть].
В один вечер батюшка и матушка, будучи уже весьма за шестьдесят лет, заметили, что игры что-то невесело шли; вдруг, как никто не ожидал, пустились наши два старичка бежать как два шарика. Натурально все оживилось. Вот и жизнь Приютина».
В Приютине, в баньке, Крылов чувствовал себя как дома. Его друзьями были и староста Гаврила и старушка огородница Василиса, приносившая каждый день по пучочку моркови. С утра начиналось чаепитие – утренний чай подавался на веранде барского дома. Чай заваривали из листьев черной смородины и к нему подавали пшеничные булочки, сливки, творог. Правда, Иван Андреевич частенько просыпал утренний чай, и тогда к нему посылали Вареньку: ей поручалось будить его и звать к столу. Он ласково шутил с нею и заявлял, что встанет только тогда, когда она прочтет наизусть одну из его басен. Варенька с хохотом читала:
Вороне где-то бог послал кусочек сыру…
Потом они с шутками и смехом вдвоем спешили на веранду.
«Матушка Елизавета Марковна, – вспоминала Варвара Алексеевна, – любила Крылова совершенно чувством матери и часто звала „милый Крылочка“, что не очень гармонировало с его большой и тучной наружностью. Он же часто говаривал, что он ее любил и почитал, как матерь свою, так что она этим чувством воспользовалась и в Приютине запирала его над баней дни на два, носила сама с прислугой ему кушанье и держала его там, покуда он басни две или три не написал».
Среди семейства Олениных он был спокоен, весел, приветлив, хотя, как обычно, молчалив, стараясь отмолчаться от споров и разговоров. В присутствии же посторонних для него людей он становился еще более несловоохотливым, в особенности же терпеть не мог, когда ему казалось, что за ним наблюдают.
Иван Андреевич привязался к дочерям Оленина – Вареньке и Аннете, называя их своими «фавориточками». Он даже написал для Вареньки стихи в альбом, хотя тут же признался, что терпеть не может альбомов, и умолял ее никогда больше их не заводить. «И. А. Крылов, – рассказывает В. А. Оленина, – мне, двенадцатилетней, написал стихи, „попрекавшей ему, что он никогда ни строчки мне не написал“»:
Вот вам мои стихи:
Не кушайте ухи,
А что-нибудь другое,
Пожалуй, хоть жаркое.
Я гнусь пред вами, как дуга,
И вам покорный я слуга.
И. Крылов
Вот как писали девчонкам в наше время. Однако я обиделась на то, что Крылов мне сказал: «Ах! фавориточка, фавориточка, да подумайте, какие же могу стихи я вам писать иные?»
Чтобы ее утешить, Батюшков, гостивший тогда в Приютине, взял альбом, в который записал Крылов свой экспромт, и сочинил преуморительные стишки на ломаном французском языке.
Константин Николаевич Батюшков был частым посетителем приютинских красот. Он с детства знал семью Олениных и находился в большой дружбе с Крыловым и Гнедичем. Он описал Приютино и его обитателей в дружеском послании к Александру Ивановичу Тургеневу, приглашая его побывать вместе с ним в этом гостеприимном уголке.
Есть дача за Невой,
Верст двадцать от столицы,
У Выборгской границы,
Близ Парголы крутой;
Есть дача или мыза,
Приют для добрых душ,
Где добрая Элиза
И с ней почтенный муж,
С открытою душою
И с лаской на устах,
За трапезой простою
На бархатных лугах,
Без дальнего наряда
В свой маленький приют
Друзей из Петрограда
На праздник сельский ждут…
Поэт, лентяй, счастливец
И тонкий философ,
Мечтает там Крылов
Под тению березы
О басенных зверях
И рвет парнасски розы
В Приютинских лесах.
И Гнедич там мечтает
О греческих богах,
Меж тем как замечает
Кипренский лица их
И кистию чудесной,
С беспечностью прелестной,
Вандиков ученик,
В один крылатый миг
Он пишет их портреты…
Стихотворение с восторгом читали в Приютине. Оно стало своего рода приютинским гимном, и все знали его наизусть.
Каждый год 5 сентября в Приютине торжественно праздновался день именин Елизаветы Марковны. В этот день сюда съезжались многочисленные гости. Для празднества готовился специальный спектакль, который и разыгрывался в небольшом домашнем театре самими гостями и членами семьи Олениных. Руководил этими постановками обычно Гнедич как знаток и любитель театра. Особенно великолепным и многолюдным было празднование в 1815 году, впервые после окончания войны; Николай Иванович с помощью Крылова сочинил специальную комедию. Была даже выпущена афиша.
Главные роли в этой комедии исполняли сам Гнедич, игравший бездарного виршеплета Ивана Сидоровича Стихоплеткина, и Крылов, который выступал в роли тамбовского откупщика Дубинина. Остальные роли исполнялись детьми Олениных и постоянными жителями приютинского имения. В афише фамилии исполнителей обозначены были прозвищами, рисующими их характеры. Так, Крылов назван «г. Леньтягиновым», а Гнедич – «г. Приютиным», Варенька – «Ленивиной», а Аннета – «Догадкиной».
Сюжет пьесы был не сложен. Богатый провинциальный откупщик Дубинин заказывает на именины своей супруги поздравительные стихи бездарному рифмоплету Стихоплеткину.
Стихоплеткин принимает заказ и обещает в срок изготовить вирши, хотя еще раньше он обещал одному купцу написать стихи к его свадьбе да знакомый стихотворец Хлыстов (прозрачный намек на графа Хвостова) тоже просил приискать для него рифмы. Ни один из заказов не поспевает в срок, тем более что откупщик поспешил прислать стихотворцу две бутылки вина. После долгих пререканий Стихоплеткин сбывает, наконец, откупщику Дубинину какие-то старые, незаконченные стишки и благополучно от него отделывается.
О Стихоплеткине в самом начале пьесы смешно рассказывала его супруга Матрена Саввична: «Либо пишет кому-нибудь в Гостином дворе салютации, либо в конфектной лавке билетцы. Ох, уж эти мне проклятые стихи! Наказание божие человеку, если у кого страсть к этим виршам так одолеет, как моего мужа она одолела, погибельная! Недоспит, недоест, несет ложку в рот да и остановит; сидит, разиня рот и выпуча глаза, словно лунатик!»
Едкой пародией на творения графа Хвостова, бывшего излюбленной мишенью для насмешек приютинского общества, являлся монолог сынка поэта Хлыстова, развязного и наглого юнца, рассуждающего о том, что Эзоп писал басни прозою, а его папенька стихами: «В изобретении же папенька, конечно, превзошел Эзопа, в этом уверен и я, и вы, и сам папенька. Папенька создал новый мир, папенька населил его новыми тварями, у папеньки горлицы с зубами, собаки с рогами, животные, если нужно, изменяют свой образ: например, помните ли, Иван Сидорович, притчу „Корова и Липка“, когда корова лезет на макушку липки, чтобы спрятаться от дождя, и вдруг слезает назад быком!»
Особенно хорош был Крылов в роли толстого, необразованного и тщеславного откупщика Дубинина. Иван Андреевич создал выразительный портрет, необыкновенно живой и комический, самодовольного, невежественного богатея. Актерская натура его сказалась здесь с особенной очевидностью.
Благодарные зрители без конца хлопали артистам. В заключение дан был «дивертисмент», в котором Варенька и Аннета мило танцевали русскую, а затем по проволоке спускался подрумяненный свекольным соком маленький мальчик, сын бывшей воспитанницы Олениной, изображавший амура с золочеными крылышками.
«Несравненная пастушка»
В гостеприимном и радушном доме Олениных имелось еще одно милое и чарующее существо – Аннета Фурман. Она рано потеряла мать, а ее отец – выходец из Саксонии Фридрих Антонович Фурман – женился вторично. Маленькую Аннету взяла на воспитание бабушка, а после ее смерти девочка попала под крыло добрейшей Елизаветы Марковны. Аннета выросла и воспиталась в семье Олениных наряду с их дочерьми. Теперь она превратилась в красивую девушку с правильными чертами лица, голубыми прозрачными глазами и золотистыми локонами. Она была неизменно со всеми мила, услужлива, чуть-чуть кокетлива. За ней ухаживали. Нежно и застенчиво в нее был влюблен Батюшков. Он посвятил ей томные и грустные стихи – «Мой гений», в которых воспевал голубые очи и золотые локоны «пастушки несравненной». Пастушка была мила с ним, но холодна. Говорили даже, что эта неразделенная любовь стала причиной меланхолии поэта, перешедшей впоследствии в душевную болезнь.
Следующим претендентом на руку Аннеты явился Николай Иванович Гнедич, который, убедившись в безнадежности страсти к Катеньке Семеновой, сделал официальное предложение золотокудрой пастушке. Но Аннета отказала и новому искателю. Ее пугали изуродованное лицо и суровая важность переводчика «Илиады». Прельстился прекрасной пастушкой и Иван Андреевич. Он стал тщательнее бриться, причесываться, сделался разговорчивее и любезнее. Всегда небрежно одетый, он приоделся, завел тонкое белье из голландского полотна. Иван Андреевич, однако, скоро понял, что и ему не улыбнется счастье у прекрасной пастушки. Анкета была к нему внимательна и благосклонна; он шутил с ней, как с ребенком, приносил сладости. Она дарила его дружбой, но баснописец был более чем вдвое старше, и она не захотела связать с ним свою судьбу.
В 1820 году старый Фурман вызвал дочь в Дерпт, где в это время проживал, для того, чтобы она воспитывала его младших детей. Это был удар и для Аннеты и для Ивана Андреевича. Аннета давно отвыкла от отца. Да и участь воспитательницы своих сводных сестер не была заманчивой. Уезжала она со слезами. Через год старый Фурман перебрался в Ревель. Жизнь Аннеты у отца оказалась настолько печальной, что она приняла, хотя и без особенной радости, предложение состоятельного местного коммерсанта Оома и вышла за него замуж. К несчастью, господин Оом вскоре же после брака разорился, и бедной Аннете пришлось пожертвовать скромным приданым для удовлетворения ненасытных кредиторов.
Иван Андреевич вместе с А. Н. Олениным приезжал в 1824 году в Ревель и навестил бедняжку. Это было его первым и последним путешествием. Труд но ему оказалось расстаться с установившимися привычками, ехать на пироскафе, переносить дорожные неудобства и качку.
Аннета с мужем перебралась снова в Петербург под покровительство Олениных. Бремя семьи теперь пало на ее нежные плечи. Оома Алексей Николаевич устроил на службу в Академию художеств, а Аннета давала уроки русского языка в немецком пансионе госпожи Гельмерсен. Но во время наводнения 1824 года вода залила их квартиру, и господин Оом простудился и вскоре умер. Аннету – теперь ее называли Анной Федоровной – устроили воспитательницей в Сиротском институте. Ее достоинства были оценены императрицей Марией Федоровной: госпожу Оом назначили директрисой института и дали ей там небольшую квартирку. Иван Андреевич остался по-прежнему предан прекрасной пастушке. Он навещал ее на новой квартире, даже подарил мебель красного дерева для убранства гостиной.
Незадолго до смерти неудачливого господина Оома Анна Федоровна родила сына, крестным отцом его стал Иван Андреевич. Крылов нередко просиживал вечера в ее уютной гостиной с огромными изразцовыми печами, сложенными еще при императрице Елизавете Петровне. Анна Федоровна занималась рукоделием, в котором была великая искусница, а Иван Андреевич играл с маленьким крестником.
Дома неуютная, вечно неприбранная квартира, неряшливая, надутая Феничка. На службе в библиотеке жизнь неподвижная, словно застывшая в больших прохладных залах между огромными шкафами с тысячами книг. Милая суматоха, привычный покой и веселая болтовня в доме Олениных. Но ему хотелось другого: сердечного тепла, женского обаяния, внимательно-ласкового взгляда, неуловимого пожатия руки. У Анны Федоровны были по-прежнему золотые волосы и небесно-голубые глаза, но она стала озабоченной, одевалась в темно-серые платья строгого фасона, всегда куда-то спешила, или ее вызывали по делу. Он любил смотреть, как в свободные часы ловко и быстро двигались ее изящные, словно выточенные пальцы, вышивая цветистые шелковые узоры, как отсвечивали на солнце ее волосы.
Потом он долго прощался, задерживая маленькую тонкую ручку в своей тяжелой, мясистой ладони. Медленно спускался по лестнице и задумчиво шагал грузными ногами на стрелку Васильевского острова. Если по дороге нагонял извозчик, он его подзывал, долго с ним торговался, давая двугривенный вместо испрашиваемых тридцати копеек, и, не сторговавшись, продолжал путь пешком. У величественного здания Биржи, напоминавшего античный Форум, Иван Андреевич встречал знакомых, любителей полакомиться заморскими устрицами, которые привозили сюда купеческие суда. На стрелке шла бойкая торговля привозными товарами, сновали английские, голландские, французские моряки и купцы. Тут же открывали бочки со свежими устрицами и пенящимся черным английским портером. Иван Андреевич с аппетитом проглатывал несколько десятков холодных, скользящих устриц, запивая их портером из большой глиняной кружки. Узнавал от знакомых новости, а затем, так же не спеша, направлялся домой, к библиотеке через Адмиралтейский мост по Невскому проспекту. Дома он облачался в старый, засаленный халат и ложился на продавленный диван подремать часок-другой.
Перед вечером, отдохнув, он с тяжелым кряхтеньем одевался и отправлялся в Английский клуб или к Олениным. В Английском клубе у него было свое, давно облюбованное место у стены, неподалеку от голландской печки. В клубе он или играл по маленькой в карты, или держал заклады при занимательной и острой бильярдной игре. Любил он также играть в триктрак, старинную французскую игру восточного происхождения, в которой шашки двигались по шашечной доске в зависимости от брошенных костей с очками. В триктрак он играл со своим неизменным партнером – генерал-аудитором флота Михаилом Сергеевичем Шулепниковым, с которым был знаком еще с давних времен. Они долго, словно прицеливаясь, сжимали в кулаке кости и затем быстро со стуком выбрасывали их на стол. Это были последние знатоки триктрака. После смерти Шулепникова триктрак в Английском клубе прекратился.
Завсегдатаи Английского клуба давно привыкли видеть в послеобеденные часы громоздкую фигуру Крылова с большой, тяжелой головою. Он сидел молча, прикрыв глаза тяжелыми веками, и, казалось, дремал. Однако он все слышал, что говорилось вокруг него, и внимательно наблюдал за окружающими, иногда подавая свои реплики, делая резкие, насмешливые замечания.
Однажды, вспоминали его соклубники, приезжий помещик, любивший прилгать, рассказывая о стерлядях, которые ловятся на Волге, неосторожно увеличил их размер. «Раз, – сказал он, – перед самым моим домом мои люди вытащили стерлядь. Вы не поверите, но уверяю вас, длина ее вот отсюда… до…». Помещик, не договоря своей фразы, протянул руку с одного конца длинного стола по направлению к другому, где сидел Иван Андреевич. Тогда Иван Андреевич, хватаясь за стул, сказал: «Позвольте, я отодвинусь, чтоб пропустить вашу стерлядь!»
Чаще же всего он проводил вечера у Олениных. Оленины жили в собственном особняке с колоннами у входа, поддерживавшими балкон второго этажа, на Фонтанке, близ Семеновского моста. От Публичной библиотеки до их дома было недалеко. Там всегда было шумно, весело, людно. Миниатюрный Алексей Николаевич не стеснял своих гостей. Он любил, чтобы у него все чувствовали себя свободно. Елизавета Марковна наблюдала за всеобщим весельем, заботилась о сытном и вкусном ужине. Располневшая и вечно чем-то больная – нервы! – она возлежала на мягкой кушетке, принимая тем не менее самое горячее участие в возникавших спорах и разговорах.
У Олениных устраивались для молодежи игры – в фанты, шарады – и танцы.
Дочери Варенька и Аннета составляли главный магнит, притягивавший молодежь. Варенька, правда, вскоре вышла замуж за своего дальнего родственника и однофамильца Григория Никаноровича Оленина и уехала с ним в Ревель. Младшая же, Анна Алексеевна, славилась изяществом и чудесными, маленькими ножками. Пылкий Пушкин увлекся ею и сделал ей предложение. Аннета любила поэтов, она даже сама втайне писала роман из своей жизни. Но предложение поэта она отвергла: Пушкин легкомысленный и злой насмешник! К тому же без состояния.
Ивана Андреевича привычно встречали у Оленина, как родного. Он садился в привычное кресло, закуривал свою вечную сигарку и внимательно прислушивался к разговору. Оживлялся он за ужином: в особенности если приготовлялся поросенок под хреном. Это было его любимое кушанье. Елизавета Марковна сама следила, чтобы Ивану Андреевичу подавался лучший кусочек, чтобы ее «Крылочка», как она на правах давнего знакомства и материнской опеки его называла, не остался голоден.
Алексей Николаевич, подобно маленькому волшебнику, управлял беседой. Своей крохотной ручкой он останавливал слишком вольные суждения, давал ход разговору, указывал его направление. Он был великим искусником по части уловления настроений в политических сферах и всегда очень ловко приспосабливался к ним. Он посвящен был в тайны высшей политики: в течение ряда лет он занимал должность государственного секретаря, был членом Государственного совета, сенатором, человеком, близким ко двору.