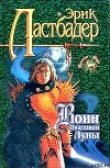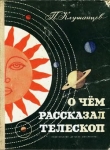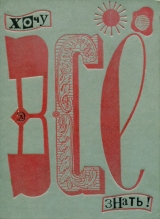
Текст книги "Хочу все знать 1970"
Автор книги: Николай Сладков
Соавторы: Борис Ляпунов,Евгений Брандис,Александр Кондратов,Павел Клушанцев,Алексей Антрушин,Тамара Шафрановская,Регина Ксенофонтова,Петр Капица,Анатолий Томилин,Александр Муранов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
На помощь железнодорожникам пришла автоматика. На многих горках управление стрелками стало централизованным и находится теперь в руках одного человека – оператора.
На том же самом пульте, где имеются рукоятки для управления замедлителями, располагаются кнопки для автоматического перевода стрелок. Нажимает оператор кнопки на пульте управления – и идёт команда умным и точным приборам – реле.
Реле – их сотни – установлены в специальных шкафах – стативах и являются основой всей автоматической системы. Они подключают ток к электрическим моторам, переводящим стрелки, проверяют, свободны ли они от предыдущего «бегуна». Реле устанавливают и порядок перевода стрелок: подошёл к одной из них вагон, двигающийся на определённый путь, стрелка встанет в нужное положение, а для следующего «бегуна» при необходимости она вернётся в прежнее. А если оператор будет подряд нажимать кнопки с номерами путей, куда должны «бежать» вагоны, автоматическая система «запоминает» очерёдность нажатия. Тогда вагон за вагоном начнёт катиться на свои пути, а стрелки переводятся по заданной программе.
Будут ли решены все вопросы, если уйдут с путей и стрелочники, и башмачники, – представители опасных и тяжёлых профессий? Ведь их труд взвалят на свои могучие плечи машины, механизмы и автоматы. Но только ли они?
«ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
И машинами, и механизмами, и автоматами нужно управлять. Управляют ими люди. Это они нажимают кнопки, поворачивают рукоятки на пультах, следят за показаниями контрольных лампочек, сигнализирующих, правильно ли выполнили заданную команду все приборы и механизмы. Это они заменили десятки и сотни ранее работавших железнодорожников. И хотя сидят эти люди в чистых и светлых комнатах, со строгими табличками на дверях «посторонним вход воспрещён», и не льёт на них дождь, и не сбивает их с ног шквалистый ветер, – работа у них тяжёлая. С введением автоматических систем, требующих управления, резко возросло нервное напряжение, утомляемость тех, кто ими управляет, тем более, что железнодорожный транспорт работает всё интенсивнее.
Есть у железнодорожников такая специальность – диспетчер. Диспетчер – это организатор движения. Нужны они и на автобазе, и в цехе, и даже на футбольном поле, где они, как пишется в отчётах о матчах, «дирижируют» атаками футболистов. Но если «футбольный диспетчер» – должность неофициальная, то на железнодорожном транспорте диспетчер, руководящий движением поездов на многокилометровом участке стальных магистралей, – одна из самых важных должностей, и без него не обойтись. По его приказу отправляются в путь поезда, останавливаются на одной из станций «на обгон»: ждут на боковом пути, пока по другому мчится обгоняющий поезд. Диспетчер должен знать свой участок наизусть.
Теперь на многих участках он руководит движением с помощью автоматической системы – «диспетчерской централизации»: переводит стрелки, зажигает огни светофоров, следит за движением поездов – один выполняет ту работу, которую на десятках станций недавно делали стрелочники и дежурные. А поездов участок стал пропускать больше. Это понятно: раньше диспетчер отдавал приказание и ждал его выполнения. Теперь – нет. Принял решение, нажал кнопку – приказ автоматике, и вот через несколько секунд на пульте загорается одна из сигнальных ламп: приказ выполнен.
Но работать диспетчеру стало тяжелее. Его нагрузка возросла, и решения он должен принимать быстро: поезда не будут ждать. А как знать: правильное ли и лучшее ли решение принято? Вот тогда у диспетчера и появился автоматический помощник – «автодиспетчер», построенный на базе быстродействующих электронно-вычислительных машин. «Автодиспетчер», в память которого заложены все возможные решения, мгновенно перебирает их и принимает нужное. А оператор на горке: это ведь тоже диспетчер, руководящий сортировкой вагонов. И его нагрузка тоже возросла. Нужно включать замедлители, отдавать команды автоматической системе на перевод стрелок. Бегут и бегут с горки вагоны. В сутки – несколько тысяч. Один горочный оператор не успевал всё делать сам. Приходилось ему помогать. Сначала это делали его помощники – люди, а затем их заменила автоматика.
ТЕЛЕГРАММА БЕЗ СЛОВ
Оказывается, железнодорожники не только применили спортивную терминологию к вагонам, назвав их «бегунами». Они ещё ввели для «бегунов» весовую классификацию, примерно такую, какая имеется в спорте для борцов, боксёров и штангистов.
Легкоатлеты, к которым относятся и бегуны, как известно, делятся не по весовым категориям, а по расстояниям бега: спринтеры – на короткие дистанции, стайеры – на длинные. У «бегунов»-вагонов – дистанция бега одна: вершина горки – пути. Вот тут-то и отличие от спорта. По спортивной классификации раз вагоны – «бегуны», то они явно должны быть отнесены к разряду легкоатлетов. Но железнодорожники причислили этих «бегунов» к тяжелоатлетам, поделив их на 4 весовые категории: лёгкую, лёгко-среднюю, среднюю и, наконец, – тяжёлую.
Для чего нужно такое деление? Чтобы для каждой из этих категорий установить определённую силу нажатия «клещей» – замедлителя, так как управлять ими стала автоматика. Эта автоматическая установка регулирует скорость «бега» и интервал между вагонами. Раньше за вагонами следил оператор и его помощники. Внимательно смотрели они за тем, как катятся вагоны, не давая одному догнать бегущего впереди и прорваться на чужой путь, и в зависимости от скорости бега определяли силу торможения замедлителя. Но ведь они видели, как бежит вагон. А автомат? Он тоже видит? Да, видит, но по-своему. Слышали вы что-нибудь о радиолокаторах – радарах?
Во время войны радары оказали большую помощь при обнаружении вражеских самолётов.
Невидимый луч высокочастотных электромагнитных колебаний, посылаемый радиолокатором, натолкнувшись на препятствие, отражается от него и возвращается обратно, и на экране приёмника появляется точка. Начал работать радар и на сортировочной горке.
Передатчик посылает луч высокочастотных колебаний навстречу вагону. Луч возвращается в приёмник автоматической установки, но уже с другой частотой колебаний. Основываясь на разности колебаний, счётное устройство точно высчитывает скорость. Для каждой весовой категории она устанавливается определённая.
Если у вагона скорость та, какая нужна, – замедлитель отпускает его – пожалуйста, кати себе дальше, а если превышает норму, замедлитель задерживает вагон, пока не снизится скорость.
Но ведь нужно установить, к какой весовой категории относится «бегун»?
Ясно, что для этого, как полагается, «спортсмена» надо взвесить. Его и взвешивают. Прямо на «бегу». Для этого сразу за горбом горки устраивается весовой участок.

При прохождении вагона по весомеру в зависимости от категории, к которой относится вагон, замыкаются определённые контакты, и электрические импульсы попадают в счётное устройство, а оно уже даёт команду замедлителям.
Появилось ещё одно автоматическое устройство. Его назначение – освободить оператора от необходимости перевода стрелок для выбора нужного пути вагонов. Получив телеграмму о подходе поезда, в технической конторе станции составляют программу сортировки, зашифровывают её, и телеграфный аппарат – «телетайп» – передаёт программу на горочный пост.
Полученную телеграмму нужно расшифровать. Вид у такой телеграммы-шифровки необычный: на картонном бланке длинные колонки цифр и вместо некоторых из них отверстия. Называется такая телеграмма – перфокарта. Её вкладывают в «считывающее устройство». Только оно и может прочесть это необычное послание и, расшифровав его, передать распоряжение автоматике на перевод стрелок.
На автоматизированных горках (пока их немного) сортировка идёт без участия оператора: всю работу выполняет автоматика, а оператор лишь следит за её действиями. И контроль за выполнением роспуска также возложен на автоматику. Автоматическая установка следит за правильной работой своего собрата-автомата, руководящего сортировкой, а в конце роспуска оператор получает точную информацию: все ли вагоны пришли к намеченной цели.
На очереди – применение электронно-счётных машин, которые будут мгновенно составлять программу роспуска, телеуправление горочным локомотивом, позволяющее прямо с горочного поста автоматически регулировать скорость надвига состава на вершину горки. И коль речь идёт о горках, то можно с уверенностью сказать, что не за горами то время, когда автоматы и счётно-решающие машины возьмут на себя всю сложную работу по сортировке вагонов.
Но контролировать их работу, давать им задание будет по-прежнему – человек.
СТРАНИЦЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО

А. Новиков
«КАКАЯ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ…»
(Ленин о литературе и искусстве)
Однажды в годы первой русской революции Ленин, нелегально приехавший в Россию, ночевал на квартире у одного профессионального революционера, где было много книг о великих художниках мира. Наутро Ленин сказал Луначарскому: «Какая увлекательная область история искусства. Сколько здесь работы для коммуниста. Вчера до утра не мог заснуть, всё рассматривал одну книгу за другой. И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством».

Но хотя Ленин действительно специально не смог заняться историей и теорией искусства, горячий интерес к этой области человеческой деятельности проходит через всю его жизнь. И если собрать воедино всё, что написано и сказано Лениным по вопросам литературы и искусства – оценки десятков писателей и литературных образов, мысли о месте искусства в жизни общества – то перед нами развернётся настоящая энциклопедия знаний и чувств.
Перелистаем некоторые её страницы, и мы глубже поймём и почувствуем сложные явления и законы увлекательной области – искусства, неотделимого от всей жизни человеческого общества.
Всё связано в мире. В год, когда родился Ленин, в далёком от Симбирска Париже умер Александр Иванович Герцен. Факел русской революции подобно эстафете переходил от одного поколения к другому.
В России 1870 год – это не только новые заводы, не только крупнейшая стачка на бумагопрядильне в Петербурге, не только подготовка к изданию в Петербурге книги всей жизни Маркса «Капитал». В этом году выходит «История одного города» Салтыкова-Щедрина, одна за другой выходят книги – романы, повести, рассказы, пьесы – Льва Толстого, Островского, Гончарова, Глеба Успенского, Некрасова.
Группа молодых художников выступила против устаревших канонов, против холодной пышности и далёких от жизни библейских сюжетов. В 1870 году Крамской, Репин, Суриков, Перов, Васнецов образовали своё товарищество передвижных выставок. На полотнах появилась русская жизнь без всяких прикрас, «могучая и бессильная, убогая и обильная».
В 1870 году в сибирском каторжном остроге томился Чернышевский.
По бесконечным российским дорогам из деревни в деревню шли с книжками Некрасова и Успенского вчерашние студенты, пытаясь объяснить крестьянам причины их бедной и неустроенной жизни. Из города в город пересылались листовки и брошюры, призывавшие народ к борьбе, сотни людей читали и перечитывали журнал «Отечественные записки» – единственный живой и смелый голос в самой России.
Стопки этого журнала, издававшегося Некрасовым и Салтыковым-Щедриным, лежали на столах деревянного дома в Симбирске. Точно так же как и новые романы Толстого, Тургенева, Гончарова.
Ленин, родившийся в глубине России, с детских лет рос в атмосфере русского искусства – правдивого, требовательного, проникнутого настоящей любовью к людям.
Воспоминания близких людей позволяют представить это реально.
Книги Тургенева, Чехова, Некрасова, Успенского читались и обсуждались в доме Ульяновых. Необычайно сильное впечатление произвела на молодого Владимира Ульянова чеховская повесть «Палата № б». Сестра его, Анна Ильинична, так воспроизводит слова, сказанные им после прочтения повести: «Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение точно и я заперт в палате № 6».
Такая оценка была характерна для передовых молодых людей 80-х годов прошлого века: гнетущая реакция превращала царскую Россию в страну, где нечем было дышать мыслящему человеку.
Любовь к своей стране и ненависть к её угнетателям росли вместе.
В симбирском доме звучали старинные русские романсы, арии из оперы Верстовского «Аскольдова могила». Брат Владимира Ильича Дмитрий Ильич рассказывает о том, как они вместе дружно пели «Пловца» на слова Языкова: «Но туда выносят волны только сильного душой! Смело, братья! Бурей полный, прям и крепок парус мой».

Но из всех юношеских впечатлений об искусстве самое неизгладимое – от Чернышевского.
Один памятный разговор об этом запечатлели очевидцы. Было это в 1904 году, в Женеве. Недалеко от знаменитого озера, прямо напротив университета, в кафе «Ландольт», где обычно собирались русские эмигранты, январским вечером сидели четверо: Ленин, Гусев, Боровский. Был здесь и Валентинов, ставший впоследствии противником большевиков.
Говорили о книгах, каждая из которых, по старинной латинской поговорке, имеет свою судьбу.
Вспоминали о судьбе многих книг, которые, появившись на свет, потрясали людей, определяли жизненный путь целого поколения, а потом оказывались забытыми и пылились на библиотечных полках.
Когда вышла книга молодого Гёте «Страдания юного Вертера», то немецкие юноши в провинциальных городках конца XVIII века стремились подражать герою этой книги. Юный Вертер, не выдержав одиночества и безответной любви, ушёл из жизни. И к его вымышленной могиле шли со свечами в чёрных костюмах молодые люди. И так же, как Вертер, стрелялись юноши, разочаровавшись в жизни.
Вспомнили и романы французской писательницы Жорж Санд, волновавшие целые поколения в 30—40 годах прошлого века не только во Франции, но и в России. Её романы о гордых свободных людях, бросивших вызов своим семьям, светскому кругу знакомых, всему обществу, воспринимались как призыв к раскрепощению человека. Белинский назвал её «Жанной д'Арк» нашего времени. Прошло полвека, и забыты эти книги. Люди с интересом читают о самой Авроре Дюдеван, подруге Шопена, писавшей под псевдонимом Жорж Санд, но романы её – достояние давней истории.
И в этом ряду книг Валентинов опрометчиво назвал «Что делать?» Чернышевского. Ленин, сидевший задумчиво, вдруг резко повернулся, так, что скрипнули ножки стула.
«Отдаёте ли вы себе отчёт, что говорите?» – порывисто спросил он.
И он рассказал, какое влияние оказала эта книга на Александра Ульянова и на него.
«…Под её влиянием сотни людей сделались революционерами… Это вещь, которая даёт заряд на всю жизнь».
…Величайшая заслуга Чернышевского, – говорил увлечённо Ленин, – в том, что он показал в этом романе, каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как он должен идти к своей цели, какими способами и средствами добиваться её осуществления. Чернышевский заставил мыслить. От него шёл путь к Марксу, к его философии.
«…Больше всего я читал статьи, – рассказывал Ленин, – в своё время печатавшиеся в журналах „Современник“, „Отечественные записки“, „Вестник Европы“. …Моим любимейшим автором был Чернышевский. Всё напечатанное в „Современнике“ я прочитал до последней строки, и не один раз. От доски до доски были прочитаны великолепные очерки Чернышевского об эстетике, искусстве и литературе и выяснилась революционная фигура Белинского. Прочитаны были все статьи Чернышевского о крестьянском вопросе, его примечания к переводу политической экономии Милля, …и это оказалось хорошей подготовкой, чтобы позднее перейти к Марксу… Энциклопедичность знаний Чернышевского, яркость его революционных взглядов, беспощадный полемический талант – меня покорили.
…До знакомства с сочинениями Маркса, Энгельса, Плеханова – главное, подавляющее влияние имел на меня только Чернышевский…»
В годы сибирской ссылки и вынужденной эмиграции, когда каждый день Ленина – организатора партии большевиков – был до краёв заполнен работой над книгами и статьями, перепиской, встречами, интерес к искусству не отступал на задний план.
Крупская вспоминает, что в Шушенском рядом с томами Гегеля лежали томики Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Гейне, «Фауст» Гёте.
Владимир Ильич их перечитывал вновь и вновь.
В альбоме, лежавшем на столе деревянного дома в Шушенском, среди собранных Лениным карточек и портретов были фотографии Герцена, Чернышевского, Писарева, Эмиля Золя.
Литературные вкусы Ленина были разнообразны. Не только реалисты, но и романтики привлекали его интерес и внимание. Он с увлечением читал стихи Эмиля Верхарна и Виктора Гюго, в особенности стихи Гюго, написанные в эмиграции. Несмотря на некоторую напыщенность, риторичность, в них звучал неподдельный революционный пафос. Строки из горьковского «Буревестника» Ленин приводил в своей статье «Перед бурей» (1906 год).
Пятнадцать лет жизни в Западной Европе оторвали Ленина от русского театра, но каждый раз, когда приезжала какая-либо труппа и играла пьесы русских авторов, Ленин шёл на спектакль.
Крупская вспоминает, как напряжённо и взволнованно Владимир Ильич в 1915 году, в Швейцарии, следил за игрой артистов в «Живом трупе» Л. Толстого.
Спектакль, трагическая судьба Фёдора Протасова увлекли его. Он увидел здесь правду жизни. Об этом умении Льва Толстого «срывать всяческие маски» и показывать настоящую правду жизни Ленин много писал в своих статьях, посвящённых великому писателю земли русской.
Всякая же фальшь, неискренность, как в жизни, так и в искусстве, были совершенно нетерпимы Лениным.
Много раз он уходил после первого действия, если пьеса или игра актёров казались ему фальшивыми.
Так, уже после революции он не выдержал до конца на представлении «Сверчка на печи» Диккенса: спектакль был слезливый, сентиментальный.
Живя подолгу в эмиграции: в Швейцарии, Англии, Франции – Ленин неустанно изучал жизнь трудовых людей этих стран.
Ничто так не помогает приобщиться к жизни того или другого народа, понять его мысли, настроения, надежды, как искусство. Ленин любил ходить в маленькие театры парижских окраин, где шли нехитрые пьесы из жизни солдат и мастеровых; зрители-рабочие реагировали на всё очень непосредственно: криками негодования они встречали одного из действующих лиц – прижимистого хозяина, и вместе с героями – восставшими солдатами – под гром аплодисментов пели «Интернационал». Об авторе пролетарского гимна – Эжене Потье – Ленин написал для «Правды» специальную статью.
Часто вечерами Ленин слушал в кафе известного французского шансонье – певца Монтегюса, любимца парижских предместий. Его импровизированные песни рассказывали о быте рабочего люда, о грусти и веселье простых людей. Владимир Ильич чувствовал себя среди этих людей как среди близких.
Точно так же и в Лондоне.
А. М. Горький вспоминает, что, когда после заседаний съезда «выдался свободный вечер, пошли небольшой компанией в „мюзик-холл“ – демократический театрик». На его подмостках разыгрывались остроумные сценки, пародии, высмеивавшие различные стороны английской жизни.
Горький точно записал слова Ленина об эксцентрике как особой форме театрального искусства: «Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а – интересно!»
В годы вынужденной эмиграции Ленина никогда не оставляли мысли и тоска по родной стране и русскому искусству. «Без чего мы прямо тут голодаем, – писала Крупская из Швейцарии матери Владимира Ильича, – это без беллетристики… тут негде достать русской книжки… Иногда с завистью читаем объявление букинистов о 28 томах Успенского, 10 томах Пушкина».
Но вот позади годы сибирской ссылки, тягостной эмиграции.
Ленин – во главе Советского государства. В марте 1918 года правительство переезжает из петроградского Смольного в московский Кремль.
В один из первых дней после приезда в Москву, как вспоминал В. Д. Бонч-Бруевич, Ленин в потоке тысяч дел нашёл время познакомиться с новыми книгами – собиралась, как дом по кирпичику, кремлёвская библиотека. Среди них особое его внимание привлекли, казалось бы, совсем далёкие от бурных дней молодой республики книги – «Причитанья Северного края» и «Смоленский этнографический сборник». Ленин быстро и внимательно их просмотрел. Такая быстрота была непостижимой для окружающих.

Ленин не отрываясь читал русские старинные протяжные песни, звучавшие когда-то в далёких северных деревнях – маленьких островках посреди тёмно-зелёного моря архангельских лесов.
«Плачи завоенные, рекрутские и солдатские» – значилось на обложке.
Казалось бы, как услышать эти плачи из столетней дали, сквозь грохот орудий гражданской войны?
Но Ленин услышал их. Проник в их внутренний смысл.
По песням и плачам, говорил Владимир Ильич, следует изучать чаяния и ожидания народные.
Ленин прочитал тягостные и тоскливые, разрывающие сердце рекрутские песни аракчеевских времён – песни людей на четверть века, навсегда покидавших родные места.
А потом – песни, сложенные на Волге и на Дону. Тот же народ, говорил он, а совсем другие песни, полные удали и отваги: смелые действия, смелый образ мыслей, постоянная готовность на восстание. Что перерождало их? Ленин стремился в народных песнях найти объяснение, как и почему у людей в разное время, в разных условиях складываются определённые взгляды, мысли, настроения.
В эти же первые месяцы пребывания в Москве Ленин пишет коменданту Кремля: «Предлагаю в срочном порядке произвести реставрацию Владимирских ворот (кремлёвская башня, выходящая к Историческому музею)».
В этой короткой записке – та же обострённая забота о художественном творчестве народа, о сохранении его эстетических ценностей.
Этот интерес Ленина и его суждения не были случайными.
За этими фактами стояла продуманная теория. Действительно, первая в мире социалистическая революция совершилась ради полного освобождения трудящегося большинства народа, рабочих и крестьян от всех форм угнетения – политического, экономического, духовного.
То, что народ был в условиях царизма оторван от подлинной культуры, от высокого искусства, являлось формой его угнетения.
Толстой-художник, с горечью писал Ленин, известен ничтожному меньшинству в России. И действительно, четыре пятых населения страны были неграмотными.
Революция открыла миллионам людей путь к культуре и искусству. Но на этом пути возникли и новые препятствия. Некоторые теоретики высокомерно полагали, что неграмотным рабочим и крестьянам, подобно римской черни, нужны лишь хлеб и зрелища. Ленин решительно выступил против этого барского взгляда на народ.
Зрелища, говорил он, это не настоящее искусство, а лишь более или менее приятное развлечение. Рабочие не похожи на люмпен-пролетариев Рима – они не кормятся за счёт государства, а содержат сами своим трудом государство. Они приносят бесчисленные жертвы, защищая революцию. Наши рабочие и крестьяне, подчёркивал Ленин, заслуживают чего-то большего, чем зрелищ. Они получили право на настоящее великое искусство.
Были и другие – они признавали это право, но утверждали, что всё искусство прошлого буржуазно и потому чуждо пролетариату. Один из пролеткультовских поэтов даже писал: «Во имя нашего завтра сожжём Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусства цветы…» Рабочему классу, полагали эти теоретики, необходимо совершенно новое, не связанное с прошлым, чисто пролетарское искусство. И создавать его должна не зависимая от партии организация – «Пролеткульт».
Ленин и Коммунистическая партия решительно отвергли эти неверные теории. Ленин во многих своих выступлениях и статьях показал, что новая пролетарская культура не может быть выдумана, искусственно создана. Она должна быть развитием тех духовных и эстетических ценностей, которые создало и накопило человечество в прошлые века. Под видом же новой пролетарской культуры трудящимся навязывали скороспелые модные образцы.
Немецкая революционерка Клара Цеткин записала слова Ленина, сказанные им в беседе с ней: «Мы чересчур большие „ниспровергатели в живописи“. Красивое нужно сохранить, взять его как образец… даже если оно „старое“. Почему нам нужно отворачиваться от истинно-прекрасного… только на том основании, что оно „старо“? Почему надо преклоняться перед новым как перед богом… только потому, что „это ново“? …Здесь много лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе… Я же имею смелость заявить себя „варваром“. Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих „измов“ высшим проявлением художественного гения».
Будучи главой правительства, Ленин практически руководит строительством новой культуры, использующей лучшие достижения искусства прошлого.
Он разрабатывает план «монументальной пропаганды» – план сооружения памятников великим людям: революционерам, учёным, писателям. Вместе с наркомом просвещения Луначарским и художниками рассматривает проекты, спорит, проявляет горячую заинтересованность в том, чтобы на улицах и площадях городов навсегда были запечатлены образы революционеров и творцов культуры.
Особое внимание Ленин уделял изучению классической русской культуры. В стране не только было начато массовое наступление на неграмотность, открыты школы, курсы, кружки для взрослых, но одновременно в условиях разрухи и гражданской войны были изданы лучшие произведения русских поэтов и писателей. По указаниям Ленина лишь за один год – с мая 1918 по май 1919 года – было напечатано 115 названий русской классической литературы общим тиражом шесть миллионов томов. Это был настоящий культурный подвиг.
Среди необъятного потока дел Ленин находил время для того, чтобы разработать план улучшения работы библиотек, приехать в Художественное училище и поспорить с художниками о живописи и поэзии, определить, чем должны заниматься первые киностудии.
Истинное искусство в понимании Ленина было не забавой, не простым развлечением, а делом величайшей важности – средством познания жизни, средством сильнейшего воздействия на сердца и умы людей, источником радости и гордости за человеческие возможности.
Именно поэтому Ленин написал целый ряд статей о Льве Толстом. Он полагал, что без творчества Толстого нельзя понять историю России, по крайней мере за полвека. Из его произведений можно узнать о России больше, чем из целых библиотек книг экономистов, историков, статистиков. Толстой рассказал о том, как радовались, горевали, страдали, трудились миллионы русских людей. Глазами крестьян – самого многочисленного класса – он взглянул на российскую жизнь накануне революции 1905 года и оценил её.
Недаром одну из своих статей Ленин назвал «Лев Толстой как зеркало русской революции».
Литература и искусство могут отражать самое существенное в жизни, невидимое простым глазом.
Собирательные типы, созданные великими писателями, позволяют глубже понять многие сложные жизненные явления. В. И. Ленин часто обращался к образам великих писателей. Он, например, многократно называл бесплодных мечтателей, пассивных людей, не видящих и не знающих реальной жизни, строящих утопические планы, Маниловыми и Обломовыми.
Этот тип российской жизни в его самых причудливых разновидностях впервые увидели писатели. Таков Манилов в гоголевских «Мёртвых душах». Человек живёт в выдуманном мире. И изменения он проектирует мизерные, ничтожные, нереальные. «Хорошо бы… вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост… по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары…»
Манилов представлял себе, как они «вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество, где обворожают всех приятностью обращения и что будто бы государь… пожаловал их генералами…»
Тысячи маниловых жили в выдуманном мире, курили, пили чай, «философствовали». Своими слабыми и бесплодными мечтами они ни на йоту не изменили реальный мир. Точно так же существовали и гончаровские Обломовы. Лежали, мечтали, бездействовали. А жизнь шла мимо них.
Выступая в 1922 году перед металлистами, Ленин говорил: «Был такой тип русской жизни – Обломов. Он всё лежал на кровати и составлял планы. С тех пор прошло много времени. Россия проделала три революции, а всё же Обломовы остались, так как Обломов был не только помещик, а и крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий и коммунист. Достаточно посмотреть на нас, как заседаем, как мы работаем в комиссиях, чтобы сказать, что старый Обломов остался и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел».
Борьба против маниловщины и обломовщины – это борьба за трезвый взгляд на мир без всяких прикрас и без иллюзий.
«Надо мечтать», часто повторял Ленин слова Писарева, но мечта мечте рознь, пояснял он. Мечтания, оторванные от жизни, рождённые по произволу человека, не просто ошибочны. Они вредны, так как заслоняют реальный мир и сковывают деятельность человека.
И только трезвый материалистический взгляд на мир придавал Ленину и его соратникам убеждённость в своей правоте.
Многие наивные мечтатели искренне полагали, что сразу же после революции можно перейти к коммунизму.
Нет, говорил Ленин, прежде чем перейти к коммунистическому равенству, надо достичь высокого уровня производства. Кроме того – и это не менее важно – будущий строй предполагает не теперешнего обывателя, писал Ленин в 1917 году.
Какие же черты этого обывателя с беспощадной резкостью выделяются им?
«Способность» портить «зря» склады с общественным добром. «Готовность» каждый день требовать невозможного – автомобилей и трюфелей.
В этих чертах – вся сущность мещанского потребительского отношения к жизни, столь ненавистного Ленину. Его главные черты – это отсутствие творческого начала, уважения к людям и их труду. Мораль и психология временщика: будь что будет, лишь бы мне хорошо.
Ленин сравнивает такого бездумного обывателя с бурсаками Помяловского. Была у писателя 60-х годов прошлого века Помяловского страшная книга – о бурсе, то есть низшем духовном училище. Страшные нравы царили там. Грубость, жестокость, бессердечие и бессмысленность всей системы образования, наказания, воспитания формировали людей жестоких и злых. Надзиратели били учащихся, учащиеся – друг друга. Вырвавшись на волю на короткое время, они избивали невинных людей, портили и уничтожали сады, заборы, дома. Просто так. От внутренней своей пустоты. От озлобленности на весь мир. Так же и обыватель. Как бурсак, готов рубить лес, топтать цветы, загрязнять реки, поганить и ломать всё, что не принадлежит ему лично.